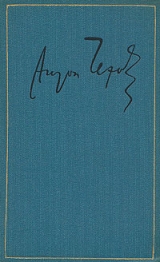
Текст книги "Том 3. Рассказы, юморески 1884-1885"
Автор книги: Антон Чехов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 37 страниц)
– Я не преступник, – обиделся Урбенин, – прошу вас быть в ваших выражениях поосторожнее…
– Замолчите, любезнейший! Некогда нам перед вами извиняться и выслушивать ваши неудовольствия… Не угодно вам сознаваться, так и не сознавайтесь, – только позвольте уж нам считать вас лгуном…
– Как вам угодно, – проворчал Урбенин, – вы можете проделывать теперь со мной, что вам угодно… ваша власть…
Урбенин махнул рукой и продолжал, глядя в окно:
– Мне, впрочем, всё равно: жизнь пропала.
– Послушайте, Петр Егорыч, – сказал я, – вчера и третьего дня вы были так убиты горем, что еле держались на ногах и едва выговаривали лаконические ответы; сегодня же, напротив, вы имеете такой цветущий, конечно, сравнительно, и веселый вид и даже пускаетесь в разглагольствования. Обыкновенно ведь горюющим людям не до разговоров, а вы мало того, что длинно разговариваете, но еще и высказываете мелочное неудовольствие. Чем объяснить такую резкую перемену?
– А вы чем объясняете ее? – спросил Урбенин, насмешливо щуря на меня глаза.
– Я это объясняю тем, что вы забыли свою роль. Трудно ведь долго актерствовать: или роль забудешь, или надоест…
– Это следовательское измышление, – усмехнулся Урбенин, – и оно делает честь вашей находчивости… Да, вы правы: перемена произошла во мне большая…
– Вы можете объяснить ее?
– Извольте, скрывать не нахожу нужным: вчера я был так убит и придавлен своим горем, что думал наложить на себя руки или… сойти с ума… но сегодня ночью я раздумался… мне пришла мысль, что смерть избавила Олю от развратной жизни, вырвала ее из грязных рук того шелопая, моего губителя; к смерти я не ревную: пусть Ольга лучше ей достается, чем графу; эта мысль повеселила меня и подкрепила; теперь уже в моей душе нет такой тяжести.
– Ловко придумано! – процедил сквозь зубы Полуградов, покачивая ногой. – За ответом в карман не лезет!
– Я чувствую, что я говорю искренно, и мне удивительно, что вы, образованные люди, не можете отличить искренности от притворства! Впрочем, предубеждение слишком сильное чувство, под влиянием его не ошибаться трудно; я понимаю ваше положение, воображаю, что будет, когда, поверив вашим уликам, станут меня судить… воображаю: возьмут во внимание мою зверскую физиономию, мое пьянство… у меня не зверская наружность, но предубеждение возьмет свое…
– Хорошо, хорошо, довольно, – сказал Полуградов, нагибаясь к бумагам, – ступайте…
По уходе Урбенина мы приступили к допросу графа. Его сиятельство пожаловал к допросу в халате и с уксусной повязкой на голове; познакомившись с Полуградовым, он развалился на кресле и стал давать показания:
– Я вам всё расскажу, с самого начала… Ну, что поделывает теперь ваш председатель Лионский? Всё еще не развелся с женой? Я с ним случайно в Петербурге познакомился… Господа, да что же вы не велите себе чего-нибудь подать? С коньяком как-то веселее и разговаривать… а что в этом убийстве виноват Урбенин, я не сомневаюсь…
И граф рассказал нам всё то, что уже знакомо читателю. По просьбе прокурора, он во всех подробностях рассказал свое житье с Ольгой и, описывая прелести житья с хорошенькой женщиной, так увлекся, что несколько раз причмокнул губами и подмигнул глазом. Из его показания я узнал одну очень важную подробность, которая неизвестна читателю. Я узнал, что Урбенин, живя в городе, беспрестанно бомбардировал графа письмами; в одних письмах он проклинал, в других умолял возвратить ему жену, обещая забыть все обиды и бесчестия; бедняга хватался за эти письма, как за соломинку.
Допросив двух-трех кучеров, товарищ прокурора плотно пообедал, прочел мне целую инструкцию и уехал. Перед отъездом он заходил во флигель, где содержался заключенный Урбенин, и объявил последнему, что наше подозрение в его виновности стало уверенностью. Урбенин махнул рукой и попросил позволения присутствовать на похоронах жены; последнее ему было разрешено.
Полуградов не лгал Урбенину: да, наше подозрение стало уверенностью, мы были убеждены, что нам известен преступник и что он уже в наших руках; но недолго сидела в нас эта уверенность!..
В одно прекрасное утро, когда я запечатывал пакет, чтобы отправить с ним Урбенина в город, в тюремный замок, я услышал страшный шум. Выглянув в окно, я увидел занимательное зрелище: десяток дюжих молодцов волокли из людской кухни одноглазого Кузьму.
Кузьма, бледный и растрепанный, упирался в землю ногами и, не имея возможности оборониться руками, бил своих врагов большой головой.
– Ваше благородие, пожалуйте туда! – сказал мне встревоженный Илья. – Не хочет идтить!
– Кто не хочет идти?
– Убивец.
– Какой убивец?
– Кузьма… он убил, ваше благородие… Петр Егорыч занапрасну терпит… ей-богу-с…
Я вышел на двор и направился к людской кухне, где Кузьма, вырвавшийся ужо из дюжих рук, рассыпал пощечины направо и налево…
– В чем дело? – спросил я, подойдя к толпе…
И мне рассказали нечто странное и неожиданное.
– Ваше благородие, Кузьма убил!
– Врут! – завопил Кузьма, – побей бог, врут!
– А зачем же ты, чёртов сын, кровь отмывал, ежели у тебя совесть чистая? Постой, их благородие всё разберут!
Объездчик Трифон, проезжая мимо реки, заметил, что Кузьма что-то старательно мыл. Трифон думал сначала, что тот стирает белье, но, вглядевшись, он увидел поддевку и жилетку. Ему показалось это странным: суконного не стирают.
– Что ты делаешь? – крикнул Трифон.
Кузьма смутился. Вглядевшись еще пристальнее, Трифон заметил на поддевке бурые пятна…
– Я сейчас же догадался, что это кровь… пошел на кухню и рассказал нашим; те подстерегли и видели, как он ночью сушил в саду поддевку. Ну, известно, испужались. Зачем ему мыть, ежели он не виноват? Стало быть, крива душа, коли прячется… Думали мы, думали и потащили его к вашему благородию… Его тащим, а он пятится и в глаза плюет. Зачем ему пятиться, ежели он не виноват?
Из дальнейшего допроса оказалось, что Кузьма перед самым убийством, в то время, когда граф с гостями сидел на опушке и пил чай, отправился в лес. В переноске Ольги он не участвовал, а стало быть, испачкаться в крови не мог.
Приведенный ко мне в комнату, Кузьма сначала не мог выговорить от волнения ни слова; вращая белком своего единственного глаза, он крестился и бормотал божбу…
– Ты успокойся, расскажи мне, и я тебя отпущу, – сказал я ему.
Кузьма повалился мне в ноги и, заикаясь, стал божиться…
– Чтобы мне сгинуть, ежели это я… Чтобы ни отцу, ни матери моей… Ваше благородие! Убей бог мою душу…
– Ты уходил в лес?
– Это правильно-с, я уходил… подавал господам коньяк и, извините, хлебнул малость; ударило мне в голову и захотелось полежать, пошел, лег и заснул… А кто убил и как, не знаю и ведать – не ведаю… Истинно вам говорю!
– А зачем ты отмывал кровь?
– Боялся, чтобы чего не подумали… чтобы в свидетели не забрали…
– А откуда на твоей поддевке взялась кровь?
– Не могу знать, ваше благородие.
– Как же не можешь знать? Ведь поддевка твоя?
– Это точно, что моя, но не могу знать: увидал кровь, когда уже был проснувшись.
– Так, стало быть, ты во сне запачкал поддевку в кровь?
– Точно так…
– Ну, ступай, братец, подумай… Ты несешь чепуху; подумай, завтра мне скажешь… Иди.
На другой день, когда я проснулся, мне доложили, что Кузьма желает со мной говорить. Я велел его привести.
– Надумал? – спросил я его.
– Точно так, – надумал…
– Откуда же у тебя на поддевке кровь?
– Я, вашескоблагородие, как во сне помню: припоминается что-то, как в тумане, а правда это или нет, не разберу.
– Что же тебе припоминается?
Кузьма поднял вверх свой глаз, подумал и сказал:
– Чудное… словно, как во сне или в тумане… Лежу я на траве пьяный и дремлю, не то я дремлю, не то совсем сплю… Только слышу, кто-то идет мимо и ногами сильно стучит… открываю глаз и вижу, словно как бы в беспамятстве или во сне: подходит ко мне какой-то барин, нагинается и вытирает руки о мои полы… вытер о полы, а потом рукой по жилетке мазнул… вот так.
– Какой же это барин?
– Не могу знать; помню только, что это был не мужик, а барин… в господском платье, а какой это барин, какое у него лицо, совсем не помню.
– Какого же цвета у него было платье?
– А кто его знает! Может, белое, а может, и черное… помнится только, что это был барин, а больше ничего не помню… Ах, да, вспомнил! Нагнувшись, они вытерли свои ручки и сказали: «Пьяная сволочь!»
– Это тебе снилось?
– Не знаю… может, и снилось… Только откуда же кровь взялась?
– Барин, которого ты видел, похож на Петра Егорыча?
– Словно как бы нет… а может быть, это и они были… Только они сволочью ругаться не станут.
– Ты припомни… ступай, посиди и припомни… может быть, вспомнишь как-нибудь.
– Слушаю.
Это неожиданное вторжение одноглазого Кузьмы в почти уже законченный роман произвело неосветимую путаницу. Я решительно потерялся и не знал, как понимать мне Кузьму: виновность свою он отрицал безусловно, да и предварительное следствие было против его виновности: убита была Ольга не из корыстных целей, покушения на ее честь, по мнению врачей, «вероятно, не было»; можно было разве допустить, что Кузьма убил и не воспользовался ни одною из этих целей только потому, что был сильно пьян и потерял соображение или же струсил, что не вязалось с обстановкой убийства?..
Но если Кузьма был не виноват, то почему же он не объяснял присутствия крови на его поддевке и к чему выдумывал сны и галлюцинации? К чему приплел он барина, которого он видел, слышал, но не помнит настолько, что забыл даже цвет его одежды?
Прилетал еще раз Полуградов.
– Вот видите-с! – сказал он. – Осмотри вы место преступления тотчас же, то, верьте, теперь всё было бы ясно, как на ладони! Допроси вы тотчас же всю прислугу, мы еще тогда бы знали, кто нес Ольгу Николаевну, а кто нет, а теперь мы не можем даже определить, на каком расстоянии от места происшествия лежал этот пьяница!
Часа два бился он с Кузьмой, но последний не сообщил ему ничего нового; сказал, что в полусне видел барина, что барин вытер о его полы руки и выбранил его «пьяной сволочью», но кто был этот барин, какие у него были лицо и одежда, он не сказал.
– Да ты сколько коньяку выпил?
– Я отпил полбутылки.
– Да то, может быть, был не коньяк?
– Нет-с, настоящий финь-шампань…
– Ах, ты даже и названия вин знаешь! – усмехнулся товарищ прокурора…
– Как не знать! Слава богу, при господах уж три десятка служим, пора научиться…
Товарищу прокурора для чего-то понадобилась очная ставка Кузьмы с Урбениным… Кузьма долго глядел на Урбенина, помотал головой и сказал:
– Нет, не помню… может быть, Петр Егорыч, а может, и не они… Кто его знает!
Полуградов махнул рукой и уехал, предоставив мне самому из двух убийц выбирать настоящего.
Следствие затянулось… Урбенин и Кузьма были заключены в арестантский дом, имевшийся в деревеньке, в которой находилась моя квартира. Бедный Петр Егорыч сильно пал духом; он осунулся, поседел и впал в религиозное настроение; раза два он присылал ко мне с просьбой прислать ему устав о наказаниях; очевидно, его интересовал размер предстоящего наказания.
– Как же мои дети-то будут? – спросил он меня в один из допросов. – Будь я одинок, ваша ошибка не причинила бы мне горя, но ведь мне нужно жить… жить для детей! Они погибнут без меня, да и я… не в состоянии с ними расстаться! Что вы со мной делаете?!
Когда стража стала говорить ему «ты» и когда раза два ему пришлось пройти пешком из моей деревни до города и обратно под стражей, на виду знакомого ему народа, он впал в отчаяние и стал нервничать.
– Это не юристы! – кричал он на весь арестантский дом, – это жестокие, бессердечные мальчишки, не щадящие ни людей, ни правды! Я знаю, почему я здесь сижу, знаю! Свалив на меня вину, они хотят скрыть настоящего виновника! Граф убил, а если не граф, то его наемник!
Когда ему стало известно о задержании Кузьмы, он на первых порах очень обрадовался.
– Вот и нашелся наемник! – сказал он мне, – вот и нашелся!
Но скоро, когда он увидел, что его не выпускают, и когда сообщили ему показание Кузьмы, он опять запечалился.
– Теперь я погиб, – говорил он, – окончательно погиб: чтоб выйти из заключения, этот кривой чёрт, Кузьма, рано или поздно назовет меня, скажет, что это я утирал свои руки о его полы. Но ведь видели же, что у меня руки были не вытерты!
Рано или поздно наши сомнения должны были разрешиться.
В конце ноября того же года, когда перед окнами моими кружились снежинки, а озеро глядело бесконечно белой пустыней, Кузьма пожелал меня видеть: он прислал ко мне сторожа сказать, что он «надумал». Я приказал привести его к себе.
– Я очень рад, что ты, наконец, надумал, – встретил я его, – пора уж бросить скрытничать и водить нас за нос, как малых ребят. Что же ты надумал?
Кузьма не отвечал; он стоял посреди моей комнаты и молча, не мигая глазами, глядел на меня… В глазах его светился испуг; да и сам он имел вид человека, сильно испуганного: он был бледен и дрожал, с лица его струился холодный пот.
– Ну, говори, что ты надумал? – повторил я.
– Такое, что чуднее и выдумать нельзя… – выговорил он. – Вчера я вспомнил, какой на том барине галстух был, а нынче ночью задумался и самое лицо вспомнил.
– Так кто же это был?
Кузьма болезненно усмехнулся и вытер со лба пот.
– Страшно сказать, ваше благородие, уж позвольте мне не говорить: больно чудно и удивительно, думается, что это мне снилось или причудилось…
– Но кто же тебе причудился?
– Нет, уж позвольте мне не говорить: если скажу, то засудите… Дозвольте мне подумать и завтра сказать… Боязно.
– Тьфу! – рассердился я. – Зачем же ты меня беспокоил, если не хочешь говорить? Зачем ты шел сюда?
– Думал, что скажу, а теперь вот страшно. Нет, ваше благородие, отпустите меня… лучше завтра скажу… Если я скажу, то вы так разгневаетесь, что мне пуще Сибири достанется, – засудите…
Я рассердился и велел увести Кузьму [47]47
Хорош следователь! Вместо того, чтобы продолжать допрос и вынудить полезное показание, он рассердился– занятие, не входящее в круг обязанностей чиновника. Впрочем, я мало верю всему этому… Если г. Камышеву были нипочем его обязанности, то продолжать допрос должно было заставить его простое человеческое любопытство. – А. Ч.
[Закрыть]. В тот же день вечером, чтобы не терять времени и покончить раз навсегда с надоевшим мне «делом об убийстве», я отправился в арестантский дом и обманул Урбенина, сказав ему, что Кузьма назвал его убийцею.
– Я ждал этого… – сказал Урбенин, махнув рукой, – мне всё равно…
Одиночное заключение сильно повлияло на медвежье здоровье Урбенина: он пожелтел и убавился в весе чуть ли не наполовину. Я обещал ему приказать сторожам пускать его гулять по коридору днем и даже ночью.
– Нет нужды опасаться, что вы уйдете, – сказал я.
Урбенин поблагодарил меня и после моего ухода уже гулял по коридору: его дверь уж более не запиралась.
Уходя от него, я постучался в дверь, за которой сидел Кузьма.
– Ну что, надумал? – спросил я.
– Нет, барин… – послышался слабый голос, – пущай господин прокурор приезжает, ему объявлю, а вам не стану сказывать.
– Как знаешь…
Утром другого дня всё решилось.
Сторож Егор прибежал ко мне и сообщил, что одноглазый Кузьма найден в своей постели мертвым. Я отправился в арестантскую и убедился в этом… Здоровый, рослый мужик, который еще вчера дышал здоровьем и измышлял ради своего освобождения разные сказки, был неподвижен и холоден, как камень… Не стану описывать ужас мой и стражи: он понятен читателю. Для меня дорог был Кузьма как обвиняемый или свидетель, для сторожей же это был арестант, за смерть или побег которого с них дорого взыскивалось… Ужас наш был тем сильнее, что произведенное вскрытие констатировало смерть насильственную… Кузьма умер от задушения… Убедившись в том, что он задушен, я стал искать виновника и искал его недолго… Он был близко…
Я отправился в камеру Урбенина и, не имея сил сдержать себя, забыв, что я следователь, назвал его в самой резкой и жесткой форме убийцей.
– Мало вам было, негодяй, смерти вашей несчастной жены, – сказал я, – вам понадобилась еще смерть человека, который уличил вас! И вы станете после этого продолжать вашу грязную, воровскую комедию!
Урбенин страшно побледнел и покачнулся…
– Вы лжете! – крикнул он, ударяя себя кулаком по груди.
– Не лгу я! Вы проливали крокодиловы слезы на наши улики, издевались над ними… Бывали минуты, когда мне хотелось верить более вам, чем уликам… о, вы хороший актер!.. Но теперь я не поверю вам, даже если из ваших глаз вместо этих актерских, фальшивых слез потечет кровь! Говорите, вы убили Кузьму?
– Вы или пьяны, или же издеваетесь надо мной! Сергей Петрович, всякое терпение и смирение имеет свои границы! Я этого не вынесу!
И Урбенин, сверкая глазами, застучал кулаком по столу.
– Вчера я имел неосторожность дать вам свободу, – продолжал я, – позволил вам то, чего не позволяют другим арестантам: гулять по коридору. И вот, словно в благодарность, вы ночью идете к двери этого несчастного Кузьмы и душите спящего человека! Знайте, что вы погубили не одного только Кузьму: из-за вас пропадут сторожа.
– Что же я сделал такое, боже мой? – проговорил Урбенин, хватая себя за голову.
– Вы хотите знать доказательства? Извольте… ваша дверь, по моему приказанию, была отперта… дурачье-прислуга отперла дверь и забыла припрятать замок… все камеры запираются одинаковыми замками… Вы ночью взяли свой ключ и, выйдя в коридор, отперли им дверь своего соседа… Задушив его, вы дверь заперли и ключ вставили в свой замок.
– За что же я мог его задушить? За что?
– За то, что он назвал вас… Не сообщи я вам вчера этой новости, он остался бы жив… Грешно и стыдно, Петр Егорыч!
– Сергей Петрович, молодой человек! – заговорил вдруг нежным, мягким голосом убийца, хватая меня за руку. – Вы честный и порядочный человек… Не губите и не пятнайте себя неправедными подозрениями и опрометчивыми обвинениями! Вы не можете только понять, как жестоко и больно вы оскорбили меня, взвалив на мою ни в чем не повинную душу новое обвинение… Я мученик, Сергей Петрович! Бойтесь обидеть мученика! Будет время, когда вам придется извиняться передо мной, и это время скоро… Не обвинят же меня в самом деле! Но извинение это не удовлетворит вас… Чем набрасываться на меня и оскорблять так ужасно, вы бы лучше по-человечески, – не говорю, по-дружески: вы уже отказались от наших хороших отношений, – вы бы лучше расспросили меня… Как свидетель и ваш помощник я для правосудия принес бы больше пользы, чем в роли обвиняемого. Взять бы хоть это новое обвинение… Я мог бы многое вам сообщить: ночью-то я не спал и всё слышал…
– Что вы слышали?
– Ночью, часа в два… были потемки… слышу, кто-то тихонько ходит по коридору и всё за дверь мою трогает… ходил-ходил, а потом отворил мою дверь и вошел.
– Кто?
– Не знаю: темно было – не видал… Постоял в моей камере минутку и вышел… и именно так, как вот вы говорите, – вынул из двери моей ключ и отпер соседскую камеру. Минутки через две я услышал хрипенье, а потом возню. Думал я, что это сторож ходит и возится, а хрипенье принял за храп, а то бы я поднял шум.
– Басни! – сказал я. – Некому тут, кроме вас, Кузьму убивать. Дежурные сторожа спали. Жена одного из них, не спавшая всю ночь, показала, что все три сторожа в течение ночи спали, как убитые, и не оставляли своих постелей ни на минуту; бедняги не знали, что в этой жалкой арестантской могут водиться такие звери. Служат они здесь уже более двадцати лет, и за всё это время у них не было ни одного случая побега, не говорю уж о такой мерзости, как убийство. Теперь жизнь их, благодаря вам, перевернута вверх дном; да и мне достанется за то, что я не отправил вас в тюремный замок и дал вам здесь свободу гулять по коридорам. Благодарю вас!
Это была последняя моя беседа с Урбениным. Больше я уж с ним никогда не беседовал, если не считать тех двух-трех вопросов, которые задал он мне как свидетелю, сидя на скамье подсудимых…
Мой роман в заголовке назван «уголовным», и теперь, когда «дело об убийстве Ольги Урбениной» осложнилось еще новым убийством, мало понятным и во многих отношениях таинственным, читатель вправе ожидать вступления романа в самый интересный и бойкий фазис. Открытие преступника и мотивов преступления составляет широкое поле для проявления остроумия и мозговой гибкости. Тут злая воля и хитрость ведут войну с знанием, войну интересную во всех своих проявлениях…
Я вел войну, и читатель вправе ожидать от меня описания средств, которые дали мне победу, и он, наверное, ждет следовательских тонкостей, которыми так блещут романы Габорио и нашего Шкляревского; и я готов оправдать ожидания читателя, но… одно из главных действующих лиц оставляет поле битвы, не дождавшись конца сражения, – его не делают участником победы; всё, что было им сделано ранее, пропадает даром, – и оно идет в толпу зрителей. Это действующее лицо – ваш покорнейший слуга. На другой день после описанной беседы с Урбениным я получил приглашение, или, вернее, приказ подать в отставку. Сплетни и разговоры наших уездных кумушек сделали свое дело… Моему увольнению много способствовали также убийство в арестантском доме, показания, взятые товарищем прокурора тайком от меня у прислуги, и, если помнит читатель, удар, нанесенный мною мужику веслом по голове в один из прошлых ночных кутежей. Мужик поднял дело. Произошла сильная перетасовка. В какие-нибудь два дня я должен был сдать дело об убийстве следователю по особо важным делам.
Благодаря толкам и газетным корреспонденциям, поднялся на ноги весь прокурорский надзор. Прокурор наезжал в графскую усадьбу через день и принимал участие в допросах. Протоколы наших врачей были отправлены во врачебную управу и далее. Поговаривали даже о вырытии трупов и новом осмотре, который, кстати сказать, ни к чему бы не повел.
Урбенина раза два таскали в губернский город для освидетельствования его умственных способностей, и оба раза он был найден нормальным. Я стал фигурировать в качестве свидетеля [48]48
Роль, конечно, более подходящая г. Камышеву, чем роль следователя: в деле Урбенина он не мог быть следователем. – А. Ч.
[Закрыть]. Новые следователи так увлеклись, что в свидетели попал даже мой Поликарп.
Год спустя после моей отставки, когда я жил в Москве, мною была получена повестка, звавшая меня на разбирательство урбенинского дела. Я обрадовался случаю повидать еще раз места, к которым меня тянула привычка, и поехал. Граф, живший в Петербурге, не поехал и послал вместо себя медицинское свидетельство.
Дело разбиралось в нашем уездном городе, в отделении окружного суда. Обвинял Полуградов, тот самый, который раза четыре на день чистил свои зубы красным порошком; защищал некий Смирняев, высокий худощавый блондин с сентиментальным лицом и длинными, гладкими волосами. Присяжные всплошную состояли из мещан и крестьян; из них только четверо были грамотные, остальные же, когда им были поданы для просмотра письма Урбенина к жене, потели и конфузились. В старшины попал лавочник Иван Демьяныч, тот самый, который дал имя моему покойному попугаю.
Войдя в зал суда, я не узнал Урбенина: он совершенно поседел и постарел телом лет на двадцать. Я ожидал прочесть на лице его равнодушие к своей судьбе и апатию, но ожидания мои были ошибочны, – Урбенин горячо отнесся к суду: он отвел трех присяжных, давал длинные объяснения и допрашивал свидетелей; вину свою отрицал он безусловно и каждого свидетеля, говорившего не за него, допрашивал очень долго.
Свидетель Пшехоцкий показал на суде, что я жил с покойной Ольгой.
– Это ложь! – крикнул Урбенин, – он лжец! Жене моей я не верю, но емуя верю!
Когда я давал показания, защитник спросил меня, в каких отношениях я находился с Ольгой, и познакомил меня с показанием Пшехоцкого, когда-то мне аплодировавшего. Сказать правду – значило бы дать показание в пользу подсудимого: чем развратнее жена, тем снисходительнее присяжные к мужу-Отелло, – я понимал это… С другой стороны, моя правда оскорбила бы Урбенина… он, услыхав ее, почувствовал бы неизлечимую боль… Я счел за лучшее солгать.
– Нет! – сказал я.
Прокурор в своей речи, описывая в ярких красках убийство Ольги, обращал особенное внимание на зверство убийцы, на его злобу… «Старый, поношенный сластолюбец увидал девушку, красивую собой и молодую. Зная весь ужас ее положения в доме сумасшедшего отца, он манит ее к себе куском хлеба, жильем и цветными покоями… Она соглашается: состоятельный муж-старик все-таки выносимее сумасшедшего отца и бедности. Но она молода, а молодость, гг. присяжные, имеет свои неотъемлемые права… Девушка, воспитанная на романах и среди природы, рано или поздно должна была полюбить…» и т. д. в том же роде. Кончается тем, что «он, не давший ей ничего, кроме своей старости и цветных тряпок, видя ускользающую добычу, впадает в ярость животного, к носу которого поднесли раскаленное железо. Любил он животно и ненавидеть должен животно» и проч.
Обвиняя Урбенина в убийстве Кузьмы, Полуградов указывал на те воровские приемы, здраво обдуманные и взвешенные, которыми сопровождалось убийство «спящего человека, имевшего неосторожность показать накануне против него. А что Кузьма хотел рассказать следователю именно про него, в этом вы, я полагаю, не сомневаетесь».
Защитник Смирняев не отрицал виновности Урбенина; он просил только признать, что Урбенин действовал под влиянием аффекта, и дать ему снисхождение. Описывая, как мучительно бывает чувство ревности, он привел в свидетели шекспировского Отелло. Взглянул он на этот «всечеловеческий тип» всесторонне, приводя цитаты из разных критиков, и забрел в такие дебри, что председатель должен был остановить его замечанием, что «знание иностранной литературы для присяжных необязательно».
Воспользовавшись последним словом, Урбенин призвал бога в свидетели, что он не виноват ни делом, ни мыслью.
– Мне лично всё равно, где ни быть: в этом ли уезде, где всё напоминает мне мой незаслуженный позор и жену, или на каторге, но меня смущает судьба моих детей.
И, повернувшись к публике, Урбенин заплакал и просил приютить его детей.
– Возьмите их. Граф, конечно, не упустит случая щегольнуть своим великодушием, но я уже предупредил детей: они не возьмут от него ни одной крохи.
Заметив меня среди публики, он поглядел на меня умоляющими глазами и сказал:
– Защитите моих детей от благодеяний графа.
Он, видимо, забыл о предстоящем вердикте и весь предался мысли о детях. Говорил он о них до тех пор, пока не был остановлен председателем.
Присяжные совещались недолго. Урбенин был признан виновным безусловно и ни на один пункт не получил снисхождения.
Приговорен он был к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на 15 лет.
Так дорого обошлась ему встреча в майское утро с поэтической «девушкой в красном»…
Со времени описанных событий прошло уже более восьми лет. Одни участники драмы умерли и уже сгнили, другие несут наказание за свой грех, третьи влачат жизнь, борясь с будничной скукой и ожидая смерти со дня на день.
В восемь лет изменилось многое… Граф Карнеев, не перестававший питать ко мне самую искреннюю дружбу, уже окончательно спился. Усадьба его, давшая место драме, ушла от него в руки жены и Пшехоцкого. Он теперь беден и живет на мой счет. Иногда, под вечер, лежа у меня в номере на диване, он любит вспомнить былое.
– Хорошо бы теперь цыган послушать, – бормочет он, – пошли, Сережа, за коньяком!
Я тоже изменился. Силы мои оставляют меня постепенно, и я чувствую, как выходят из моего тела здоровье и молодость. Нет уж той физической силы, нет ловкости, нет выносливости, которой я щеголял когда-то, бодрствуя несколько ночей подряд и выпивая количество, которое я теперь едва ли подниму.
На лице одна за другой появляются морщины, волосы редеют, голос грубеет и слабеет… Жизнь прошла…
Прошлое я помню, как вчерашний день. Как в тумане, вижу я места и образы людей. Беспристрастно относиться к ним нет у меня сил; люблю и ненавижу я их с прежней силой, и не проходит того дня, чтобы я, охваченный чувством негодования или ненависти, не хватал бы себя за голову. Граф для меня по-прежнему гадок, Ольга отвратительна, Калинин смешон своим тупым чванством. Зло считаю я злом, грех – грехом.
Но бывают нередко минуты, когда я, вглядевшись в стоящий на моем столе портрет, чувствую непреодолимое желание пройтись с «девушкой в красном» по лесу под шумок высоких сосен и прижать ее к груди, несмотря ни на что. В эти минуты прощаю я и ложь и падение в грязную пропасть, готов простить всё для того, чтобы повторилась еще раз хотя бы частица прошлого… Утомленный городской скукой, я хотел бы еще раз послушать рев великана озера и промчаться по его берегу на моей Зорьке… Я простил и забыл бы все, чтобы еще раз пройтись по теневской дороге и встретить садовника Франца с его водочным бочонком и жокейским картузиком… Бывают минуты, когда я готов даже пожать руку, обагренную кровью, и потолковать с благодушным Петром Егорычем о религии, урожае, народном образовании… Я хотел бы повидаться со «щуром», с его Наденькой…
Жизнь бешеная, беспутная и беспокойная, как озеро в августовскую ночь… Много жертв скрылось навсегда под ее темными волнами… На дне лежит тяжелый осадок…
Но за что я люблю ее в иные минуты? За что я прощаю ее и мчусь к ней душой, как нежный сын, как птица, выпущенная из клетки?..
Жизнь, которую я вижу сейчас сквозь номерное окно, напоминает мне серый круг: серый цвет и никаких оттенков, никаких светлых проблесков…
Но, закрыв глаза и припоминая прошлое, я вижу радугу, какую дает солнечный спектр… Да, там бурно, но там светлее…
С. Зиновьев.
Конец
Внизу рукописи написано:
Милостивый государь, г. редактор! Предлагаемый роман (или повесть, как хотите) прошу печатать, по возможности, без сокращений, урезок и вставок. Впрочем, изменения можно делать по соглашению с автором. В случае же негодности прошу рукопись сохранить для возвращения. Жительство (временное) имею в Москве, на Тверской, в номерах «Англия». Иван Петрович Камышев.
P. S. Гонорар – по усмотрению редакции.
Год и число.
Теперь, познакомив читателя с романом Камышева, продолжаю прерванную с ним беседу. Прежде всего я должен предупредить, что обещание, данное мною читателю в начале повести, не сдержано: роман Камышева напечатан не без пропусков, не in toto, как я обещал, а по значительном сокращении. Дело в том, что «Драма на охоте» не могла быть напечатана в газете, о которой шла речь в первой главе этой повести: газета прекратила свое существование, когда рукопись поступила в набор… Настоящая же редакция, давшая приют роману Камышева, нашла невозможным печатать его без урезок. Всякий раз, во всё время печатания, она присылала мне корректуры отдельных глав с просьбой «изменить». Я же не хотел брать греха на душу, изменять чужое, и находил лучшим и полезным совсем выпускать, чем изменять неудобное место. По соглашению со мной, редакция выпустила много мест, поражавших своим цинизмом, длиннотами и небрежностью в литературной отделке. Эти выпуски и урезки требовали осторожности и времени – причина, отчего многие главы запаздывали. Выпущены нами, между прочим, два описания ночных оргий. Одна оргия происходила в доме графа, другая на озере. Выпущено описание библиотеки Поликарпа и оригинальная манера его чтения: это место найдено слишком растянутым и утрированным.








