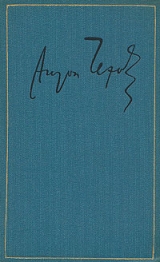
Текст книги "Том 7. Рассказы, повести 1888-1891"
Автор книги: Антон Чехов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 47 страниц)
До появления повести в печати Чехову писали о ней и другие корреспонденты. Так, П. Свободин, отвозивший Плещееву правленную Чеховым корректуру «Скучной истории», писал 7 октября 1889 г.: «На пути из Москвы прочитал всю „Скучную историю“ и по прочтении сказал себе, что Вас Л. Толстой недаром назвал „вдумчивым“. Очень-очень хорошо» ( Записки ГБЛ, вып. 16, стр. 205). Е. М. Линтварева сообщала 14 октября «К нам доходят восторженные отзывы о Вашей „Скучной истории“ <…> от слышавших ее у Плещеева…»
11-я книжка «Северного вестника» вышла в начале ноября «Со всех сторон слышу восторженные похвалы вашей повести, – писал Чехову 5 ноября 1889 г. Плещеев, – от людей разных мнений, кружков и лагерей. Некоторые говорят даже, что это лучше всего вами до сих пор написанного. Другие, что повесть оставляет глубокое впечатление; третьи, что это совсем ново; и наконец, что это выдающаяся вещь в „Сев<ерном> вест<нике>“ за весь год. К числу хвалителей принадлежит и Боборыкин <…> Я, признаюсь Вам, никак не ждал, чтобы „публике“ Ваша последняя вещь понравилась <…> Я думал, что ее будут находить скучной. И вообразите – ничуть! Недостатки в ней, конечно, находят; но из этого ничего не следует, какая же вещь без недостатков. Но все возлагают на талант Ваш большие надежды <…> В этой повести Вашей видят не только шаг вперед – но еще и поворот к серьезности и глубине содержания» ( Слово, сб. 2, стр. 275–276. См. также письмо от 10 ноября. – ЛН, т. 68, стр. 354). «Только что окончил „Скучную историю“, – писал Чехову его знакомый, владелец Бабкина А. С. Киселев 11 ноября 1889 г. – Не могу утерпеть, чтобы не высказать Вам, дорогой Антон Павлович, моего восхищения. С этим рассказом Вы сделали гигантский шаг, и я от всего сердца аплодирую Вам. Я убежден, что Ваша „Скучная история“ поднимет на ноги всю критику, хотел бы надеяться, что хулителей не найдется» (ГБЛ). Н. А. Лейкин писал 17 ноября: «Читал Вашего профессора в „Сев<ерном> вестнике“. Прелестно. Это лучшая Ваша вещь» (ГБЛ). О большом впечатлении, какое произвела на нее «Скучная история», сообщала актриса К. А. Каратыгина ( ЛН, т. 68, стр. 585).
«Не совсем удовлетворила» повесть Леонтьева (Щеглова). Он нашел, что «на всем произведении лежит печать утомления и надуманности» и что наряду с тем, что «есть в рассказе тонкого и острого», для него характерна «общая тусклость тона», он «страдает и переутомлением и отсутствием ловкости в композиции». Леонтьев (Щеглов), правда, отметил, что «очень метко схвачен» образ Кати, но и в нем он увидел незаконченность, «силуэтность» (письма 9 и 18 ноября 1889 г. – Записки ГБЛ, вып. 8, стр. 76). 25 марта 1890 г. Леонтьев (Щеглов) повторил свою оценку «Скучной истории» как «надуманной и сухой» и противопоставил «Скучную историю» таким «перлам» чеховского творчества, как «Агафья», «Ведьма», «Дома», «Свирель», «Поцелуй» и «почти вся „Степь“» (ГБЛ).
В последующие годы Чехов продолжал получать от знакомых и незнакомых ему читателей письма с отзывами о «Скучной истории». Так, Тихонов особо выделял «Скучную историю», которая явилась, по его мнению, свидетельством философской зрелости Чехова (письмо Чехову от 8 марта 1890 г. – Записки ГБЛ, вып. 8, стр. 67). Писатель Ф. А. Червинский назвал «Скучную историю» «чертовски умной вещью», которая в связи с беспомощным состоянием современной критики «не вызвала ничего, кроме 2-х – 3-х никому не нужных замечаний» (письмо Чехову 1891 г. – ГБЛ).
Восторженные оценки повести находятся и в более поздних отзывах. По свидетельству К. Ф. Головина <Орловского>, «Скучная история» Чехова была «той из его повестей, которая среди публики имела наибольший успех» (К. Ф. Головин. Русский роман и русское общество. СПб., 1897, стр. 458). А. Б. Гольденвейзер рассказывал, что, когда он 16 сентября 1901 г. читал Л. Толстому «Скучную историю», «Лев Николаевич все время восхищался умом Чехова» (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 98).
Как и другие большие вещи Чехова, «Скучная история» вызвала самые разноречивые суждения литературной критики. По-разному оценивались проблематика, идейное содержание, смысл отдельных образов, но многие критики не поняли широты и многозначности художественных обобщении повести.
Уже в ранних откликах рецензенты стремились определить главную мысль «Скучной истории». Так, Д. Струнин («Русское богатство», 1890, № 4) писал, что, изобразив человека «инерции», «одностороннего развития» в ущерб его духовной личности, человека, в котором умственная жизнь преобладала над нравственной (стр. 112), Чехов пришел к откровению: «всякое уклонение <…> от требований разума и совести, всякая специализация, в том числе и ученая, умаляет человека, порабощает его случайностями, лишает понимания запросов жизни и, наконец, приводит к грустному сознанию, что жизнь им прожита не так» (стр. 124).
С самого начала критика, присоединяясь к словам чеховкого героя, говорила о проблеме «общей идеи» как центральной в повести. По мнению Л. Оболенского ( Созерцатель. Новый поворот в идеях нашей беллетристики. – «Русское богатство», 1890, № 1), в «Скучной истории» содержатся призывы «критически разобраться в <…> пессимизме» и сознание, что жить «без веры, без руководящей идеи нельзя» (стр. 98). Признавая большое значение для современной русской жизни этой мысли Чехова, критик, однако, толковал ее в узко этическом, чуть ли не в религиозном плане, когда писал: Чеховым «показано ярко, наглядно, психологически неоспоримо, что одна наука и специализация в ней невозможны для истинно разумной жизни, без господства высшей объединяющей идеи, т. е. религии» (стр. 112). О проблеме «общей идеи» в повести говорили В. Альбов («Мир божий», 1903, № 1, стр. 96–97), Волжский (А. С. Глинка) в своих «Очерках о Чехове» (СПб., 1903, стр. 53).
Суждения о главной мысли повести в критике тесно связывались с проблемой соотнесенности автора и его главного героя, с тем, насколько идентичны их мировоззрения. Чаще всего критики отождествляли Чехова с Николаем Степановичем. Взгляд на современную беллетристику в записках старого профессора, заметил Р. Дистерло, это «мысли самого автора, писателя, принимающего близко к сердцу интересы современной литературы, а не старого медика-профессора <…> Для последнего эта тонкая и меткая оценка <…> не только не характерна, но едва ли и возможна. Здесь автор <…>, не находя для самого себя места в „записках“ профессора, приписал свои мысли ему» («Неделя», 1889, № 46, 12 ноября, стлб. 1478). Считая суждения Николая Степановича о современной литературе, критиках и публицистах «чрезвычайно верными», В. Л. Кигн также утверждал, что устами профессора, «разумеется, говорит молодой автор» («Книжки Недели», 1891, № 5, стр. 198, 203).
Отнеся суждения героя повести к ее автору, некоторые рецензенты нашли их легкомысленными и мелкими, нехарактерными для старого, известного ученого. «Суждения его <…> обличают не глубокий ум, не широкое сердце, а набитую на писании „еженедельной беллетристики“ „руку“», – писал Ю. Николаев (Ю. Н. Говоруха-Отрок) («Московские ведомости», 1889, № 345, 14 декабря).
По аналогичному мнению М. Протопопова, в «Скучной истории» «всё говорит <…> не опытный и проницательный мыслитель», а сам автор – «довольно легкомысленный, хотя и талантливый» («Русская мысль», 1892, № 6, стр. 104).
На счет Чехова большинство критиков относило и отсутствие во всех помыслах и делах, чувствах и понятиях старого профессора «общей идеи». В этом отношении «Скучная история» стала неким символом «безыдейности» самого Чехова и его творчества, отсутствия в нем объединяющей мысли. П. Перцов заметил, приводя соответствующее признание старого профессора: «На беду себе написал г. Чехов эти слова. Со времени появления „Скучной истории“ не было, кажется, статьи, посвященной ему, в которой эти слова не цитировались бы в применении к их автору. И действительно, трудно придумать более точную характеристику общего впечатления, производимого всей совокупностью произведений г. Чехова, и точнее определить их общий недостаток» («Русское богатство», 1893, № 1, стр. 42). Перцов упрекал Чехова и в общественном безразличии, непонимании общественной значимости изображаемых фактов (стр. 44).
Н. К. Михайловский, резче других говоривший о «безыдейности» Чехова, выделил «Скучную историю» как начало определенного изменения в творческой позиции писателя, заявив в статье 1890 г., что «Скучная история» – «лучшее и значительнейшее из всего, что до сих пор написал г. Чехов». Жизненную трагедию старого профессора – отсутствие «того, что называется общей идеей» – критик отнес к самому Чехову, «во всех случайных зарисовках которого даже самый искусный аналитик не найдет общей идеи». «Скучная история», писал Михайловский, это прежде всего порождение тоски чеховского таланта «по тому, что называется общей идеей или богом живого человека»; «оттого-то так хорош и жизненен этот рассказ, что в него вложена авторская боль». И если Чехов не приемлет идейного наследства 60-х годов и «не может выработать свою собственную общую идею <…>, то пусть он будет хоть поэтом тоски по общей идее и мучительного сознания ее необходимости» ( Михайловский, стр. 601–607).
Аналогичное суждение принадлежало М. Протопопову («Русская мысль», 1892, № 6): в словах профессора об общей идее Чехов характеризовал «самого себя, свое творчество, свой талант <…> поколение, и ту полосу жизни, типичным представителем которых он явился в нашей литературе» (стр. 107). По мнению критика, «Чехов, сам того не замечая <…>, тоскует об идеале». У Чехова нет «объединяющего начала», несмотря на «значительный литературный талант» (стр. 111); «в чем состоит миросозерцание его – этого никто не скажет, потому что у г. Чехова его вовсе нет» (стр. 112).
Головин (Орловский) не только не усмотрел в ней «идеи», но и не увидел между героями, средой и действительностью никакой связи, всю повесть счел «слепленной» «случайно из материалов, не подходящих один к другому» (К. Ф. Головин. Русский роман и русское общество. СПб., 1897, стр. 457–460). То же утверждали Гр. Новополин («В сумерках литературы и жизни». Харьков, 1902, стр. 139–140), В. Альбов («Мир божий», 1903, № 1, стр. 102–103) и Евг. Ляцкий («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 148).
Но это мнение не было абсолютно господствующим. Его оспаривал Андреевич (Е. А. Соловьев). Возражая Михайловскому, он полагал, что «тоска и искание» «общей идеи» отражены не только в «Скучной истории», но и во всем творчестве писателя ( Андреевич. Книга о Максиме Горьком и А. П. Чехове. СПб., 1900, стр. 212). Против определения творчества Чехова как «безыдейного» выступил А. Богданович («Мир божий», 1902, № 10, стр. 12). А. С. Глинка, утверждая, что Чехов не находит путей к осуществлению своего идеала в жизни, вместе с тем писал, имея в виду «Скучную историю»: «Если бы у Чехова не было этого чрезвычайно высокого идеала <…>, он не мог бы видеть всей пошлости, тусклости, всей мизерности» действительности ( Волжский. Очерки о Чехове. СПб., 1903, стр. 32–33).
На самого Чехова распространяла критика и пессимистическую настроенность героев повести, особенно старого профессора. О том, что «дух печали», «задумчиво-меланхолическое настроение», «хандра» и «апатия» преобладают в повести, писали Дистерло («Неделя», 1889, № 46, 12 ноября, стлб. 1481), Дедлов («Книжки Недели», 1891, № 1, стр. 180), М. Протопопов («Русская мысль», 1892, № 6, стр. 109, 114, 121). Сближая пессимизм героя и автора, Буренин («Новое время», 1889, № 4922, 10 ноября) и Ю. Николаев (Говоруха-Отрок) («Московские ведомости», 1889, № 345, 14 декабря) даже не сочли его «высоким» мировоззрением, «исходящим из трагического философского взгляда на жизнь». Николаев определил настроение чеховских произведений – и «Скучной истории» – как «ходячий», «обиходный» пессимизм, который не задается мировыми, «гамлетовскими» вопросами. Суждение о пессимизме самого Чехова – автора «Скучной истории» – встречается и в позднейших статьях о нем.
Критика рассматривала повесть и с точки зрения отражения в ней проблем современной жизни; дебатировался вопрос о характерности для русской действительности 80-х годов главного героя и других персонажей повести, обсуждалось психологическое мастерство в их обрисовке. Многие критики высоко оценили «Скучную историю» как достоверную картину жизни русского общества 80-х годов. В основе повести, писал Читатель (В. В. Кузьмин), «вы чувствуете целую, взятую из жизни, глубокую по своему психическому значению историю». Старик профессор – «целая энциклопедия, сжатая, но полная энциклопедия длинной человеческой жизни <…>. И до чего верен себе остается этот типичный старик во все продолжение рассказа, вплоть до последней его строчки! Опять-таки живой, цельный человек». Не менее удачными, типичными и жизненными критик находил и остальные лица повести ( Читатель. Литературные очерки. «Скучная история» А. Чехова. – «Новости дня», 1889, № 2301, 28 ноября). По мнению Дистерло, жизненная правда сказалась в повести не только в общем духе времени, но и «в массе живых, чрезвычайно метко схваченных сцен, в легких очерках являющихся на минуту лиц, каковы сторож Николай, прозектор <…>, Гнеккер, Катя» («Неделя», 1889, № 46, 12 ноября, стлб. 1478). Я. Абрамов («Книжки Недели», 1898, № 6) писал о чуткости Чехова «ко всем областям» современной русской жизни, сообщившей его произведениям «необыкновенное богатство» содержания, «типов», «общественных положений». Это, на взгляд критика, обнаруживает несостоятельность обвинений писателя в односторонности и отсутствии мировоззрения (стр. 147–148). По утверждению Ф. Е. Пактовского, в «Скучной истории» отражен «новый тип», «едва ли <…> не присущий более всего нашему времени, тип человека, у которого вместо борьбы, дела – является злословие»; это – «жертвы своего бессилия» (Ф. Е. Пактовский. Современное общество в произведениях А. П. Чехова. – «Чтения в Обществе любителей русской словесности в память А. С. Пушкина при Имп. Казанском ун-те». III. Казань, 1901, стр. 15).
Одновременно высказывалась и другая точка зрения на типичность главного героя и всей изображаемой в повести жизни. Н. Ф. Сумцов («Харьковские ведомости», 1893, № 102, 22 апреля) в «Скучной истории» находил на каждом шагу «недостаточное и случайное знакомство автора с университетом, профессорским бытом». В результате «его скучный профессор – деревянная или точнее тряпичная кукла с наклеенным на лбу ярлыком ума, ничем в сущности но доказанного». Недостоверным нашел Сумцов и прозектора; «улыбку вызывает» и рассказ об университетском швейцаре Николае: «остается только непонятным, почему сам Николай Степанович не уступит ему своей кафедры». Г. Качерец также считал, что герои «Скучной истории» жизненно недостоверны, характеры и ситуации – «неоправданны, фальшивы» (Г. Качерец. Чехов. Опыт. М., 1902, стр. 50, 56).
Наиболее резко мысль о нетипичности образа главного героя высказал Михайловский. Он считал «не характерным», чтобы у Пирогова, Кавелина, Некрасова «мог быть современник и друг, который <…> всю жизнь прожил без того, „что называется общей идеей или богом живого человека“ <…> Для людей, воспитавшихся в той умственной и нравственной атмосфере, какую г. Чехов усваивает Николаю Степановичу, нет даже ничего характернее этой погони за общими идеалами <…> Очевидно, перед г. Чеховым рисовался какой-то психологический тип, который он чисто случайно и в этом смысле художественно незаконно обременил 62-мя годами и дружбой с Пироговым, Кавелиным, Некрасовым» ( Михайловский, стр. 603–604). Аналогичное мнение высказал Е. Ляцкий: профессор не похож на шестидесятников – «отсутствие общей идеи было для них всего менее характерным». На деле он «ничем не отличается от всей серенькой галереи „чеховских“ портретов» («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 127–128).
Лишь немногие критические отзывы о «Скучной истории» касались ее поэтики: жанра, формы повествования, стиля, языка. Необычность манеры, жанровое своеобразие озадачивали, вызывали противоречивые суждения.
«„Скучная история“ г. Чехова – не есть ни повесть, ни рассказ, ни что другое беллетристическое, а просто дневник чувств и мыслей „старого человека“, „знаменитого профессора“», – писал А. И. Введенский («Русские ведомости», 1889, № 355, 4 декабря). Жанр «записок», взятый самим Чеховым в «Скучной истории», по мнению Дистерло, не случаен – «это наш современный, русский род литературы – свободный, искренний, чуждающийся всего условного». Дистерло связывал этот жанр с самим характером повествования нового произведения Чехова, которое, «как и другие большие его вещи», «не имеет фабулы и определенного контура», «определенных рамок и наименования» («Неделя», 1889, № 46, 12 ноября, стлб. 1477–1478). «Записками» обозначил жанр «Скучной истории» и Николаев («Московские ведомости», 1889, № 345, 14 декабря); Буренин («Новое время», 1889, № 4922, 10 ноября) квалифицировал повесть как «патологическое исследование в беллетристической форме», правда, написанное «очень искусно».
Различно воспринималась специфическая, «интеллектуальная» форма повествования «Скучной истории», ее необычная насыщенность мыслью, мнениями, рассуждениями. Кигн («Книжки Недели», 1891, № 5) полагал, что «элемент ума, никоим образом не доходящий до резонерства, необыкновенно оживляет и как-то бодрит читателя» (стр. 203). Но Перцов увидел в размышлениях профессора «афоризмы публициста, а не вдохновения художника» («Русское богатство», 1893, № 1, стр. 50). Публицистичность, «отвлечения в сторону» усмотрел в «Скучной истории» и Ляцкий («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 141).
О чеховской стилистической манере в повести критика высказала диаметрально противоположные мнения. Так, Дистерло, Кузьмин, Кигн отмечали в повести предельную простоту стиля, лаконизм. Напротив, Сумцов утверждал, что Чехов «постоянно прибегал к «литературной» речи и к «красивой» фразе и потому «снабдил некстати красноречием и своего литературного манекена» («Харьковские ведомости», 1893, № 102, 22 апреля).
«Скучная история» не раз объявлялась зависимой от повести Толстого «Смерть Ивана Ильича». 9 ноября 1889 г. об этом писал Чехову Леонтьев (Щеглов) ( Записки ГБЛ, вып. 8, стр. 76). Введенский считал, что своей повестью Чехов «впал в неудачную подражательность» Толстому («Русские ведомости», 1889, № 335, 4 декабря). Такого же мнения придерживался и Николаев («Московские ведомости», 1889, № 345, 14 декабря): «„Скучная история“ – утрированное подражание внешним приемам Л. Толстого». Д. Струнин сходство двух произведений объяснял не подражанием, а правдивым изображением обоими писателями распространенного в русском обществе типа «человека инерции» («Русское богатство», 1890, № 4, стр. 110). Кигн тоже считал Чехова «сродни Толстому» «по своей способности изображать чужую душу неожиданно – ново и убедительно-правдиво» («Книжки Недели», 1891, № 1, стр. 178–179).
При жизни Чехова «Скучная история» была переведена на немецкий, польский, сербскохорватский, финский и чешский языки.
Стр. 251. ПироговНиколай Иванович (1810–1881), русский хирург и анатом, основоположник военно-полевой хирургии; профессор Петербургской медико-хирургической академии.
КавелинКонстантин Дмитриевич (1818–1885), юрист, историк и социолог; публицист и общественный деятель либерального направления 60-х годов.
Стр. 252. Шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса. – Из повести Тургенева «Дневник лишнего человека» (И. С. Тургенев. Полное собр. соч. и писем. Сочинения, т. V. М. – Л., 1963, стр. 209).
Стр. 254. « О чем пела ласточка» – роман немецкого писателя Ф. Шпильгагена (1829–1911).
Стр. 255. «… полюбил~ как Отелло Дездемону, за„ состраданье“ к моей науке». – Перефразированы строки из трагедии Шекспира «Отелло»: «Она меня за муки полюбила, а я ее – за состраданье к ним» (акт I, сц. 3).
Стр. 259. ГруберВенцеслав Леопольдович (1814–1890), профессор анатомии Петербургской медико-хирургической академии.
Стр. 260. СкобелевМихаил Дмитриевич (1843–1882), русский генерал, получивший широкую известность после русско-турецкой воины 1877–1878 гг.
… профессор Перов– Перов Василий Григорьевич (1833–1882), художник, с 1871 г. был профессором в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.
Патти Аделина(1843–1919), итальянская певица; несколько раз гастролировала в России.
Стр. 284. …постоянно шутливый тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. – Могильщики из «Гамлета» Шекспира (акт V, сц. 1).
Стр. 287. « Печально я гляжу на наше поколенье» – первая строка стихотворения Лермонтова «Дума».
Стр. 288. Марк Аврелий(121–180 н. э.), римский император, философ-стоик; Епиктет(Эпиктет) (ок. 50-138 н. э.), греческий философ-стоик; Паскаль Блэз(1623–1662), французский математик и философ.
Стр. 294. « гряди, плешивый!» – Этими словами израильские дети дразнили лысого пророка Елисея (4-я Книга царств, гл. 2, ст. 23). Ср. Н. С. Лесков. Соборяне, ч. 1, гл. 6.
… Гаудеамус игитур ювенестус! – Искаженное начало студенческой песни: «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus…»
Стр. 295. Пти Жан-Жак. – Вероятно, здесь имелся в виду Жан-Мартер Пети (1772–1856), французский генерал и политический деятель, или Жак-Луи Пети (1674–1750), французский хирург. Жан-Жак Пти (или Пети) среди исторических лиц не известен.
Стр. 296. КрыловНикита Иванович (1807–1879), профессор римского права Московского университета.
…« Орлам случается и ниже кур спускаться…» – цитата из басни И. А. Крылова «Орел и куры».








