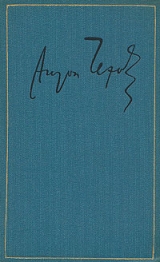
Текст книги "Том 7. Рассказы, повести 1888-1891"
Автор книги: Антон Чехов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 47 страниц)
ИМЕНИНЫ
Впервые – «Северный вестник», 1888, № 11, стр. 49–89 (ценз. разр. 27 октября). Подпись: Антон Чехов.
В сильно переработанном виде вышло отдельным изданием: «Посредник», М., 1893 (без изменений: изд. 2-е, М., 1894; изд. 3-е, М., 1899).
С небольшими исправлениями включено в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. IV, стр. 299–337.
Рассказ был написан по заказу редакции «Северного вестника». 10 августа 1888 г. А. Н. Плещеев писал Чехову: «Редакция обращается к Вам с убедительнейшей просьбой – прислать что-нибудь к октябрьскойкнижке. Страшно нужно. Хоть волком вой с беллетристикой!» ( ГБЛ; ЛН, т. 68, стр. 323). 13 августа Чехов обещал Плещееву дать «повестушку» в октябре или ноябре, а 19 августа Плещеев снова напоминал об этом обещании (там же, стр. 324), на что Чехов отвечал 27 августа, что рассказ « непременнобудет. Размер – 1–2 листа». Плещеев выражал нетерпение и в каждом письме просил прислать рассказ поскорее; 13 сентября он писал: «… Место для вас оставлено» (там же, стр. 330). Но Чехов начал писать лишь 10 сентября. 15 сентября он вынужден был извиниться в письме к Плещееву: «Теперь вижу, что, когда я обещал Вам рассказ для октябрьскойкнижки, в моей голове перепуталась вся арифметика. Едучи в Москву, я решил в сентябре писать для „Сев<ерного> вестника“, кончить к 1–2 октября и послать не позже 5-го октября… Вот это-то канальское „октября“ и перепуталось в моей башке с „октябрьской“ книжкой. Начав писать в начале сентября, я никоим образом не мог бы поспеть к той книжке, которая печатается в сентябре! Прошу убедительно Вас и Анну Михайловну (Евреинову) простить меня за рассеянность. В ноябрьской книжке рассказ мой будет – это вне всякого сомнения (если не забракуете его). Я пишу его помаленьку, и выходит он у меня сердитый, потому что я сам сердит ужасно…»
Наконец 30 сентября он сообщил Плещееву: «Уф! Сейчас кончил рассказ для „Сев(ерного) вестника“, дорогой Алексей Николаевич! От непривычки и после летнего отдыха так утомился, что Вы и представить себе не можете. Сажусь переписывать начисто. 5-го октября Вы получите. Рассказ вышел немножко длинный (2 листа), немножко скучный, но жизненный и, представьте, с „направлением“…». В письме к А. С. Суворину от 2 октября Чехов жаловался: «Повестушку свою я кончил. Написана она вяло и небрежно, а поправлять нет времени». 5 октября он сообщил Н. А. Лейкину об окончании повести, «над которою возился весь сентябрь». 9 октября в письме к Е. М. Линтваревой Чехов писал о рассказе: «Начало и конец читаются с интересом, но середина – жеваная мочалка».
Видя, что рассказ получился длинным, Чехов, однако, убедительно просил редакцию журнала не производить в нем никаких сокращений и беспокоился о возможных цензурных изъятиях. 4 октября он объяснял Плещееву: «Я просил не вычеркивать в моем рассказе ни одной строки. Эта моя просьба имеет в основании не упрямство и не каприз, а страх, чтобы через помарки мой рассказ не получил той окраски, какой я всегда боялся». 10 или 11 октября Чехов снова пояснял Плещееву: «Цензуру я боюсь. Она вычеркнет то место, где я описываю председательство Петра Дмитрича. Ведь нынешние председатели в судах все такие!» Но опасения Чехова на этот раз были напрасны. 22 октября Плещеев сообщил ему: «Цензура из вашей повести ничего ровно не выбросила» ( ЛН, т. 68, стр. 336).
Одновременно с просьбой ничего не изменять в рассказе Чехов настаивал на присылке ему корректур (10 октября, Плещееву). Однако и в корректуре произвести исправления Чехову не удалось из-за недостатка времени. Эта спешка чрезвычайно его угнетала. В ответ на упрек Суворина в некоторой недоработанности образа героя в «Именинах» Чехов писал ему 27 октября 1888 г.: «Я понимаю, что я режу своих героев и порчу, что хороший материал пропадает у меня зря… Говоря по совести, я охотно просидел бы над „Именинами“ полгода <…> Я охотно, с удовольствием, с чувством и с расстановкой описал бы всегомоего героя, описал бы его душу во время родов жены, суд над ним, его пакостное чувство после оправдательного приговора, описал бы, как акушерка и доктора ночью пьют чай, описал бы дождь…». И далее Чехов рассказывал о той обстановке, в какой писались «Именины»: «… Но что мне делать? Начинаю я рассказ 10 сен<тября> с мыслью, что я обязан кончить его к 5 октября – крайний срок; если просрочу, то обману и останусь без денег. Начало пишу покойно, не стесняя себя, но в середине я уж начинаю робеть и бояться, чтобы рассказ мой не вышел длинен: я должен помнить, что у „Сев<ерного> вестника“ мало денег и что я один из дорогих сотрудников. Потому-то начало выходит у меня всегда многообещающее, точно я роман начал; середина скомканная, робкая, а конец, как в маленьком рассказе, фейерверочный…»
Рассказ в «Северном вестнике» вышел с большим количеством опечаток. Огорченный Чехов писал Плещееву 3 ноября 1888 г.: «А опечаток в моих „Именинах“ видимо-невидимо».
К серьезной переделке и исправлению рассказа Чехов приступил в 1892 г., готовя его для выпуска отдельной книжкой в издательстве «Посредник», (О взаимоотношениях Чехова с «Посредником» см. в примечаниях к рассказам «Бабы» * и «Жена» * в наст. томе и к повести «Палата № 6» в т. VIII Сочинений). Кроме сокращений, которые сам Чехов считал необходимым произвести еще в 1888 г. (сразу же по окончании рассказа), он внес изменения в рассказ в соответствии с критическими замечаниями Плещеева, со многими из которых вынужден был согласиться. Отсылая 4 октября 1888 г. рассказ в «Северный вестник», Чехов просил Плещеева: «Прочитавши мой рассказ, напишите мне. Он Вам не понравится, но Вас и Анны Михайловны я не боюсь. Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником и – только, и жалею, что бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским. Фарисейство, тупоумие и произвол дарят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи…». 10 или 11 октября Чехов снова спрашивал Плещеева о том, что его больше всего беспокоило: «Неужели и в последнем рассказе не видно „направления“? <…> Но разве в рассказе от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление? Нет? Ну так, значит, я не умею кусаться или я блоха…»
Прочитав повесть, Плещеев ответил 6 октября подробным письмом ( ГБЛ; Слово, сб. 2, стр. 256–258). «Всё здесь реально, – писал он Чехову, – правдиво, жизненно… Местами повеяло на меня луфанским воздухом… Фигуры Петра Дмитриевича и жены его – удались Вам и нарисованы во весь рост. Второстепенные лнца – тоже выхвачены из жизни <…> Что касается до „направления“, о котором вы мне писали в одном из Ваших писем, то – я не вижу в Вашем рассказе никакого направления. В принципиальном отношении тут нет ничего ни против либерализма, ни против консерватизма; и я решительно не понимаю, почему – если б выкинуть из повести одну или две фразы, – она бы приобрела тенденциозный характер? Ни либеральной, ни консервативной она бы не сделалась». Считая, что Чехов показал в своем герое не консерватора, а «просто пустого человека», «лгуна и мелкую натуришку», Плещеев спрашивал: «Антон Павлович – нет ли у Вас тоже некоторой боязни – чтоб Вас не сочли за либерала? Вам прежде всего ненавистна фальшь – как в либералах, так и в консерваторах. Это прекрасно…»
В подробном ответном письме Плещееву от 9 октября Чехов, благодаря его за откровенное мнение о рассказе, писал: «Мне кажется, что меня можно скорее обвинить в обжорстве, в пьянстве, в легкомыслии, в холодности, в чем угодно, но только не в желании казаться или не казаться… Я никогда не прятался <…> Правда, подозрительно в моем рассказе стремление к уравновешиванию плюсов и минусов. Но ведь я уравновешиваю не консерватизм и либерализм, которые не представляют для меня главной сути, а ложь героев с их правдой…». Готовя рассказ для отдельного издания, Чехов всё же снял прямые рассуждения о консерватизме и либерализме, заменив их более общими определениями. Исключил Чехов и большой отрывок в конце первой главы.
Отстаивая свое понимание «направления» в рассказе, Чехов в то же время согласился с другими замечаниями Плещеева и, переделывая рассказ для отдельного издания «Посредника», большинство из них учел. Так, Плещеев упрекал Чехова в том, что он смеется над украинофилом и советовал его из рассказа выбросить. «Мне сдается, что Вы, изображая этого украинофила, имели перед собой Павла Линтварева» (ГБЛ). Чехов отвечал, что он не имел в виду Линтварева. «Я же имел в виду тех глубокомысленных идиотов, которые бранят Гоголя за то, что он писал не по-хохлацки, которые, будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не имея ни в голове, ни в сердце, тем не менее стараются казаться выше среднего уровня и играть роль, для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки». Однако Чехов всё же исключил из рассказа этого бородатого нахмуренного гостя, одетого в «рубаху с шитьем, какое носил гетман Полуботок».
Плещеев считал, что Чехов высмеял «человека 60-х годов, застывшего в идеях этой эпохи» – и спрашивал: «… за что собственно? Вы сами прибавляете, что он искренен и что дурного он ничего не говорит…» [18]18
За «язвительную характеристику людей 60-х годов» упрекал Чехова и М. А. Протопопов в статье «Жертва безвременья…» («Русская мысль», 1892, кн. 6). Процитировав пространную характеристику дядюшки Николая Николаича, Протопопов писал, что «это не характеристика – это ряд ничтожнейших придирок и дешевеньких насмешечек над внешностью» (стр. 106).
[Закрыть]«Что же касается человека 60-х годов, – отвечал Чехов, – то в изображении его я старался быть осторожен и краток, хотя он заслуживает целого очерка. Я щадил его. Это полинявшая, недеятельная бездарность, узурпирующая 60-е годы; в V классе гимназии она поймала 5–6 чужих мыслей, застыла на них и будет упрямо бормотать их до самой смерти <…> он глуп, глух, бессердечен. Вы бы послушали, как он во имя 60-х годов, которых не понимает, брюзжит на настоящее, которого не видит <…> Шестидесятые годы – это святое время, и позволять глупым сусликам узурпировать его – значит опошлять его. Нет, не вычеркну я ни украйнофила, ни этого гуся, который мне надоел!» И тем не менее Чехов удалил из рассказа всю пространную характеристику дядюшки Николая Николаича. Смягчил Чехов и описание «земского деятеля». Снял также конец третьей главы, где снова описывались «земские деятели», но уже глазами местных дам – их молодых жен.
Переделывая рассказ, Чехов помнил и об упреке в подражании художественной манере Толстого. Плещеев писал в том же письме: «… разговор Ольги Михайловны с бабами о родах, и та подробность, что затылок мужа – вдруг бросился ей в глаза, отзывается подражанием „Анне Карениной“, где Долли также разговаривает в подобном положении с бабами; и где Анна вдруг замечает уродливые уши у мужа». «Вы правы, что разговор с беременной бабой смахивает на нечто толстовское, – отвечал Чехов. – Я припоминаю. Но разговор этот не имеет значения; я вставил его клином только для того, чтобы у меня выкидыш не вышел ex abrupto (вдруг). Я врач и посему, чтобы не осрамиться, должен мотивировать в рассказах медицинские случаи. И насчет затылка Вы правы. Я это чувствовал, когда писал, но отказаться от затылка, который я наблюдал, не хватило мужества: жалко было». Готовя рассказ для отдельного издания, Чехов выбросил рассуждения о затылке и значительно сократил размышления Ольги Михайловны о муже, ее обиды, досаду и страх.
Очевидно, по совету Плещеева Чехов снял и заключительную сцену прощания Петра Дмитриевича с доктором. Плещеев писал о ней: «Мне показалось также не совсем правдивым в конце повести, что Петр Дмитриевич, только что плакавший перед женой о ребенке, – едва успел выйти в другую комнату – как начал уже ломаться и комедиянствовать. Несомненно, что человек этот никогда не перестанет лгать; что он на другой же день – может быть – напустит на себя свой обычный фальшивый тон… Но чтоб он минуту спустяпосле искреннего порыва и слез принялся за лганье, – воля Ваша, это мне кажется шаржированным, неверным». В ответ Чехов разъяснял Плещееву: «Правы Вы также, что не может лгать человек, который только что плакал. Но правы только отчасти. Ложь – тот же алкоголизм. Лгуны лгут и умирая».
Сократил Чехов и некоторые повторы, излишне подробные описания (разговоры гостей, их разъезд, развлечения, приготовление чая); убрал старика Захара. Возможно, это было сделано под влиянием замечания Плещеева: «… середина повести – признаюсь Вам – скучновата. Очень долго действие топчется на одном месте; повторяются иногда даже одни и те же выражения, так что читатель вместе с хозяевами начинает желать, чтоб гости разъехались поскорей».
При переизданиях рассказа в «Посреднике» Чехов следил за перепечаткой текста и читал корректуру (см. письмо И. И. Горбунову-Посадову от 24 сентября 1898 г.). Однако существенных исправлений текста Чехов не производил, и разночтения 1-го и 3-го изданий невелики. Все эти разночтения, в ряде случаев, по-видимому, неавторского происхождения, из 3-го издания «Посредника» без изменения перешли в издание А. Ф. Маркса.
Для издания Маркса Чехов произвел ряд дополнительных сокращений: убрал оставшиеся упоминания о либерализме, снял подробности в описании родов, разговоров о болезни. Были внесены также многочисленные мелкие поправки.
Первым читательским откликом был отзыв Лейкина. «Есть места очень хорошие, – писал он Чехову 7 ноября 1888 г. – Отучил только Вас этот „Северный вестник“ писать весело!» (ГБЛ). Чехов сообщал друзьям о том, что рассказ прежде всего понравился женщинам. «Своими „Именинами“ я угодил дамам. Куда ни приду, везде славословят. Право, недурно быть врачом и понимать то, о чем пишешь. Дамы говорят, что роды описаны верно» (Суворину, 15 ноября. Ср. письмо Плещееву от 13 ноября). Врач Е. М. Линтварева сообщала писателю: «В Сумах Ваши „Именины“ произвели большую сенсацию, которая выражалась иногда очень комично» (ГБЛ).
В первых же печатных критических отзывах отмечалась глубина психологического анализа и художественность рассказа. Так, постоянный обозреватель газеты «Новости дня» (В. В. Кузьмин) писал: «Рассказ написан мастерски: ярко, тепло, художественно, просто и правдиво <…> Превосходно отмечен момент психологического кризиса у больной женщины…» ( Читатель. Заметки читателя. – «Новости дня», 1888, № 1944, 2 декабря). Критик «Русских ведомостей» указывал, что «психологический анализ, весьма яркий и глубокий, составляет всю суть, всё значение произведения. Г. Чехов по временам и по местам в этом психологическом анализе неподражаем, необыкновенен…» ( Ар. <А. И. Введенский>. Журнальные отголоски. – «Русские ведомости», 1888, № 333, 3 декабря). На глубину психологического анализа указывали также Н. Веневич <В. К. Стукалич> («Очерки современной литературы». – «Русский курьер», 1888, № 319, 18 ноября) и критик А-ъ («Журнальное обозрение». – «День», 1889, № 219, 5 января).
Тонкое изображение психологии отмечала в рассказе и более поздняя критика. Так, П. П. Перцов в статье «Изъяны творчества. Повести и рассказы А. Чехова» («Русское богатство», 1893, № 1) писал, что изображение душевного состояния беременной женщины, измученной хлопотливым днем именин, раскрывает нам, каков Чехов «как психолог, как наблюдатель потаенной внутренней жизни человека, помыслов и душевных движений, зарождающихся в интимной глубине его „я“…» (стр. 48). Однако тонкий психологический анализ, юмор, яркий рисунок и свежие живые картины природы не искупают, по мнению Перцова, основного недостатка в целом «неудачного» рассказа «Именины» – его отрывочность, неясность, непродуманность содержания и непонимание автором общественной стороны жизни.
Как и при оценке других произведений Чехова этого периода, журнальные обозреватели единодушно говорили о растянутости сюжета рассказа. Признавая «глубокий талант в авторе», А. И. Введенский писал, однако, о «бесконечной веренице» подробностей, вредящих «художественной целостности» («Русские ведомости», 1888, № 333, 3 декабря). Н. Ладожский (В. К. Петерсен) считал, что рассказ «длинноват и скучноват» («Критические наброски». – «Санкт-Петербургские ведомости», 1888, № 326, 25 ноября); Читатель (В. В. Кузьмин) полагал, что «талантливый рассказ Чехова ничего бы не потерял, если бы автор чуточку посократил его» («Новости дня», 1888, № 1944, 2 декабря). Подобные мнения о рассказе высказывались и позднее. В книге К. Ф. Головина «Русский роман и русское общество» рассказ «Именины» служил примером неумения Чехова дать целостную картину жизни (см. примечания к рассказу «Огни» * ). Головин утверждал, что произведениям Чехова свойственно «отсутствие гармонии между фактами жизни и ощущениями людей…». «Кричащий диссонанс» (появление на свет нового человека и пошлые разговоры) «придуман автором без всякой внутренней связи между характерами действующих лиц и событиями дня именин. И нужна была г. Чехову как раз такая случайность, чтобы семейный праздник и появление на свет ребенка непременно совпали в один и тот же день и вдобавок, чтобы все приглашенные оказались нелепейшими и глупейшими людьми» (стр. 457). «Мелкие подробности жизни» подобраны тонко, «а в целом, – делал вывод Головин, – ни жизненной драмы, ни картины быта, ни даже характера не выходит» (там же).
Делались попытки сближения художественной манеры Чехова и Толстого. Р. Дистерло в «Неделе» писал, что рассказ создан «совершенно в духе и в стиле графа Толстого». «Здесь жизнь русского интеллигента, помещика и земского деятеля, рассматривается не с точки зрения красоты, а исключительно с точки зрения правды. В изображении автора жизнь эта представляется целиком наполненной ненужною ложью перед собой и людьми. По тону рассказ чрезвычайно напоминает „Смерть Ивана Ильича“. Оба рассказа одинаково вызывают отвращение к изображаемой жизни». Разницу критик видел в «некоторой придуманной искусственности действия у Чехова» в сравнении с «природой и естественностью Толстого» (Р. Д. Современная русская литература. – «Неделя», 1889, № 1, 1 января, стлб. 34).
Еще до появления рассказа в собрании сочинений он начал переводиться на иностранные языки. Сохранилось письмо к Чехову от 25 ноября 1897 г. переводчика Вольфгейма Германа из Берлина: «Читаю прелестный рассказ Ваш „Именины“ и хотел бы перевести его на немецкий язык. Осмеливаюсь затем обратиться к Вам с просьбой дать мне позволение» (ГБЛ). Разрешение Чехова на перевод было получено, что видно из письма Германа от 18 декабря того же года.
При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий, сербскохорватский и шведский языки.
Стр. 178. …держимордовские взгляды…– Держиморда – полицейский, персонаж комедии Гоголя «Ревизор».
Стр. 181. …всяких там Боклей…– Генри Томас Бокль (1821–1862), английский историк и социолог.
… этих Шопенгауэров…– Артур Шопенгауэр (1788–1860), немецкий философ.
… собиралась родить, по ее вычислениям, к Илье-пророку. – День Ильи-пророка приходился на 20 июля по ст. стилю.
ПРИПАДОК
Впервые – сборник «Памяти В. М. Гаршина», СПб., 1889 (ценз. разр. 29 ноября 1888 г.), стр. 295–319. Подпись: Антон Чехов.
С исправлениями вошло в сборник «Хмурые люди», СПб., 1890, и включалось во все последующие его издания.
Перепечатано (по тексту 4-го издания «Хмурых людей») в сборнике «Проблески», М., изд. «Посредник», 1895.
Вошло с поправками в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. V, стр. 176–203.
24 марта 1888 г. трагически погиб В. М. Гаршин. Чтобы почтить память писателя, а также с целью создания фонда для сооружения памятника, возникла мысль об издании сборника «Памяти Гаршина». Работу над таким сборником начали одновременно сотрудники газеты «Новости» с К. С. Баранцевичем во главе и редакция журнала «Северный вестник» в лице А. Н. Плещеева. 29 марта Баранцевич просил Чехова прислать что-нибудь для сборника: «Что ни дадите – напечатанное или нет – пойдет всё» (ГБЛ). Чехов ответил ему на следующий же день: «Мысль Ваша заслуживает и сочувствия, и уважения уж по одному тому, что подобные мысли, помимо их прямой цели, служат еще связующим цементом для немногочисленной, но живущей вразброс и в одиночку пишущей братии. Чем больше сплоченности, взаимной поддержки, тем скорее мы научимся уважать и ценить друг друга <…> Я непременно пришлю что-нибудь для сборника…».
В этот же день, 30 марта, отправил Чехову аналогичную просьбу и Плещеев: «Пожалуйста, дайте хоть маленький рассказец. Все статьи будут бесплатные». При этом Плещеев предупреждал: «Такой же сборник затеяли сотрудники „Новостей“ с Баранцевичем и Лихачевым во главе. Питаем надежду, что Вы не отдадите им предпочтения перед нами» ( ГБЛ; ЛН, т. 68, стр. 314). 31 марта Чехов ответил Плещееву: «Вчера я послал Баранцевичу согласие участвовать в его сборнике „Памяти Гаршина“. Ваше приглашение пришло поздно. Как мне быть?» Плещеев в письме к Чехову от 2 апреля подробно описывал совещание по поводу Гаршинского сборника: «Привлекли мы туда и Баранцевича с К°, заявившей о своем издании, думая слиться с ними и из двух сборников составить один. Но мы так расходимся в плане и вообще во взглядах на этот сборник, что порешили: пускай издает каждый из двух кружков свой особый сборник. Они торопятся, чтобы как-нибудь, тяп да ляп, поскорей сварганить и пустить в продажу <…> Мы намерены составить свою книжку посолиднев» ( ЛН, т. 68, стр. 318). Что касается участия Чехова, то Плещеев советовал ему в сборник Баранцевича, который «новых произведений у авторов не просит», дать что-либо уже напечатанное, а в его сборник «дать маленький ненапечатанный рассказец, который Вы успеете еще приготовить к 1 августа (крайний срок)». «Очень жаль, что „Север<ный> вестник“ и Баранцевич не пришли к соглашению. Два сборника, освященных одной и той же целью и выходящих один тремя месяцами раньше другого, составляют чувствительное неудобство друг для друга», – отвечал Чехов Плещееву 4 апреля. Последний продолжал упорно просить «непременно» дать рассказ в его сборник, и Чехов уклонился от посылки какой-либо вещи в сборник Баранцевича (сборник «Красный цветок», СПб., 1889, вышел без участия Чехова).
Просьбу о рассказе Плещеев повторил 13 сентября: «Мне поручено слезно умолять Вас, чтоб Вы дали что-нибудь, хоть очень коротенькое, хоть на 1/2 листика, если не можете более <…> Пожалуйста, не откажите. Сделайте это для меня, голубчик» ( ГБЛ; ЛН, т. 68, стр. 329–330). 15 сентября Чехов ответил: «Не дать рассказа – не хочется», потому что таких людей, как Гаршин, «я люблю всей душой», но «у меня решительно нет тем, сколько-нибудь годных для сборника. <…> Впрочем, есть у меня еще одна тема: молодой человек гаршинской закваски, недюжинный, честный и глубоко чуткий, попадает первый раз в жизни в дом терпимости. Так как о серьезном нужно говорить серьезно, то в рассказе этом все вещи будут названы настоящими их именами. Быть может, мне удастся написать его так, что он произведет, как бы я хотел, гнетущее впечатление; быть может, он выйдет хорош и сгодится для сборника, но поручитесь ли Вы, милый, что цензура или сама редакция не выхватят из него то, что в нем я считаю за важное? <…> Если поручитесь, что ни однослово не будет вычеркнуто, то я напишу рассказ в два вечера». В ответ Плещеев заверил Чехова, что «сборник будет бесцензурный» и «ничего не будет изменено» в рассказе. 9 октября 1888 г. Чехов сообщил, наконец, Плещееву, что завтра садится за рассказ. «Когда он выльется в нечто форменное, то я уведомлю Вас и обеспечу обещанием. Готов он будет, вероятно, не раньше будущего воскресенья». Однако Чехов работал над «Припадком» не неделю, а месяц. 2 ноября Плещеев в отчаянии писал: «Вы нас губите <…> Ради всего святого, поторопитесь» ( ЛН, т. 68, стр. 336). «Рассказ <…> уже начат (1/4 сделана…)», – ответил Чехов 3 ноября и просил дать ему « одну неделюсроку». «Описываю Соболев пер<еулок> с домами терпимости, но осторожно, не ковыряя грязи и не употребляя сильных выражений». Через неделю, 10 ноября, Чехов сообщил Плещееву о том, что «рассказ близится совсем к концу». «Завтра или послезавтра кончу, перепишу, а в понедельник в 3 часа дня Вы его уже получите. Я пишу и всё время стараюсь быть скромным, скромным до скуки. Предмет, как мне кажется, настолько щекотлив, что малейший пустяк может показаться слоном. Думаю, что рассказ не будет резко выделяться из общего тона сборника. Он у меня грустный, скучный и серьезный». 11 ноября Чехов писал А. С. Суворину: «Сегодня я кончил рассказ для „Гаршинского сборника“ – словно гора с плеч <…> Накатал чуть ли не 2000 строк. Говорю много о проституции, но ничего не решаю. Отчего у Вас в газете ничего не пишут о проституции? Ведь она страшнейшее зло. Наш Соболев переулок – это рабовладельческий рынок». И, наконец, 13 ноября рассказ был отделан, переписан и послан. Но он получился шире, серьезнее и вышел за рамки задуманного ранее «маленького рассказца», который был заказан для сборника. «Получили? Прочли? – писал Чехов Плещееву. – Небось, сердитесь? Рассказ совсем не подходящий для альманашно-семейного чтения, неграциозный и отдает сыростью водосточных труб. Но совесть моя по крайней мере покойна: во-первых, обещание сдержал, во-вторых, воздал покойному Гаршину ту дань, какую хотел и умел. Мне, как медику, кажется, что душевную боль я описал правильно, по всем правилам психиатрической науки. Что касается девок, то по этой части я во времена оны был большим специалистом».
Получив «Припадок», Плещеев писал Чехову 16 ноября: «Мне рассказ этот понравился, напротив, понравилась его серьезность, сдержанность, понравился и самый мотив. Но всё же мы очень боимся, чтоб цензура не вырезала его из сборника. Она не любит, чтоб касались „этого предмета“. Насчет целомудрия строга» ( ГБЛ; ЛН, т. 68, стр. 338). 23 ноября Чехов писал Е. М. Линтваревой: «Рассказ велик и но очень глуп. Прочтется он с пользой и произведет некоторую сенсацию. Я в нем трактую об одном весьма щекотливом старом вопросе и, конечно, не решаю этого вопроса».
В образе Васильева Чехов отразил многие черты Гаршина: его чувство ответственности за человека и его страдания, боль от сознания бессилия изменить порядок вещей. Чехов писал Суворину 11 ноября 1888 г.: «В этом рассказе я сказал свое, никому не нужное мнение о таких редких людях, как Гаршин».
В 1891 г., уже после того как «Припадок» вышел в сборнике «Хмурые люди», И. И. Горбунов-Посадов просил у Чехова разрешения издать рассказ в сборнике «За падших». Цель сборника – широкое распространение произведений, близких «по идеям и чувствам» массовому читателю. Чехов ответил, что «будет очень рад», если рассказ будет издан; но сборник, не пропущенный цензурой, не вышел. В 1893 г. Горбунов-Посадов просил у писателя разрешения поместить рассказ в новый предполагаемый сборник – «Действительность». Чехов решительно возразил: «„Припадок“ помещен в сборнике Гаршина и в моем сборнике „Рассказы“. Читатель немало будет удивлен, если увидит его еще и в сб. „Действительность“». «Выйдет так, что читатель за каждый мой рассказ будет платить два-три и даже четыре раза, а это уж совсем неловко» (письмо от 20 мая 1893 г.). Однако два года спустя Горбунов-Посадов все же опубликовал «Припадок» в сборнике «Проблески».
Готовя рассказ для публикации в сборнике «Хмурые люди», Чехов внес в него отдельные мелкие поправки. При переиздании сборника в тексте рассказа появлялись отдельные разночтения, по-видимому, связанные с новым типографским набором (менялись формы глаголов, варьировалась пунктуация, исчезли некоторые курсивы). В сборнике «Проблески» рассказ был перепечатан без изменений (это указано и в примечании) из сборника «Хмурые люди» 1894 г. – т. е. с 4-го или 5-го его издания.
Для издания же А. Ф. Маркса Чехов исправил рассказ, сделав в тексте значительные сокращения – убрал из VI главы объяснение, почему спасение женщин нужно видеть не в науках и искусствах, а в «апостольстве»; в споре Васильева с медиком снял рассуждения последнего в защиту публичных домов и гневные возражения Васильева. В то же время Чехов внес в рассказ добавления, например, в характеристику женщин («Это были не погибающие, а уже погибшие»), произвел ряд замен иноязычных слов – русскими.
Рассказ, несмотря на опасения Чехова, был оценен современниками как один из лучших. Если Плещееву он понравился за «серьезность и сдержанность», то Горбунова-Посадова привлекало «глубоко нравственное впечатление», которое производил рассказ. «… Рад случаю пожать от души руку автору „Припадка“, – писал он Чехову 9 марта 1891 г., – и пожелать ему подарить русскую литературу не одним еще столь же значительным произведением» (ГБЛ).
8 декабря 1888 г. Чехов сообщал А. П. Ленскому: «В понедельник я читаю в Литературном обществе свой новый рассказ. Прения будут интересные. Придется ставить свою шею под удары таких неотразимых диалектиков, как адвокаты Андреевский и кн. Урусов. Впрочем, с нами бог!». 12 декабря 1888 г. «Припадок» был прочитан в Петербурге в Русском литературном обществе актером В. Н. Давыдовым и вызвал оживленные ирония. 13 декабря кн. Д. П. Голицын (псевд. Муравлин) описывал Чехову впечатление от прослушанного: «Рассказ написанпревосходно. Так же, как большинству Ваших слушателей (вернее, слушателей Давыдова), мне первая часть нравится больше второй, потому что изложена с замечательной простотой и, вместе с тем, с большим искусством». Однако Голицын всё же возражает именно против этой части, считая, что впечатление от рассказа было бы «несравненно приятней», если бы Чехов не водил своих героев по публичным домам. «Рассказ Ваш понравился и понравится всем, – заключает он, – потому что у Вас большой талант. Написан он, повторяю, удивительно хорошо, но в первой части, на мой взгляд, Вы явились художником нехудожественного» ( ГБЛ; «Из архива А. П. Чехова. Публикации». М., 1960, стр. 178–179).
Против упреков подобного рода решительно выступил Д. В. Григорович, который послал 27 декабря 1888 г. Чехову письмо с подробным анализом «повести». «Мнение мое, – писал он, – диаметрально противоположно мнению лиц, возмущающихся цинизмом мотива, и тех также, которые находят, что припадок главного лица ничем не мотивирован в начале рассказа. Первое обвинение – сущий вздор, хуже того: сквозь него просвечивает лицемерие, которое начинает теперь быть в моде. „Невский проспект“ Гоголя, где быт дома разврата обрисован гораздо подробнее, никого не возмущал даже в то время, когда такие сюжеты считались немыслимы в литературе не только у нас, но и во Франции. 2-е обвинение объясняется небрежностью читателя <…> или же просто недостатком верного литературного чутья. С первых страниц видно, что Васильев в высшей степени нервная, болезненно-впечатлительная натура <…>. Припадок, напротив, подготовляется постепенно с замечательным искусством; чувствуешь, что Васильев неизбежно кончит чем-нибудь трагическим, и, горячо всё время ему сочувствуя, радуешься, что дело обошлось, разрешилось только припадком…». Далее, Григорович говорит, что главное лицо в повести совсем не Васильев, а суть дела в «высоком человечном чувстве, которое от начала до конца повести всё в ней освещает и всё оправдывает; меня по крайней мере чувство это преследовало всё время и хватало за душу». Григорович останавливается на отдельных художественных особенностях «Припадка»: «Вечер с сумрачным небом, только что выпавшим и падающим мокрым снегом, – выбран необыкновенно счастливо; он служит как бы аккордом меланхолическому настроению, разлитому в повести, и поддерживает его от начала до конца. Впечатления природы переданы у Вас с большим еще мастерством, чем в других Ваших рассказах; несколько строк всего, – но всё так глубоко прочувствовано, так мастерски передано, – что точно сам переживаешь впечатленье. Страница 296, строки от 6-й до 11-й [19]19
От стр. 199, строк 32–36 до стр. 200, строки 2 в наст. томе.
[Закрыть]– просто прелесть! Я бесился, что никто не оценил строчку 6-ю на 308-й странице [20]20
1-ю строку на странице 212 наст. тома.
[Закрыть], и были, говорили мне, еще поэты при чтении в литературном обществе» (ГБЛ). (Строка, так понравившаяся Григоровичу: «И как не стыдно снегу падать в этот переулок!», была при подготовке издания Маркса заменена на: «И как может снег падать в этот переулок!»). 23 декабря 1888 г. Чехов писал Суворину: «Литературное общество, студенты, Евреинова, Плещеев, девицы и проч. расхвалили мой „Припадок“ вовсю, а описание первого снега заметил один только Григорович».








