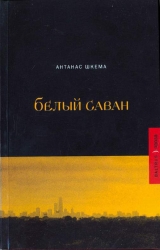
Текст книги "Солнечные дни"
Автор книги: Антанас Шкема
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Испарившийся абрикос
– Сколько ему лет, Вера Александровна? – интересуется Медведенко, сворачивая толстую самокрутку.
– Девять, Илья Иванович.
Медведенко смачивает языком обрывок бумаги, достает из кармана шаровар спичечный коробок, спички в нем расщеплены пополам.
– Вот и я уже начал, – он широко улыбается.
Медведенко – украинец, крепкий мужик с рыжими усами, с круглыми зелеными глазами и вздернутым носом. Курносый нос придает ему какой-то легкомысленный вид, отчего квадратное лицо кажется удивленным. От человека с таким лицом только и ждешь веселой болтовни. Однако стоит Медведенко раскрыть рот, и слушатель бывает странным образом поражен: у этого рыжеусого крепыша низкий, сочный бас. Тембр голоса на редкость раскатистый и печальный. Как будто Медведенко сейчас запоет церковный псалом, протяжно, раздольно. Он сидит на каменном приступке и наблюдает за Верой. А Вера устроилась в плетеном кресле, на ней белое платье, она заметно похудела, сейчас она сидит и смотрит в сад, где деревья тесно сплелись ветками. Медведенко чиркает тощей спичкой, пахнет крепкой махоркой, пес заливается бешеным лаем, вечерние тени удлиняются, тончают. «Эй, давай, распрягай и пои коней, слышь!» – кричит вдалеке женский голос, сизый дым поднимается в голубое небо.
– Созревание идет. Вот что. Во дворе у вас грязные делишки творятся.
– Я запрещаю ему ходить туда. Каждый день об этом твержу. Нукас – послушный ребенок. Он у меня хороший.
– Они говорят «свободная любовь». Всеобщий разврат. Вчера как раз проходил мимо. Видел.
Медведенко больше не смотрит на Веру. Сидит и с озабоченным видом пускает дым. Голубая завеса повисает над крыльцом, окутывает сад, потом становится серой, рвется и исчезает в воздухе.
– Уложила Нукаса. Молись, сказала, молись, раз на душе тяжело. – И он долго молился. Потом лег и спрашивает: «Мама, а Бог и вправду есть?» – «Конечно, есть», – ответила ему. – «Если Он есть, Он все равно плохой». Откуда у ребенка такие мысли, Илья Иванович? Мне страшно, Илья Иванович.
Медведенко жадно глотает дым. Узловатые пальцы с коричневыми ногтями осторожно сжимают самокрутку, еще пару затяжек – и докурит, пожалуй. Он снова приподнимает голову, наблюдает за Вериным лицом.
…Красивые у нее глаза. А смотрит ими на своего Вилейкиса. Сынок вон вчера подглядывал за красноармейцами, как они пьяную бабу тискали. Сплошная чертовщина – этот мир…
– Успокойтесь, Вера Александровна. В этом возрасте дети начинают задумываться. Забивают голову чепухой. Потом все забудется. Вы его во двор не пускайте, Вера Александровна.
Медведенко басит на самом нижнем регистре. Какое-то время они оба молчат.
– Хороший вечер, – неожиданно вырывается у него.
… Не умею я с ней разговаривать. Глаза у нее красивые… Хорошие у вас глаза… Ну, взгляните вы на меня добрыми своими глазами. Просто так взгляните. Ладно?..
– Хороший. Когда жила у отца, вечерами ездила верхом поить коней. Тихо сейчас в степи.
Она встает с кресла, подходит к крыльцу и усаживается на ступеньку чуть пониже, чем Медведенко.
– Тихо…
Медведенко смотрит на Верину шею. Вечернее солнце словно лаком обрызгивает черные волосы, и они блестят. Медведенко с удовольствием бы потрогал их своими узловатыми пальцами, но не осмеливается.
…Может, потому, что Вилейкис мой друг? Нет. Пальцы у меня пожелтели, вот что. От плохого табака. Вместо носа – две сопелки. Откуда торчит рыжая щетина. А усы позеленели. И глаза – как у хорька. Ноги опять-таки кривые. И… мать у меня некрасивая, отец тоже некрасивый, сынок вон – черт чумазый. Вилейкис торчит в Таганроге, носится, вызнает, каким транспортом доставляют беженцев в Литву. Что она там будет делать – в чужом краю? Она и здесь – в трехстах верстах от родных мест – тоскует. У нее был нервный припадок. Эх, если б она осталась. Я ведь неплохой человек. «Медведенко – хороший ребенок, Медведенко – хороший учитель. Медведенко – хороший человек», тьфу…
– К черту, – произносит вслух Медведенко, и Вера поворачивается к нему.
– Что с вами, Илья Иванович?
– Так… ничего… вспомнил тут. Завтра схожу к бывшему старосте и к нынешнему коменданту деревни. Вроде завтра моя очередь. Может, и подпишет удостоверение личности.
– Подпишет. Хороший вы человек, Медведенко.
– Опять «хороший»! – вскидывается Медведенко.
Верины глаза вспыхивают.
– Вам часто доводится слышать эти слова?
Она сидит, обхватив колени руками, выгнув спину. «Ты мягкая кошка», – думает про себя Медведенко и снова вспоминает, что ему уже сорок пять лет и что когда он вот так стоит, то его кривые ноги особенно бросаются в глаза. Поэтому он мнется, переступая с ноги на ногу, и говорит:
– Иногда… Иногда так хочется услышать что-то другое.
– Что?
– Вера Александровна…
Он делает шаг вперед, руки безвольно повисают плетьми, наверное, точно так же обвисли сейчас и его позеленевшие усы, и вообще он конечно же смешон, до невозможности, удручается Медведенко.
Женщина поднимается со ступеньки крыльца, выставляет свою большую грудь и говорит:
– Пойдемте в сад…
Медведенко сгибает руку в локте каким-то нелепым треугольником, тонкие женские пальцы ложатся на его окаменевшие мускулы, поступь у него непривычно мелкая, он старается попасть в ногу с женщиной, так и шагает.
Женщина ощущает его тяжелое, напрягшееся тело и начинает учащенно дышать. Понимает, что он зря озирается по сторонам, что не может найти подходящих слов.
…Если сейчас прижмусь к нему, он заговорит. Легкий наклон тела влево, выжидающий взгляд – как мало нужно, чтобы люди сблизились! Новая жизнь. Вокруг далеко простираются степи. Летом они пахнут травой и ветром, зимой – снегом. Степь, покой, Нукас. Антанас уезжает в далекую Литву. Она тихонько по ночам плачет. В темноте приходит другой и обнимает ее. На коленях лежит незаконченное шитье, она сидит у открытого огня, со двора доносятся чьи-то крики, курганы застыли, молчат. Вечное молчание. Сумасшествия больше нет. Тумана в мозгу, слез, крика, слов – ничего нет. Покой, степь, Нукас. Легкий наклон тела влево…
– Милый Илья Иванович, у меня к вам просьба, – говорит Вера и высвобождает свою руку. Они стоят лицом к лицу. Над ними склонилась тяжелая от персиков ветка. Медведенко срывает плод, кладет себе в рот, неторопливо впивается в него зубами.
– Простите, – затаив дыхание, произносит он, посасывая сочную мякоть персика.
– Вы лучше знаете психологию мальчиков. Вы мужчина. У Антанаса столько забот… – Вера носком туфли рыхлит песок на дорожке сада. – Подружитесь с Нукасом. Вы умеете так осторожно повести речь, не сердитесь, но вы и вправду хороший человек, вдруг он вам откроется? Договорились?
Медведенко опускает голову, и Вера бредет назад, потом приостанавливается и говорит:
– Приходите ужинать. Мне скучно. Антанас вряд ли вернется из Таганрога сегодня.
Она смотрит на него другими глазами, они и впрямь у нее теперь уже не раскосые, а круглые и удивленные, как у маленькой девочки. Медведенко осторожно выбирает изо рта персиковую косточку, внимательно оглядывает и прячет в карман. Затем большими шагами направляется в глубину сада.
Нукас лежит на животе, задрав вверх ноги, и ощипывает растущие перед ним травинки. Он даже не чувствует, что позади него стоит Медведенко.
…Человечек решает извечные вопросы.
Что такое любовь, кто он, этот Господь Бог? Он пытается разрешить вопросы, которые занимают всех. Черт знает, о чем с ним можно говорить? Обычно чуткие мальчики очень скрытные. Вечером они будут долго сидеть с нею в сумерках. У Веры нет керосина. У меня припрятаны в изголовье две бутылки. Но в этот вечер пусть лучше будет темно. В сумерках я решусь, в сумерках я действительно наберусь смелости. А какие у нее, однако, глаза, совсем круглые. «Приходите ужинать. Мне скучно. Антанас вряд ли вернется из Таганрога сегодня». Надо сходить к Смыслову, тот подстрижет усы поаккуратнее. И щетину в носу тоже надо убрать ножничками. Сегодня утром он брился. На ногах чистые портянки. У меня красивый голос. Если бы Вера осталась здесь… Мартинукас. Вот он лежит в траве, Мартинукас…
– Нукас, – тихо окликает Медведенко.
Мартинукас медленно поворачивает голову. Он очень удивлен появлению учителя. Поэтому вскакивает и залпом выпаливает:
– Добрый день. Вы маму ищете? А мама дома, – в его взгляде откровенно прочитывается: «Оставь меня в покое».
– А я тебя ищу. Что тут делаешь?
– Думаю.
– О чем же?
– Ни о чем. Просто так.
Лицо у Мартинукаса бледное, под глазами пролегли темные треугольники, его длинные женственные пальцы мнут сорванную травинку.
– Пойдем-ка к речке. Надо бы с Караченко на завтра сговориться. Собираемся рано утром порыбачить. Ну, пошли!
Оба шагают молча. Перелезают через пролом в заборе, и сразу же перед ними предстает белая церковь, выныривает неожиданно церковь о четырех углах с луковкой и узкими окошками. На церковном дворе больше не косят траву. Центральный вход забит досками. Уже месяц как старый поп с камнем на шее лежит на дне Миуса, а два служки и вообще пропали. Поп прятал белого офицера, как рассказывал потом комендант их деревни… Никому не известно, когда прибудет новый и начнет здесь службу служить. Проходя через церковный двор (так можно быстрее выбраться на улицу, ведущую к реке), они замечают у церковной стены почти столетнего диакона Димитрия. Старец стоит с открытым ртом и смотрит в багровеющее небо. Длинные его одежды порыжели от времени, запылились, а серая кожа лица своим цветом сливается с поблекшими глазами. Продольные морщины сбегают от глаз вниз, к подбородку, изо рта торчат два верхних зуба. Медведенко останавливается и спрашивает:
– Чего ждешь, отец диакон?
– А? – очнулся Димитрий. Морщины теперь собираются на лице у него крест-накрест, и в выражении проступает какое-то коварство.
– Ласточки низко летают. Дай вам Бог здоровья, Илья Иванович, и тебе, малыш, тоже. Голова кружится, дорогие, пожалуй, пойду домой, сейчас двинусь.
Он отделяется от церковной стены и, качаясь, делает несколько шагов вперед на широко расставленных, негнущихся ногах. Кажется, диакон непременно упадет лицом вниз. Медведенко берет его под руку.
– Пойдемте вместе, отец диакон.
– Нет, нет, я один. Ступайте, ступайте, я один. Комендант увидит, всем камень на шею привяжет. И в реку, в реку. Будете рыб кормить, дорогие.
Он вырывает свою руку и машет ладонью, словно прощается перед дальней дорогой.
– Ступайте, дорогие, ступайте.
Медведенко с Нукасом выходят с церковного двора, а Димитрий провожает их глазами и все еще машет костлявой ладонью.
– А почему он боится камней?
– Он мечтает, Нукас. Старые люди всегда мечтают и сами с собой разговаривают.
Ухабистая улица резко идет идет под уклон. Медведенко хватает Мартинукаса за руку.
– Ты чего такой грустный, Нукас? И все время один. С Васькой больше не дружишь?
Слабая ручонка так и норовит выскользнуть из крепкой ручищи.
– Васька плохой парень. Врун. Ты ему не верь, – продолжает Медведенко, не выпуская детской ручонки. – Небось, наболтал всякой чепухи, а ты и поверил?
Медведенко улыбается во весь рот.
– Послушай. Когда люди выпьют водки, они сходят с ума. Ты давал когда-нибудь кошке полизать валерьянку?
Мартинукас кивнул.
– То-то. Пьяные очень похожи на кошек, налакавшихся валерьянки. Выкидывают разные коленца, а протрезвев, стыдятся. Люди трезвые, к примеру, твои родители, о таких дурачествах и не помышляют.
– Господин Медведенко…
– Да, Нукас?
– Это вы по маминой просьбе со мной беседуете?
Медведенко теряется. Он уже не сжимает с прежней силой руку Мартинукаса, он ищет ответ и не находит…
Улица совсем сужается, к реке сбегает длинная лента садов и огородов, мужчина с мальчиком замирают на месте и смотрят, как красное солнце на горизонте перекатывается с кургана на курган.
– Я хочу видеть Бога, – тихо произносит Мартинукас.
– Бога… Бога увидишь, когда умрешь. Придется еще пожить, вот постареешь, тогда… Дождешься возраста отца диакона…
– Не хочу никакого отца диакона… Он боится камней. Не хочу умирать. Хочу живым его увидеть. Отпустите меня. Хочу сам… один.
Медведенко выпускает слабую ручонку.
– Сейчас пойдут сады… – зачем-то говорит он, а долговязый человечек в залатанных штанишках и с грязными ногами тем временем уже топает в пыли, понурив голову. Ну почему ему врет Медведенко? Зачем? Нарочно завел его сюда и теперь несет всякую околесицу, пытается обмануть. Нет, та сцепившаяся парочка в телеге – это все правда, он знает это наверняка.
Сады и огороды вереницей тянутся вдоль берега, приникая к самой воде, у каждого деревенского жителя в этом фруктовом саду свой участок. Все они отгорожены друг от друга заборами, в гуще обычно стоит сооруженный из веток шалаш. Пока плоды созревают, в таком шалаше обитают старики и дети. В такое время в садах тихо. Старики дремлют, дети купаются в речке. Усыпанные плодами деревья не шелохнутся, под ногами похрустывают сухие ветки, шуршит прибрежный тростник, от реки наплывают волны смеха и веселого гомона, эти волны докатываются до зеленого марева садов, во все стороны бегут извилистые дорожки, они сужаются и окончательно теряются среди помидорных и баклажанных грядок.
Неподалеку от полоски огородов, в том месте, где на воде Миуса мерцают, переливаются солнечные блики, Мартинукас останавливается.
– К речке я не пойду.
– Почему?
– Там ребят много. Они кричат. Я лучше тут подожду, господин учитель.
– А выкупаться не хочешь? Вода сейчас теплая. Я перекинусь словом с Караченко, а ты будешь рядом плескаться.
– Нет, я тут подожду, – упрямится Мартинукас.
– Хорошо. Только не убегай. Я сейчас вернусь. Не сбежишь?
– Нет.
Медведенко юркает вправо, пересекает полоску огородов и исчезает среди тростника.
А почему он не пошел? Ведь любит же купаться. Уже научился плавать. Приятно освежиться в такой вечер, и Медведенко вон рядом, не страшно тонуть. В другой раз помчался бы прямо через грядки, через тростник – стрелой бы летел. А теперь…
Мартинукас разворачивается и бредет назад, туда, где раскинулись сады. Крайний участок пуст, вокруг тоже ни души. Наверное, эти сады сторожат ребятишки, сейчас они купаются. Мартинукас перелезает через низкий плетень, подходит к шалашу и отодвигает грязную тряпку, висящую над входом. Внутри пахнет высушенным сеном, летними яблоками, тут же валяются сухая хлебная корка, кофта в заплатах и треснувшая глиняная чашка. Мартинукас забирается внутрь и при этом откидывает грязный полог, чтобы было видно, когда с реки будут возвращаться хозяева. Потом усаживается, опираясь на локти, сидит на земле и чего-то ждет.
– A-а, о-о, держи, – доносится с реки, в темном углу шалаша начинает жужжать пчела, сквозь откинутый полог врывается струя воздуха. Тянет вечерней сыростью, отчего слегка кружится голова.
– Держи! Дер-жи! – издалека слышится истошный крик, он какой-то долгий и протяжный, поэтому крик повисает над водой, затем ударяется о стволы деревьев, и это печальное «и-и-и» по-прежнему звучит в ушах, хотя само слово уже угасло минуту назад. Снова тихо, разве только бьется, жужжит заплутавшая пчела, пока тихий шелест не заглушает ее дрожащий гул. Словно кто-то принимается вдруг раскачивать дерево. Мартинукас вскакивает и осторожно высовывает свой любопытный нос из-за грязного полога. Может, кто забрел сюда из деревни? Он выбирается из шалаша и готов вот-вот задать стрекача, как неожиданно чувствует чей-то взгляд у себя на левом виске.
В нескольких шагах, под развесистым абрикосовым деревом, сидит маленький мальчик, лет пяти. Он сидит, привалившись к дереву. У него желтые вьющиеся волосы, светло-голубые глаза, его головка словно вырезана из какого-нибудь образка или иконки, он – вылитый ангел. Коричневые штанишки и чистая, белая рубашка прикрывают его пухлое тельце. Мальчик внимательно смотрит на забредшего сюда незнакомца и молчит.
Мартинукас оживляется. Сторож мал, бояться нечего – решает он.
– А ты чего тут сидишь?
– Абрикосы сторожу, – отвечает мальчик нежным девчоночьим голосом.
– Это твой сад?
– Мой.
– Ага. А что ты тут тряс, пока я сидел в шалаше?
– Ветку тряс. Вон один абрикос упал. Гляди.
Мальчик держит в руке желтый, спелый, мягкий и покрытый легким пухом плод. А может, съездить ему по лицу? Интересно, он заплачет или нет. Этого мальчика Мартинукас видит впервые.
– А ты меня знаешь?
– Нет.
– А моих родителей?
– Нет.
– Глупый ты. Кто захочет, тот и будет есть твои абрикосы. Тоже мне сторож!
Мартинукас дерзко продвигается в глубь сада. Он воинственно останавливается перед мальчиком, но тот не проявляет никакого испуга, даже не поднимается и не бежит прочь.
– Убирайся! Теперь я буду есть твои абрикосы, – сердито наморщив лоб, злобно заявляет Мартинукас, стараясь говорить при этом низким голосом.
– На, бери вот этот, – мирно отвечает мальчик и протягивает пухлую ручонку. – Бери, он вкусный, бери.
Прекрасный, большой, круглый плод закрывает всю ладонь ребенка, и Мартинукас теряется. Мальчик такой спокойный и добрый. Мартинукас приседает на корточки.
– Ты кто такой?
– Ребенок.
В глазах у мальчика смех. Губы сомкнуты.
– Вижу, что ребенок. А чей ты?
– Не знаю.
Отвечает он серьезно, как будто называет собственную фамилию.
– А живешь ты где?
– Здесь.
– Ты не выдрючивайся, а то сейчас получишь. В деревне где живешь?
– Ни в какой деревне я не живу.
Взгляд у него прямой. Так не врут – проносится в голове у Мартинкуса. Абрикос по-прежнему лежит на вытянутой ладони. Мартинукас замечает, что плод вроде стал больше, он как бы постепенно раздувается, увеличивается в размере. Сейчас абрикос станет величиной с яблоко. Странно, что он не скатывается с детской ладони. «А почему он не падает…» – хочет спросить Мартинукас, он поднимает глаза и видит, как за спиной у мальчика вырастают белые крылья, точь-в-точь как у ангелов, которых обычно изображают на иконах.
– У тебя есть крылья?
– Да.
– Ты ангел?
– Нет.
– Ты привидение?
У Мартинукаса пересыхает в горле, а сердце сжимается в комочек, точно его вдруг кто-то сдавил. Мальчик улыбается. Белый ряд зубов поблескивает в красноватом закатном свете, и Мартинукаса словно омывает каким-то теплым, успокаивающим течением.
– Нет. На, бери абрикос. Он твой.
Плод больше не увеличивается, не растет. Огромный, будто летнее яблоко, он лежит на ладони и просится в рот. Мартинукас осторожно берет обеими руками нежный и душистый абрикос.
– Я должен его съесть?
– Да.
Мартинукас подносит к губам абрикос, открывает рот и уже хочет откусить, но тут плод сам исчезает во рту, улетучивается, и лишь дурманящий запах еще какое-то время щекочет ноздри. Вокруг все пронизано этим запахом. Все пахнет и тает на глазах. Согнувшись, поникает развесистое дерево, как будто оно соткано теперь из дурмана. И пропадает в пространстве. Точно горящая бумага, сворачиваются, корежатся крылья за спиной у мальчика, миг – и он превращается в прозрачную тень. И когда Мартинукас хочет дотронуться рукой до этой тени, кто-то трясет его за плечо. Он вздрагивает и поворачивается. Рядом с ним стоит Медведенко.
Путешествие по улице
Неожиданно темнеет. Когда они оба поднимаются на второй этаж, женщина сидит у окна, неподвижная и сумрачная, как дерево в саду.
– Уже вернулись, – говорит она.
– Спать хочу.
– А есть хочешь?
– Спать хочу.
– Что с тобой?
– Спать хочу.
– Он абрикосами объелся, – вмешивается в разговор Медведенко.
Женщина поднимается, обнимает Мартинукаса и ведет его в соседнюю комнату. Медведенко остается возле окна.
«…Так и не успел усы постричь, свои пышные, колючие усы», – размышляет он, прислушиваясь к тому, что происходит за стеной. Там раздевается Мартинукас, а на горизонте – синие курганы исчезают в свете звезд.
… Я осмелею и коснусь ее руки…
– Спи спокойно, Нукас, – желает мать сыну, затем возвращается в комнату, прикрывает за собой дверь и останавливается поодаль.
– Он больше не молится.
– Пройдет, все пройдет, Вера Александровна.
– Вы с ним говорили?
– Он какой-то неразговорчивый. Остался в саду, пока я ходил на речку. Когда вернулся, он стоял под деревом на коленях.
– A-а, – вздыхает женщина. Медведенко отходит от окна, его сапоги отвратительно скрипят, он замирает, комнату наполняет вечерняя свежесть. Учитель, прерывисто дыша, наклоняется, тянет сапог за голенище – вдруг перестанет скрипеть. «Как, однако, свежо», – думает он.
– Вам не холодно?
– Нет. Садитесь, Илья Иванович. К сожалению, у меня мало керосина. Но для вас я погрею на примусе чай.
– Не нужно. Спасибо. Действительно не нужно. По правде говоря, я ведь обманщик.
– Вы?!
– То-то и оно. Под кроватью у меня две бутылки керосина. А вот не принес.
– Понимаю. Решили экономить.
Медведенко слышит ее голос, плывущий по комнате, и не понимает, издевается она или шутит.
– Да нет… я… может, сходить принести, Вера Александровна?
Два стула стоят рядом. Когда они сядут, он возьмет ее за руку, и она не будет отнимать ее, он осмелеет и Верину руку, руку, руку… Только бы не скрипели сапоги!
– Вы в самом деле не хотите поужинать? У меня восхитительная баклажанная икра. Намажу вам потолще. Вы должны есть. У вас запали щеки.
Медведенко чувствует, что она шутит.
– Спасибо. Может, позже. Сядьте, прошу вас, Вера Александровна!
Голос его совсем чужой, у него пересохло в горле, и ему очень хочется чаю. Женщина подходит, усаживается и ждет. Он устраивается рядом, нет, с сапогами вроде все в порядке. В лунном свете ему видна ее рука, длинная, тонкая, он протягивает свою и замечает – впервые в жизни у него дрожат пальцы.
– Красивые сегодня звезды, – говорит он. Его кисть повисает в воздухе.
– Звезд я не люблю. Люблю солнце.
– Солнце – это неплохо.
Медведенко резко вскакивает. Стул скрипит, он бредет куда-то в угол и задевает за шкаф. Старый шкаф попискивает котенком.
Женщина смеется. Звонкий смех рассыпается искрами в сумерках, и Медведенко осознает – смех способен светиться.
– Почему вы смеетесь, почему вы смеетесь? Не надо, Вера, не надо.
Он разговаривает теперь просительным тоном, напрочь забыв про свой красивый, низкий бас, и женщина перестает смеяться, сразу возвращаются сумерки, а Медведенко подходит к женщине, берет ее за руку и спокойно произносит:
– Я вас люблю, Вера, – и поскольку она не отнимает руки, он продолжает: – Останьтесь здесь, останьтесь со мной. Знаю, я некрасивый, непривлекательный, не слишком умный, вечный учителишка – вот и все. Я украинец, Вера. Чистый украинец – хохол. Я верю, мне удастся выстоять. Я выкручусь. Кровавые времена отступают. Мы сладим с ними. Мы терпеливые и хитрые. Мы выиграем свободу. И тогда здесь будет замечательно жить, Вера. Не уезжайте в эту далекую Литву. Останьтесь со мной, хорошо, Вера?
Он опускается перед нею на колени и целует ее руку, и женщина гладит его жесткие, коротко остриженные волосы. Когда рука застывает на одном месте и Медведенко вскидывает голову, во дворе гремит выстрел, и разъяренный мужской голос кричит:
– Я тебе морду набью, шлюха! Стой, кому говорю! Держи ее, братва!
Гул шагов сотрясает мостовую, трещат выстрелы, раздается женский вопль.
Стихает все так же быстро, но разбуженный Мартинукас успел вскочить с постели и теперь вбегает в комнату, где сидят взрослые, Вера бросается к сыну, хватает его на руки и часто-часто сыплет словами:
– Не бойся, Нукас, не бойся. Солдаты балуются. Им скучно, днем выспались, вот и стреляют понарошку, и кричат просто так. Пойдем, маленький, спать. Спокойной ночи, Илья Иванович. Уходите.
Она принимается укачивать Мартинукаса, точно младенца, на руках и уносит в другую комнату. Медведенко проводит ладонью по взмокшему лбу, ему ничего не остается, как уйти.
– Нет-нет, это была бы величайшая глупость! Мицкявичюс, какой-то Мицкявичюс. «Мы занимаемся только поляками». И тогда я заговорил по-польски. Царские рубли он, разумеется, взял. Транспорт уходит через неделю. Надо сидеть в Таганроге и ждать. Поедем через Харьков. Помнишь, Вера, какой там красивый вокзал? Нас еще ожидают формальности в Минске. Думаю, из Минска нас уже не вернут. Что ты там увязываешь, Вера?
Вилейкис острым коленом надавливает на крышку чемодана. Вера своими тонкими пальцами связывает в узел одеяло и подушки. Первые лучи солнца уже скользят по оконным рамам, над степью поднимается голубой туман, в соседней комнате на кровати прямо на голых пружинах спит Мартинукас. Внизу, под окнами, фыркает лошадь, и мужской голос миролюбиво ее уговаривает.
– Стой, длинноногая, стой, все равно овса не получишь. Все, говорю тебе, все. Баста.
– Скорей, Вера, поторапливайся. Неловко, человек ждет. Сорок верст по степи. Это не шутки, Вера. Ну, что, закончила сборы?
Он выпрямляется, весь какой-то желтый, нервный, слишком резвый.
– Не умеешь завязывать! Дай мне.
Он обнимает ее за талию, но Вера выскальзывает из объятий.
– Иша-ак…
Голубой туман плывет, плывет ввысь. Солнечные лучи разрезают пространство красными лезвиями. Мартинукас похрапывает с закрытым ртом, и Вере кажется, что ребенка душат чьи-то невидимые руки. Вилейкис, согнувшись под огромным узлом, с трудом спускается вниз по лестнице.
– Иша-ак, – снова произносит она. Мозг впитывает этот поднимающийся туман. В мозгу происходит странное колыхание, она совершенно явственно чувствует, как в макушке отдаются все нарастающие удары.
– Уже четыре, – объявляет голос внизу.
…Вернулся муж, уже четыре, говорит кто-то. Муж, может, когда ему вздумается. Мозг раскален, мозг дымится. Медведенко, где ты, Медведенко? Давай разбудим Нукаса, выпьем чаю, отправимся на прогулку, а он пускай себе уезжает, мне плохо, мне так нехорошо.
Пресвятая Богородица, ох, как мне плохо, я выпрыгну в окно, дайте мне коня, белого, моего отца, кли-кли-кли-кли, я хочу домой, о-о-о, о…
Когда Вилейкис входит в комнату и берет два чемодана, она говорит:
– Я не поеду.
– Что?!
– Вы отправляйтесь, езжайте. А я поскачу назад.
– Послушай, Вера…
– Молчи! Молчи, ты… птица. Знаешь, кто ты? Или не знаешь? Ты желтая птица.
Вилейкис ставит чемоданы на пол, поднимает их, снова ставит. Ерошит свои волосы обеими руками. Хватает со стола шляпу. Нахлобучивает ее на голову.
– Вера, – цедит он сквозь зубы.
По улице бредет Медведенко. Сапоги у него все в пыли, щеки покрыты щетиной. Он ни о чем не думает. У него остались разве что одни глаза. Всю ночь напролет он блуждал по улице возле школьного строения. Двадцать шагов вперед, двадцать шагов назад. Он как раз остановился и приник к забору, когда Вилейкис с каким-то мужиком подъехали к дому на громыхающей телеге.
Потом он смотрел, как Вилейкис зажег огарок свечи на втором этаже и стал раздеваться. Услышал, как тот сказал у окна: «Понимаешь, мы с Анупенко решили вернуться. Хороший мужик, этот Анупенко. Подремлет пару часов, запряжет лошадь и… Утром в четыре мы уезжаем, Вера. Сейчас переоденусь и будем укладываться. Давай, Вера, собирайся». Рядом с Вилейкисом стояла женщина в ночной рубашке, видно, вскочила с постели. Эту женщину Медведенко мучительно любил. Сквозь ночную рубашку просвечивало женское тело. И тут Вилейкис захлопнул окно, задвинул занавески. А Медведенко ушел в сад и начал там бродить из конца в конец. Двадцать шагов вперед, двенадцать шагов назад… Пока не побледнел небосвод и воздух не напитался утренним туманом. Он сел на камень и так сидел. Почти совсем рассвело, уже в который раз пропели петухи, и снова подъехал Анупенко. Тогда учитель поднялся с камня, перемахнул через поваленный забор и двинулся по улице к своему дому. И когда увидел побеленную стену, дверную притолоку с аккуратно расставленными там на специальной полочке глиняными горшками, развернулся и зашагал назад.
– Домой хочу, – говорит Вера.
Медведенко стоит, ухватившись за дверной косяк, и смотрит Вилейкису в глаза. В комнате больше нет вещей. Только мебель и люди.
– Домой хочу, – мычит Вера.
Медведенко подходит ближе. Он видит подрагивающее адамово яблоко и беспокойные глаза.
– Оставьте ее здесь.
– Ну, что, готовы? – приглушенным голосом кричит снизу человек. Вилейкис разворачивается, идет в другую комнату и трясет Мартинукаса. Тот вскакивает, протирает глаза.
– Уже пора, папа?
– Пора, Нукас.
– А мне весело, папа.
Вилейкис крепко сжимает бессильно повисшую Верину руку выше локтя.
– Пошли, Вера.
– Идем, мама!
Вера протягивает левую руку. Медведенко наклоняется и целует холодные пальцы.
– Прощайте, Вера Александровна.
– Прощайте, Илья Иванович.
– Прощайте, Медведенко. Спасибо за все.
– Прощайте, Вилейкис.
И Вера идет следом за мужем, а тот по-прежнему держит ее повыше локтя. Мартинукас топает за ними, удивляясь, почему это взрослые молчат, словно провинившиеся дети.
– До свидания, господин учитель, – весело говорит он от дверей, но Медведенко ему не отвечает.
В комнате среди мебели остается всего один человек. Внизу фыркает лошадь, скрипят несмазанные колеса телеги.
– Вот и уехали, – размыкает губы Медведенко. Прямо перед ним стоит настежь распахнутый платяной шкаф. Дверцы легонько ходят туда-сюда, внутри болтается забытая вешалка. На столе ломоть хлеба, недоеденные помидоры. Пахнет пылью.
– Вот и уехали, – еще раз повторяет Медведенко и зажимает в кулаке жесткие рыжие усы.







