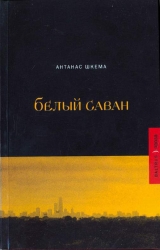
Текст книги "Солнечные дни"
Автор книги: Антанас Шкема
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Антанac Шкема
Солнечные дни
Умирают в рамах головы дождей.
Буквы молятся на камнях.
Запах вянущих роз исходит дрожью.
Отзвук песен войны зачах.
И мертвецкой разит история.
Хенрикас Радаускас
ПОВЕСТЬ В НОВЕЛЛАХ
Стеклянный человек
На странице распластался летящий ангел, очень длинный и бледный. Прямо ему на ноги кто-то поставил стакан с водой, которую так и не выпили. Стены обиты темно-коричневой материей. Три светлых квадрата выделяются на темном фоне: окна с закрытыми ставнями и дверь. Посреди комнаты – стол. У стола отец с матерью. Отец высокий и сутулый. Голова у него маленькая, птичья, виски седые. Отец необычайно подвижен. Руки у него постоянно ходят ходуном, шелестят переворачиваемые страницы газеты. Мать восседает, подобно статуе, подперла голову руками, взгляд устремлен на кровать. Иссиня-черные волосы зачесаны наверх, раскосые глаза прикрыты ладонями, сквозь растопыренные пальцы влажно поблескивает напряженный взгляд. Ее высокая грудь ритмично вздымается, зеленый абажур керосиновой лампы заливает лицо мертвенным светом, и стеклянный человек в углу – улыбается. Он стоит неподвижно и улыбается широко раскрытым ртом. Во рту у него нет зубов, пиджак на нем ярко-красный, а на голове островерхая голубая шапочка с золотым пузырьком. Такие шапочки носят сказочные волшебники. Сквозь стеклянную фигуру Мартинукас ясно видит поникшие листья фикуса. Они напоминают вислые уши собаки дворника, которая торчит возле конуры. Мартинукас не помнит, когда этот стеклянный человек появился в углу. Наверное, он нужен, раз родители не прогоняют его прочь.
Мартинукас лежит в постели. Ему жарко, в ушах звенит. Непрерывное шипение, звук, напоминающий приглушенный пых самовара, с шумом отдается у мальчика в ушах. В комнате тихо, поскольку настенные часы остановились. Остановились они несколько дней назад, и починить их некому. Обе стрелки на циферблате слились в одну. Мартинукас знает – часы показывают ровно двенадцать. Который сейчас час, мог бы сказать отец – свои серебряные часы он засовывает в кармашек жилета. Шелестит газета у отца в руках, а мать по-прежнему сидит, подперев белыми руками иссиня-черную голову.
Временами на улице раздаются глухие шаги. И тогда отец слегка разворачивается к закрытому ставнями окну и ждет, пока шаги удалятся. Затем снова шуршит газетой. Стеклянный человек замер в углу с раскрытым ртом, и Мартинукас боится, что если золотой пузырек шевельнется, случится что-то страшное. Поэтому Мартинукас поворачивает голову и видит раскрытую книгу на круглом столике рядом с кроватью. Кроме того, на столике стоит бутылка с приклеенной красной бумажкой. Точь-в-точь язык у собаки дворника. Мартинукас усмехается и продолжает разглядывать книгу. Бледный ангел все так же устремлен ввысь. Писатель, что написал эту книгу про ангела, – очень хороший, жил он на Кавказе и фамилия его… Мартинукас старается вспомнить фамилию, и тотчас в нем возникает желание взглянуть на стеклянного человека. А вдруг золотой пузырек уже шевельнулся? Мартинукас наконец отваживается поглядеть в угол, но тут наплывает зеленая мгла от лампы, и мальчик засыпает.
Худой, раздраженный мужчина комкает газету. Он резко откидывает голову назад, и стул под ним скрипит. Женщина с иссиня-черными волосами приподнимает голову и взглядывает на него своими раскосыми, монгольскими глазами. Зрачки у нее черные, скулы на лице выдаются, изгиб губ нежный, теплый, какой-то уютный, губы очерчены так, что их хочется целовать долго-долго.
– Ребенок спит, – оправдывается мужчина язвительным тоном. – Ничего не понимаю. Они пишут о победе, а в пригороде уже…
Он вскакивает со стула, но, вспомнив про ребенка, выпрямляется с откровенной медлительностью. Потом на кончиках пальцев, раскачиваясь, подходит к кровати, подобно злой птице с острым профилем, с тонкой шеей и стальным взглядом. Огладив костлявой рукой свою бороду клинышком и подкрутив левый ус (а усы у него пышные, ухоженные), он возвращается назад.
– Ребенок спит спокойно.
– У него тридцать девять и девять.
Женщина произносит это приглушенным грудным голосом, уголки ее губ опустились.
– У детей всегда высокая температура, – говорит мужчина и замирает, скрестив на груди руки. Его поза напоминала привычную манеру адвоката, именно люди этой профессии любят застывать в таком положении после эффектно произнесенной речи.
В тишине гулко отдается эхо шагов, слышно, как они приближаются, а в жилетном кармашке все тикают и тикают часы, и руки мужчины поначалу бессильно повисают, но потом он спохватывается и засовывает их в карманы брюк. За окном кто-то переговаривается, шаги вдруг обрели голос, однако ставни плотно закрыты, рамы двойные, так что слов не разобрать. Шаги затаились там, снаружи, женщина сбрасывает с плеч черный, шелковый платок и накидывает его на зеленый абажур. Комната наполняется сумраком, и двое людей как бы растворяются в нем. И пока женщина стоит неподвижно, мужчина нервно комкает пальцами подкладку карманов.
– Если они постучат, я выстрелю, – шипит мужчина, хотя прекрасно знает, что никогда этого не сделает. Знает это и жена, поэтому своим полным телом прижимается к острому локтю мужа.
– Если они ворвутся, ты пойдешь на кухню и выбросишь револьвер в окно. А я скажу: у нас болен ребенок.
Между тем «они» продолжают переговариваться, стоя на улице под окнами с закрытыми ставнями, при этом один из них вдруг длинно, по-русски выругался.
Брань просочилась в комнату сквозь наглухо задраенные окна. Затем шаги двинулись прочь, загромыхали по тротуару, отдалились и стихли. Опять на миг воцарилась тишина, и эта внезапная тишь вывела женщину из оцепенения. Она сняла платок с абажура, зеленый свет залил комнату, и мужчина наконец вытащил руки из карманов.
– Черт знает, что тут делается.
Самообладание постепенно возвращается к нему, на пожелтевших щеках проступают красные пятна.
– Город переходит из рук в руки. Да что там город… Кварталы. То красные, то белые. Вчера на улице подстрелили Синицына… Выстрелы прогремели неожиданно… Синицыну угодили в живот, всего два часа прожил…
Мужчина не спешит закончить свою мысль, кажется, сейчас он произнесет что-то значительное, важное, однако вместо этого начинает развивать новую мысль.
– Понимаешь, Вера… восемнадцатый год. Двадцатый век. Человечество открывает глаза и пробуждается. Красные стяги, слезы в глазах, все люди братья. В пятом году я сам разгуливал по Тифлису под всякими там флагами и орал во всю глотку… В то лето на каникулы поехал в Литву. Ах, Панемуне с его лесочками… Чудесно, Вера, в Литве нет степей. А теперь эта война, Ростов, революция… Стреляют из-за угла. Помнишь, Вера, Тифлис десять лет назад? Была весна. Цветущие аллеи, горы, американские поезда. Тифлис-Владикавказ. Помнишь, мы были в Нахичевани? Акации усыпаны щебечущими птицами. Ничего, мы еще повторим свое первое лето, вернемся на десять лет назад… Господи, как я хочу в Литву, Вера!
Прижмуренные глаза мужа делаются добрее, он осторожно дотрагивается до Вериного плеча и начинает медленно поглаживать шелк блузки.
– Ты же обещал остаться здесь, – говорит женщина. По ее лицу трудно прочесть, что она этим хочет сказать. В ее тоне вопросительные нотки, хотя всю фразу она произносит ровным голосом, без всякого выражения.
«Она – восточная женщина, она – киргизка, она – восточная женщина», – думает он, затем говорит:
– Да, обещал… Но ты пойми, такая чертовщина! Тебе понравится твоя новая родина, ты очень способная… Вера, ты совсем неплохо говоришь по-литовски…
Женщина отворачивается и уходит. Мужчина обрывает речь на полуслове. «Она – киргизка, она – восточная женщина». Он почувствовал, что сейчас вспыхнет. Женщина теперь стоит возле фикуса и мягким движением гладит тугой жесткий лист. Ее рука прочерчивает в воздухе извилистую линию, и, кажется, что это мягкое, грациозное движение – начало танца, вот-вот она откликнется на него всем телом.
– Там нет акаций, – говорит она, а длинные пальцы блуждают по зеленому листу. – Там нет степей, – говорит она сочным грудным голосом, и слова ее звучат подобно речитативу в песне.
– В Литве мужчины не скачут, как полоумные, на конях, в Литве леса. Я люблю этот воздух, в лесу душно. Люблю слушать, как исчезает в воздухе крик. В лесу твой крик возвращается назад к тебе, ты ловишь его губами.
Каждое слово рождается отдельно, и оно огромно. Ей еще трудно говорить по-литовски.
– Ты говоришь, будто декламируешь, – с иронией замечает мужчина и достает из кармана часы.
– Половина первого, ребенок спит, пойдем и мы с тобой.
– Я еще не пойду спать. Ты ступай, ложись. Покойной ночи, Антанас.
Мужчина передергивает плечами, направляется к двери, на пороге останавливается.
– Послушай, Вера, как только представится случай, мы вернемся. Я тебе уже рассказывал, вчера встретил Пятравичюса. Он сказал – наш край свободен.
Он произносит это достаточно громко, и женщина прикладывает к губам палец. Оба поворачиваются к спящему ребенку, залитые зеленым светом они напоминают восковые фигуры в паноптикуме.
– Ты идешь по улице и замечаешь: «У этой девушки красивые ноги». Ты едешь в трамвае и обращаешь внимание: «У этой – красивые волосы». Тебя видели вместе с учительницей рисования. Я боюсь в Литву. Ты бросишь меня, и я умру от одиночества.
Мужчина берется за дверную ручку, потом выпускает ее. «Вот-вот, эта неподвижность лица, бесчувственная манера говорить очаровали меня. Когда бродишь, обнявшись, нюхаешь акацию, и тебе хочется видеть обнаженное тело, это так прекрасно. Но спустя десять лет… У-у, когда-нибудь отлуплю ее…»
– Ты говорил совсем по-другому… Много, красиво говорил. Наши мужчины ходят в гости к родителям и «я люблю тебя» говорят после свадьбы. Эти слова они произносят ночью. Днем – никогда. Ты произнес «я люблю тебя», когда светило солнце и пели птицы. У меня защемило в груди. Ты был другим…
Мужчина прерывает ее резким тенором.
– А теперь поняла – я плохой. Прекрасно. Я рад. Поздравляю. Ты же не дикарка. Закончила гимназию, была знакома с нами, ев-ро-пей-ца-ми, – слово «европейцы» он произносит протяжно, по слогам, выражая этим свою иронию. – Какого черта, тогда…
– Ты целовал меня в губы, цвели деревья, мы стояли с тобой у реки, – продолжает женщина, она возвращается к столу, садится, прикрывает свои раскосые глаза, и мужчина понимает: ему остается открыть дверь и уйти в спальню и, отвернувшись к стене, уснуть. Чуть помешкав, мужчина приотворяет дверь, и тут его взгляд упирается в округлую спину женщины.
– У тебя нет логики. Ты убиваешь меня своим настроением. Ты эгоистка. Моя дорогая, в такое время… ведь революция, понимаешь, так на черта эта твоя поэзия! Я хочу увезти тебя из этих проклятых мест туда, где спокойно, хочу спасти тебя и ребенка, а ты несешь бред…
Он говорит на повышенных тонах, женщина умоляюще вскидывает руки, но Мартинукас уже проснулся и смотрит в угол, где стоит фикус.
Неужели он спал? В комнате явно чего-то не хватает, лампа излучает все тот же зеленоватый свет, и родители стоят и наблюдают за ним, за Нукасом. Книжка раскрыта, на ней стоит стакан с водой: нет, комната вроде та же.
Мать первой бросается к постели. Она кладет руку на наморщенный лоб Мартинукаса и спрашивает:
– Пить хочешь, Нукас?
– Хочу пи-пи.
Теперь отец сгибает свою длинную спину и достает из-под кровати горшок. Белый, эмалированный горшок с голубым ободком. Мать сажает Мартинукаса на ночную посудину, от холодного прикосновения по всему телу пробегает дрожь, и в этот миг мальчик видит, как в дверь входит стеклянный человек в длинных зеленых чулках, в красном пиджаке, в голубой волшебной шапочке, а золотой пузырек на ней раскачивается слева направо, слева направо.
– Привет, – говорит стеклыш, и гипсовые цветы на потолке вздуваются. Они превращаются в золотистые абрикосы и желтоватыми пушинками медленно слетают вниз, и абрикосы тают, тают.
– Ку-ку, – раздувает губы стеклыш, он кукует, а у отца на лбу вспухает шишкой бледный ангел, хватает лампу и раскачивает ее слева направо, слева направо.
– Ту-та, ту-та, тили-тута, – разевает беззубый рот стеклыш, – тили-тили-тили-тили, – все быстрей и быстрей выкрикивает он.
На листьях фикуса коричневые кошки, задрав хвост, поедают рассольник прямо из ночных горшков, ломтики огурцов падают на пол, пол не выдерживает, начинает раскачиваться…
– Ту-та, ту-та, тили-тута, тили-ли-ли, ли-ли, – все вокруг вращается с нарастающей быстротой.
И золотой пузырек летает из стороны в сторону, слева направо, слева направо, быстрее, быстрее, быстрее.
Бледный ангел превращается в треугольник, отцепившись от отцовского лба, он подхватывает стакан с водой и принимается мыть комнату, из его глаз капают плоские, треугольные слезы.
Мартинукас видит, что у него больше нет рук, желтовато-зеленые треугольники лежат на красном одеяле.
И стеклыш хватает его за ноги, переворачивает вниз головой.
Тогда Мартинукас приподнимается, дрожа всем своим исхудавшим за время болезни тельцем, вцепляется в волосы матери и кричит: «Не хочу, не хочу!» И еще успевает услышать, как отец глухо произносит страшное слово: «Кризис».
Комната вдруг раскалывается, разлетается на разноцветные осколки, и они летят вниз. Последнее, что видит Мартинукас, – это мокрые и огромные глаза матери.
Карусель
– Я проткну живот, и кишки вывалятся наружу.
– Ты дурак! Надо выколоть глаза.
– Я вырву язык и вколочу его в лоб.
– Почему?
– Эта сволочь ослепнет. Тогда и протыкай слепому живот.
Двор большой и солнечный. Двор городской, шумный. Ростов-на-Дону. Обшарпанные двухэтажные дома образовали неправильный квадрат… По углам жмутся уборные-развалюхи, собачьи конуры. В окнах мелькают разноцветные тряпки, выпрастались на солнышке, проветриваются, сохнут. Лоскутные одеяла, напоминающие изуродованные шахматные доски, вишневые подушки, загаженные детьми, свисают облезлые ковры и экзотические национальные флаги. Посреди двора вырыта огромная яма, где крупный гравий перемешан с картофельными очистками, пережженным углем и прочим мусором. Прямо на краю ямы растет скрюченная груша – эдакий рахит: ствол кривой, горбатый, веточки тонкие, бессильные, несмело пустившие чахлую листву да еще в придачу несколько розовых пугливых цветков. Эту грушу в припадке ностальгии посадил вечно пьяный дворник Степан. Родился он в деревне, где много садов. У жителей вызывает смех всякий его приступ нежности, когда он обнимает грушу, словно женщину. Степан в прошлом году лишился жены. Она сбежала с мороженщиком.
На дне ямы стоят Сашка и Митька. Сашка – девятилетний худой пацан, зеленоглазый, в перешитом из материнского пальто размахае. Зубы у него кривые, торчат во все стороны. При разговоре он гордо шмыгает носом. Митька – краснощекий пузан, равнодушный ко всей этой грязи во дворе. Слова он для пущей солидности цедит сквозь зубы, вместо носа – две ноздри. Они стоят друг против друга и пытаются разрешить трудную задачу. Что бы они стали делать с взятым в плен белогвардейцем? Отцы Сашки и Митьки сражаются на стороне красных. Иногда они приходят домой. Ребятишки наслушались кровавых историй и теперь живут ими на дне ямы. Тут же на краю стоит Мартинукас, долговязый, интеллигентный мальчик с узким подбородком, большими, темными глазами (от матери он унаследовал легкую раскосость) и прямым отцовским носом. Волосы у него светлые, толстые губы приоткрыты от любопытства. Кажется, что этот мальчик постоянно о чем-то допытывается и не находит ответа. Его можно бы назвать красивым, если бы не бесформенные и бесцветные губы.
Запрокинув голову, он смотрит на солнце. Впервые после болезни. Его синий матросский костюмчик без единого пятнышка, ботинки начищены ваксой, горло обмотано маминым платком. Мартинукасу жарко, у него немного кружится голова. Он неуклюже разворачивается и бредет к собачьей будке. Интересно, рецепт на пузырьке с лекарством и вправду похож на собачий язык?
– Эй, ты, католик, подожди, – кричит ему вслед Сашка (здесь поляков и литовцев называют католиками).
– Вон Митька говорит, сначала надо глаза выколоть. А ты как считаешь?
– Не знаю, – шепелявит Мартинукас.
– Не знаешь?! Слышь, Митька, он не знает. Да ты вообще хоть что-нибудь знаешь, несчастный лопух! – орет взбешенный Сашка.
– По уху ему съездить, кулаку этому, – предлагает Митька.
Мартинукас бежит под навес и забивается в угол.
Сгнившие доски приятно пахнут сыростью, на пустых ящиках копошатся тощие куры. Мартинукас садится на корточки, водит пальцем по земле и размышляет. Ему приходит в голову, что дома, окна, яма, уборные вроде заново перекрашены и что мать у него очень-очень хорошая, темноглазая, а летящий ангел в толстой книге наводит ужас; и что бы вышло, если бы кот Васька сцепился с Барбосом, псом сторожа? Мартинукасу слышно, как спорят Сашка с Митькой, как на втором этаже соседская Настя, служанка, поет о разбитом сердце, о любви, а тут же, рядом с навесом, чирикают на солнце воробьи.
По ослепительно голубому небу проплывают облака. Когда он вырастет, станет большим, наденет блестящий костюм пожарного, приедет к матери и Насте. На повозке у него будет длинная пожарная лестница, он взберется по ней наверх, к Насте в окно, и попросит ее потрепать его по щеке, потом посадит Настю с матерью в пожарную повозку, запряженную четверкой лошадей, отвезет их обеих к реке, и они будут громко хохотать, станут все втроем есть филипповские пирожки с яблочным пюре и петь про королевича, победившего глупого и злого великана; плывут по небу облака, чирикают воробьи, а Настя поет.
Мартинукас выбирается из-под навеса и кричит:
– Настя! Настя!
– Чего тебе, замарашка? – посверкивает белыми зубами Настя.
– А сердце от любви разбивается? – кричит Мартинукас.
Настя перевешивается через подоконник.
– Всегда-всегда, – почему-то печально отзывается она.
– А у тебя с сердцем в порядке, да, Настя? – весело спрашивает Мартинукас и удивляется, отчего это Настя быстро исчезает в окне. Тогда он направляется к псине сторожа, то и дело оглядываясь на ходу.
В окне пусто. Во дворе скучно.
Во дворе горланят дети: «В Курилкин переулок! Там – повешенные! Скорей в Курилкин переулок!» Обтрепанная орава несется к воротам; размахивая руками и подпрыгивая, первым мчится во весь дух Сашка. Мартинукас забыл, что мама запретила ему выходить со двора, он тоже бежит к воротам, охваченный какой-то дикой радостью, ведь так давно он не бегал по улице!
На улице чище, чем во дворе. Проносятся мимо серые, двухэтажные дома, маленькие топольки с клейкой весенней листвой, точно ее опрыскали влагой, под ногами будто вылизанный асфальт мостовой, а перед глазами мелькает разноцветное тряпье детворы. Множество ног топчет Садовую улицу, тоненько позвякивают безликие оконные стекла, и мощный крик взмывает в небо – голубое и глубокое. Вот и Курилкин переулок. Здесь нет тротуаров, узкая улочка петляет среди грязных домов, а по правой стороне протянулась вереница фонарей, которые исчезают за поворотом. Поначалу Мартинукас никак не может сообразить, что же тут происходит. Ребятня окружила первый попавшийся фонарь, щебечет, словно птицы, которым бросают корм. Потом все устремляются дальше, и этот фонарь остается в одиночестве, всеми заброшенный, а на фонаре раскачивается человек. Мартинукас видит босые, чистые ноги. Ногти аккуратно подстрижены, а цвет кожи – желтый. Мартинукас задирает голову. Икры и бедра этого человека обтянуты «галифе» с красными лампасами. Белый мундир забрызган кровью, а выше, вокруг шеи висельника, обмотана грязная веревка. Теперь Мартинукас внимательно изучает лицо повешенного. Видит белки глаз, слипшуюся прядь волос, упавшую на лоб, что удивительно – фиолетовый язык вывалился изо рта и почти достает до подбородка. Вверху над головой висельника – лампа фонаря. Стекла давным-давно разбиты, и фитиль от керосиновой лампы, свесившись через край, легонько раскачивается, и человек тоже раскачивается, правая рука его ударяется о штаны «галифе». Мартинукас слышит в тиши пустой улочки этот слабый глухой звук, и тут он замечает, что на руке не хватает безымянного пальца и цвет обрубка такой же, как у торчащего языка. Мартинукас резко отворачивается от повешенного, хотя и чувствует внутри непонятное любопытство. Прямо перед ним вывеска парикмахерской. Лицо мужчины на вывеске точно такого же цвета, как у повешенного. Мартинукасу еще сильнее хочется обернуться. Действительно ли цвет лица у них одинаковый? Он оборачивается и слышит, как стучит у него сердце…
И… устремляется со всех ног прочь, туда, где раздается заливистый смех ребят.
Ребята окружили фонарный столб, гомонят от возбуждения, а громче всех ликует зеленоглазый Сашка.
– Ну-ка, крутанем еще разок, во какая карусель, правда, рёбя? – заходится он в крике – настоящий заводила, желание которого – закон.
– Крути его вправо!
– Только надо покрепче стянуть.
– Ночью здорово было бы! Прицепили бы к ремню Степанову коптилку, пускай светит. Здорово…
Митька расфантазировался, да никто его не слушает. Несколько худеньких, грязных рук ухватились за ноги висельника и давай раскручивать тело вправо, вправо. На висках вздуваются вены, но ручонки все раскручивают и раскручивают в ожидании нового Сашкиного приказа.
– Отпускай! – наконец пронзительно кричит Сашка. Ребятня отбегает, и тело начинает вращаться в обратную сторону, точно волчок, отчего даже рябит в глазах. Все хлопают в ладоши, и всем страшно весело.
Рядом с Мартинукасом стоит пятилетняя худенькая девчушка. Она увлеченно ковыряет в носу. Ее невинные глазки блестят. В них – любопытство и уважение к старшим. Она толкает Мартинукаса локтем в бок и спрашивает:
– А тебе разве не хочется?
Их взгляды встречаются, у обоих на щеках выступает румянец. И когда ребята снова повторяют эту забаву, Мартинукас успевает ухватить висельника за локоть и за большой палец на ноге, теперь он тоже раскручивает тело вправо и еще раз вправо.
– А я не боюсь, мне весело, очень-очень весело! – кричит он, обернувшись к худенькой девчушке, и у него, как и у других ребят, вздуваются на висках вены.
Повестка валяется на столе. В повестке написано: Антон Семенович Вилейкис. Мужчина уже в пальто, оно у него черное, слегка потертое, с бархатным воротником. В квадрате окна – изогнутая спина женщины, талия стянута, высокие шнурованные ботинки залиты солнечным весенним светом, и в этих ярких бликах какая-то радость. Мужчина выжидает, пока женщина обернется к нему. Она застыла у окна, совсем как модель художника, а фикус из угла отбрасывает свою понурую тень. Комната не прибрана. На полированных спинках стульев осела пыль, и на ковре тоже отпечатались два грязных следа. На кровати Мартинукаса дремлет серая, довольная кошка, а часы на стене все так же показывают двенадцать.
– Я ухожу, – говорит мужчина, но в ответ молчание.
Он принимается барабанить по столу пальцами.
Кошка лениво потягивается, выпускает когти, царапает покрывало.
– Я ухожу, – повторяет мужчина и направляется к двери.
Женщина преграждает ему дорогу, кинувшись от окна.
– Мы пойдем вместе, – говорит она, стиснув зубы, у мужчины возникает ощущение, что они играют сейчас в театре какую-то сложную психологическую сцену.
– Послушай, Вера… – его птичья головка ритмично покачивается из стороны в сторону: налево-направо, адамово яблоко приходит в движение. – Послушай Вера… Еще неизвестно, мобилизуют ли меня? У меня сердце… Ясное дело, объясню им, что у меня каждую неделю припадки. Мне теперь сорок четыре года. Какая-то фатальная цифра, правда? – мысль ускользает куда-то.
– Они тебя мобилизуют, а красные потом повесят. В Курилкином переулке белые висят на фонарях. Мне только что Настя сообщила. Они болтаются на столбах, ты слышишь?!
– Мне сорок четыре года, а сердечные приступы все учащаются. Попробую объяснить им.
Все это он произносит неуверенным, тусклым голосом. Затем достает носовой платок, начинает сморкаться. Нос у него совершенно сухой. Кошка опять лениво приподнимается на кровати, изгибается всем телом, прыгает вниз и, подняв хвост, с видом победительницы шествует по комнате.
– Ты не сможешь мне помочь. Береги Нукаса, – шепеляво говорит мужчина и чувствует, как пальцы жены крепко вцепляются ему в локоть.
– Я пойду с тобой. И Нукас тоже. Всей семьей пойдем. Я им растолкую: у нас только один кормилец, мой муж. Он болен, и он нас кормит. Я покажу им Нукаса.
– Ты дура, – бросает мужчина. «Мяу», – кошка трется у его ног и мяукает, и мужчина пинает ее в живот так, что она несколько раз переворачивается через голову, комнату оглашает пронзительный, отчаянный визг, как будто сломался какой-то механизм с противным лязгом. – Ну, хорошо, пойдем вместе. Я вижу, какое у тебя лицо. Ведь если пойду один, побежишь следом, раздувшаяся, как пиявка, ты… проклятая киргизка. Слишком тебя знаю. Ты истеричка, слышишь? Существуют такие вот спокойные и назойливые истерички, они постепенно сводят с ума.
Мужчина раздраженно засовывает руки в карманы старого пальто и принимается расхаживать по комнате большими шагами, а кошка тем временем жмется к печке и своими зелеными глазами наблюдает за разъяренным человеком.
– Ну почему ты меня мучаешь? Целых десять лет ты мучаешь меня. Я сам знаю, что мне делать, а ты пристаешь и пристаешь… Черт знает, что тебе от меня нужно?
– Люблю тебя, – спокойно отзывается женщина, и мужчина распахивает дверь. Они вдвоем выходят во двор. Двор пуст, из Курилкина переулка доносится ребячий гам, эхом отдаваясь в окнах.
– А где Нукас? – спрашивает женщина.
– Где Нукас? – вторит ей мужчина.
Мимо проходит с коромыслом Настя, болтаются пустые ведра. «Нукас в Курилкином переулке», – говорит она и шагает дальше, чудесная широкобедрая девушка.
…И ему другая дева приглянулась,
Ой, да жизнь разбила ненароком мне… —
напевает Настя у колодца.
Родители переглядываются и… устремляются к воротам, они бегут по тихой Садовой улице и неподалеку от Курилкина переулка сталкиваются с ватагой ребятишек. Дети мчатся веселые. Зеленоглазый Сашка несется вприпрыжку, довольный как никогда, под мышкой у него зажат лакированный ботинок, ему повезло, нашел висельника в башмаках, ловко стянул один и теперь перебирает пальцами, радостно наигрывает какую-то мелодию, словно на балалайке.
– Эх, да-да, ой, да-да… – голосит Сашка, рядом перекатывается Митька с армейским ремнем на шее, Митька изображает коня, а сзади, ухватившись за ремень бежит Мартинукас, он кучер, на его желтом лице весеннее солнце оставило два округлых красных пятна.
– А ну, стой! – кричит отец, и Мартинукас послушно останавливается.
– Католик, католик! – вопят ребятишки, и вот уже их и след простыл, они во дворе.
– Где ты был? – произносит по слогам отец.
– В Курилкином переулке, – румянец на щеках Мартинукаса угасает.
– Что там делал? – опять произносит по слогам отец. В уголках его губ собирается слюна, пенится, и Мартинукас понимает, сейчас ему зададут трепку. Костлявые пальцы отца уже хватают воздух – миг, и они вцепятся Мартинукасу в волосы… но пальцы почему-то костенеют, отец замечает, что сын что-то прячет за спиной.
– Что у тебя там? – и Мартинукас несмело протягивает правую руку, в которой зажат офицерский погон. В погоне дырка, золотые нити залиты кровью.
– Где ты его нашел?
– В Курилкином переулке… на фонарях висят офицеры. Ребята подсадили меня, я залез к Сашке на плечи и сорвал погон. Погон был прибит гвоздем. Ребята сказали: вещи висельника приносят счастье. Папа… ведь ему же было больно, почему он тогда смеялся?
Мартинукас старался увести разговор, может, так он избежит порки.
– Кто смеялся?
– Офицер, у которого я сорвал погон. Он висел на фонаре и смеялся во весь рот, хи-хи…
И Мартинукас угодливо хихикает, чтобы как-то развеселить отца.
– Идем, – только и может произнести отец.
Они шагают все трое, а солнце припекает все сильнее, приходится зажмуривать глаза, возле домов сидят довольные псы с разинутой пастью, воробьи чирикают, как угорелые, какая-то молодка в фартуке остановилась возле ворот и мечтательно почесывает ляжку.
– Выпустили ребенка одного на улицу… видишь, что случилось. А еще говорила: я выращу тебе сына! Садиста ты мне вырастишь! – шипит мужчина, и женщина в бессилии уставилась на тротуар… вся троица шагает, понурив головы, а солнце взбирается все выше и выше.
«Черт знает, зачем они увязались за мной. Да, я боюсь, конечно, я трушу. Меня мобилизуют, придется стрелять, а стрелять я не умею, значит, меня быстренько уложат те, кто умеет палить. А не уложат – так будут пытать, еще повесят в каком-нибудь переулке. Сердце у меня барахлит, нервы ни к черту, я струшу, когда меня начнут пытать».
И он продолжает шипеть: «Каким ветром меня занесло в Ростов? Надо было задержаться в Воронеже. Там, говорят, намного спокойнее. Так нет же, ей захотелось тепла, затосковала по своим степям! А здесь Гражданская война, большевики… Сначала был Керенский, и все радостно вопили: царя нет, да здравствует свобода. Теперь вот большевики… И полным-полно, их полно в нашем дворе».
Мужчина учащает шаг, женщина с ребенком с трудом поспевают за ним.
«Меня мобилизуют, и эти во дворе в одну прекрасную ночь… Учитель… Вот и носит, и мотает по всей России. В ксендзы надо было пойти, в ксендзы. Остался бы в Литве». Он опять взрывается:
– Лучше бы пошел в ксендзы, жил бы сейчас в Литве. А ты, раз хочешь, – езжай в Россию. На, получай свою Россию!
«Идут и идут рядом, никак от них не отделаешься».
– Ты, небось, до самой смерти будешь шагать рядом. Был бы теперь один, сбежал бы, и весь сказ… Добрался бы до Литвы… А ты все тащишься следом, проклятая киргизка, и еще говоришь, что любишь!
Мужчина все убыстряет и убыстряет шаг, и женщина тихо молит его:
– Не спеши. Не могу больше.
– Тогда зачем идешь? Ответь ты… – на всю улицу кричит отец, улица пуста, но у Мартинукаса глаза наполняются слезами.
– Не надо, прошу тебя, не надо. С нами – ребенок. Успокойся.
Голос женщины глубокий и какой-то задыхающийся. Мужчина слегка замедляет шаг. И троица снова бредет, понурив головы, а солнце поднимается выше и выше.
…Овцы улеглись на траве. Серые, дрожащие комья. Овцы совсем как облака. У отца широкие плечи, глаза хорошо видят вдаль. Э, да это сын скачет по степи. Серый конь в пене, грива – белые молнии. Сын целует отцу руку. Красный шар исчезает за курганом. Ночь, и мужчины разводят костер. Тонкая нить песни протянулась по степи. Сейчас песня оборвется. В белой юрте – пестрые ковры. Отец отпускает дочь учиться. Все дивятся. Дочь будет ученая. Глаза отца еще зорче будут следить за каждой точкой на степном пространстве. Тихая пронзительная песня у костра затихает. И поднимается тогда самый красивый, самый стройный. И идет вокруг костра, а ноги у него гибкие, как веревка. Он танцует, какое-то неистовое буйство танцевать в эдакую ночь. Твоя дочь уезжает. Отец богач, он принял православную веру. Теперь он уже не Саглы. Он – Саглин. И сына он окрестил. И дочь тоже крестил. Потому что знает: царь могуществен, ему нужно угождать, тогда еще больше разбогатеешь…







