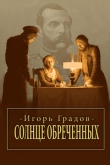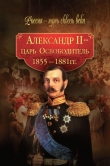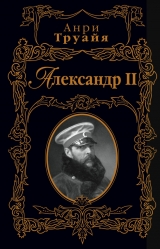
Текст книги "Александр II"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Новость о тайном бракосочетании императора распространилась по всей стране. Оборотистые фотографы уже продавали в своих лавках портреты княгини Юрьевской. В аристократических кругах царило уныние. Либералов же, похоже, в гораздо большей степени интересовали политические настроения царя, нежели его сердечные дела. И они были разочарованы. Видя, что проведение долгожданных реформ откладывается, многие из тех, кто раньше благоволил к Лорис-Меликову, теперь сомневались в его искренности.
И тогда диктатор предпринял несколько смелых мер, которые вернули ему популярность. Вначале он упразднил печально знаменитое Третье отделение Императорской канцелярии, грозный орган слежки и преследования всяческого инакомыслия, чья тень распростерлась над Россией со времен царствования Николая I.
Во всеобщем упоении столь радостным известием никто не обратил внимания на тот факт, что функции расформированного учреждения передавались министерству внутренних дел, во главе которого стоял Лорис-Меликов. Он сделал хитроумный ход, умолив царя снять с него диктаторские полномочия, ставшие, по его словам, уже не нужными, и оставить в его ведении одно лишь министерство внутренних дел. После этого он распустил Верховную комиссию. Пресса шумно одобряла возврат к прежнему порядку и без устали восхваляла патриотизм, сдержанность и скромность, проявленные новым сильным человеком России. Ратуя за проведение реформы школьной системы, он отправил в отставку министра народного образования Дмитрия Толстого, известного реакционера, входившего в ближайшее окружение царевича, который восстановил против себя и преподавателей, и студентов, и их семьи. Ради достижения своих целей Лорис-Меликов предложил назначить на второй из постов, занимаемых Дмитрием Толстым, – обер-прокурора Святейшего Синода – другого близкого к наследнику престола человека, его бывшего гувернера, фанатичного православного богослова Константина Победоносцева. Общество с воодушевлением восприняло замену Дмитрия Толстого, получившего прозвище «душитель образования», на либерала Сабурова, как и замену адмирала Грейга, проявившего полную некомпетентность на посту министра финансов, на Абазу, человека широких взглядов, у которого уже лежала в кармане программа реформ. Эта программа предполагала отмену пошлины на соль, самого непопулярного из всех налогов, реформирование фискальной системы и изменение порядка финансирования строительства железных дорог. И, наконец, Лорис-Меликов санкционировал создание ряда периодических изданий, призванных отражать все нюансы многообразия мнений российской общественности.
Однако для него все это было лишь средством развлечь публику в ожидании осуществления грандиозного политического замысла. Женитьба Александра изменила его планы. Поскольку царь намеревался короновать свою морганатическую супругу, нужно было внушить ему, что народ воспримет этот шаг гораздо благосклоннее в сочетании с введением конституции. Но подобный маневр требовал тщательной подготовки. Лорис-Меликов пока не осмеливался заговаривать с царем на эту тему. Он ждал удобного случая. Такой случай ему представился в средине августа 1880 года, когда он получил приказ сопровождать Александра и Екатерину в Крым, в Ливадию.
Они выехали 17 августа вместе со своими двумя старшими детьми. Впервые в своей жизни Екатерина, садясь в императорский поезд, разделила с царем почести, оказываемые ему его свитой, и поселилась в Ливадии не в усадьбе, а во дворце, в апартаментах покойной императрицы. Камергеры, адъютанты, секретари и даже слуги поражались той легкости, с какой она сделалась хозяйкой положения. Она не оставляла императора ни на минуту, всегда садилась с ним за стол, ездила с ним на прогулки, в карете или верхом, заставляла его принимать участие в играх детей, отдыхала в его обществе вечерами на террасе, наслаждаясь счастьем, которого они оба так долго ждали.
Лорис-Меликов воспользовался этой идиллической обстановкой, чтобы познакомить царя и его супругу со своими масштабными проектами. Зачастую он беседовал с одной лишь Екатериной, поскольку знал, что она имеет большое влияние на своего мужа. И она знала, что «хитрый армянин» может содействовать ее коронации. Между ними был заключен негласный союз. Во имя стабильности императорской власти и безопасности своего супруга княгиня будет отстаивать перед ним конституционные идеи Лорис-Меликова. Взамен Лорис-Меликов не будет возражать против того, чтобы она стала императрицей по истечении срока траура. Оставалось лишь убедить в необходимости принятия конституции императора, который пока еще не готов отказаться от части своих полномочий. Каким образом можно ввести в стране некое подобие представительной системы и при этом не слишком ущемить права монарха? В данный момент на вершине властной пирамиды империи находились два органа: Сенат, выполнявший функции верховного суда и регистрационной палаты, и Государственный совет, членами которого являлись великие князья, генералы и высшие чиновники, которые составляли законы и высказывали свое мнение, не обладая правом решающего голоса. Лорис-Меликов видел три пути проведения реформы: введение в состав Государственного совета нескольких представителей земств, назначаемых императором; создание «думы», наделенной правом совещательного голоса, члены которой избирались бы земствами; либо робкая попытка учреждения парламентской системы.
Согласившись с необходимостью политической реформы и одобрив ее принципы, Александр колебался в выборе одного из трех предложенных ему вариантов. В конце концов, спешить было некуда. Вернувшись в столицу, он назначит комиссию под председательством царевича, которая представит ему на рассмотрение практические предложения. Он тоже считал, что эти либеральные нововведения помогут оправдать в глазах народа возведение его морганатической супруги в ранг императрицы. Если Лорис-Меликов взывал к его разуму, то Екатерина – к его сердцу. Александр был совершенно беззащитен перед этой женщиной, столь молодой и столь желанной. Его врач Боткин говорил одному из своих друзей, что «физическая слабость монарха может быть связана с его сексуальными излишествами».
Однажды, во время беседы в Ливадии, Лорис-Меликов со вздохом сказал Александру: «Это было бы большое счастье для России, если бы у нее, как прежде, была императрица!» В другой раз министр задержал нежный, задумчивый взгляд на маленьком Георгии, резвившемся на веранде, и произнес, обращаясь к царю: «Когда русские узнают этого сына Вашего Величества, они скажут в один голос: „Он наш!“. Александр ничего не ответил, но по выражению лица императора было видно, что эти слова затронули самые чувствительные струны его души. Спустя некоторое время Лорис-Меликов удостоился самой высокой награды, о какой только мог мечтать российский государственный деятель – ордена Святого Андрея Первозванного».
Тем временем общество, пребывавшее в полном неведении относительно «разговоров» в Ливадии, начало проявлять признаки беспокойства. Лидеры либеральных групп порицали Лорис-Меликова за лживые обещания и называли его «лисой». Консерваторы, со своей стороны, обрушивались с нападками на демократические тенденции «армянина», который вел страну к революции. Те же самые люди, которые еще совсем недавно не могли на него нахвалиться, теперь обвиняли его в том, что он поддерживает свою популярность с помощью «невыносимой двусмысленности». Вернувшись из Крыма, Лорис-Меликов решил открыто ответить на эти обвинения. 10 сентября 1880 года он собрал в своем кабинете издателей всех крупных газет и с пафосом объявил им, что решительно, как никогда, настроен «идти в ногу со свободной прессой». Взамен он потребовал от них «не волновать понапрасну умы, настаивая на необходимости участия общества в законодательном процессе и управлении страной». Его программа, рассчитанная на пять или шесть лет – сказал он – призвана консолидировать деятельность земств, реформировать полицию, «дабы сделать невозможными те беззакония, которые творились в прошлом», выяснить, с помощью специальной комиссии, каковы нужды и чаяния народа, и, наконец, гарантировать прессе право обсуждать действия правительства. «Но в настоящий момент, – закончил он, – не может быть и речи о созыве представительного органа, ни в форме европейского парламента, ни в форме русского земского собора».
Журналистов ошеломили эти категорические заявления. Разумеется, они оценили, что царский министр впервые снизошел в их присутствии до подобных откровений. Но при этом им пришлось с горечью констатировать, что воплощение в жизнь мечты о конституции откладывается на неопределенный срок. Этот человек должен быть очень уверенным в себе, раз говорит в столь жестком тоне! И действительно, с самого начала установления «диктатуры сердца», если не считать покушения на самого Лорис-Меликова, террористы, казалось, отказались от насилия. Это перемирие объяснялось тем, что революционеры выжидали, какие действия предпримет новый министр внутренних дел. Кроме того, произведенные полицией аресты охладили их боевой пыл. Гольденберг, убийца князя Кропоткина, харьковского генерал-губернатора, заявил перед казнью, находясь в камере: «Я хочу разорвать этот порочный круг убийств. Я приношу себя в жертву ради всех остальных в надежде, что это будет последняя жертва. В противном случае за каждую каплю крови моих братьев их палачи заплатят своей кровью». Чуть позже состоялся важный политический процесс, во время которого представшие перед судьями заговорщики высказали им в глаза свое мнение: «Вы и мы принадлежим к двум разным идейным мирам, и между ними роковое стечение исторических обстоятельств не оставило места для какого бы то ни было согласия. Только вы можете положить конец войне, от которой все устали. В зависимости от вашего решения либо мы и наши братья вновь с радостью примемся за работу во имя торжества наших идей, либо наши последователи, скрепя сердце, но решительно подхватят страшное оружие, выпавшее из наших рук». (Отчет генерала Шанзи Бартоломью Сен-Хилеру от 11 ноября 1880 года.) Эта угроза не поколебала решимость судей наказать преступников. Революционеры поняли, что Лорис-Меликов не пойдет дальше нескольких административных реформ и некоторых послаблений в отношении студентов. Их голод невозможно было утолить такими крохами.
Такого же мнения придерживался и Александр, продолжавший отдыхать в Ливадии. Не готовят ли террористы, после короткой передышки, новые покушения на него? Сколько еще Господь будет спасать ему жизнь? Не будучи уверенным в завтрашнем дне, 11 сентября 1880 года он составил завещание в пользу своей жены: «Ценные бумаги, перечень которых прилагается и которые министр императорского двора, действующий от моего имени, положил в Государственный Банк 5 сентября 1880 года, на сумму три миллиона триста две тысячи девятьсот семьдесят рублей являются собственностью моей жены, Ее Светлости княгини Екатерины Михайловны Юрьевской, урожденной княгини Долгорукой, а также ее детей. Только ей я предоставляю право распоряжаться этим капиталом в течение моей жизни и после моей смерти. Александр».
Несколькими днями позже полиция перехватила пачку прокламаций, которые Центральный исполнительный комитет «Народной воли» намеревался распространить среди студентов и рабочих. Там перечислялись все «братья», осужденные на смерть за последние месяцы и возводившиеся в ранг мучеников, а также говорилось об ужасной и близкой мести. Не удовлетворившись разговором с царевичем по поводу Екатерины, встревоженный Александр вновь просит его в письме-завещании от 9 ноября 1880 года: «Дорогой Саша, на случай моей смерти поручаю твоим заботам мою жену и детей. То дружелюбие, которое ты постоянно проявлял с самого первого дня, когда узнал их, и которое было для нас настоящим источником радости, служит для меня гарантией того, что ты не оставишь их и будешь для них защитником и добрым советчиком… Моя жена ничего не унаследовала от своей семьи. Стало быть, все, что ей принадлежит сегодня – движимое и недвижимое имущество, – она приобрела сама. Ее родственники не имеют на это имущество никаких прав, и она может распоряжаться им по своему усмотрению. Мы с ней условились, что если я буду иметь несчастье пережить ее, оно будет поровну разделено между нашими детьми, и сын получит свою долю по достижении совершеннолетия, а дочери – когда выйдут замуж. Капитал, который я положил в Государственный Банк, принадлежит моей жене согласно имеющемуся у нее свидетельству. Такова моя последняя воля. Я уверен, что ты исполнишь ее добросовестно. Да благословит тебя Господь. Не забывай меня и молись о душе того, кто нежно любил тебя. Папа».
Устроив таким образом будущее жены и детей, Александр решил покинуть вместе с ними Ливадию в конце ноября. За несколько дней до намеченного полиция обнаружила мину, установленную на железнодорожных путях в Лозовой, неподалеку от Харькова. Этот инцидент не повлиял на решение императора. Его мужество подкреплялось фатализмом. Чем с большим ожесточением охотились на него революционеры, тем крепче верил он во вмешательство Господа во все перипетии его судьбы. Пытаясь заниматься самоанализом, он приходил к выводу, что при принятии политических решений руководствуется скорее чувствами, нежели рассудком. Несмотря на свое положение и свою власть, он был всего лишь порядочным, благородным человеком. Ему казалось, что по масштабам личности он не годится на роль абсолютного монарха, готового выстилать телами подданных дорогу к достижению своих целей. И хотя он не соответствовал своему предназначению, все же было что-то необычное в этом простодушном, чувствительном существе, грезившем в одно и то же время любовью и реформами.
Путешествие прошло без приключений. Немного не доехав до Санкт-Петербурга, поезд остановился в Колпино, где собрались великие князья и княгини. Хотя все они были в курсе относительно женитьбы отца, только наследник престола и его супруга имели до этого возможность познакомиться с Екатериной поближе. Царь созвал членов своей семьи, чтобы представить им вопреки протоколу в скромной обстановке провинциального вокзала свою морганатическую супругу. Приветствия были подчеркнуто вежливыми, но холодными. Сыновья и дочь Александра молча осуждали своего отца.
Когда они 28 ноября приехали в Санкт-Петербург, император отвел Екатерине роскошные апартаменты в Зимнем дворце, заранее подготовленные по его распоряжению. У них была общая спальня, и они спали в одной кровати. Эта спальня примыкала к рабочему кабинету, и зачастую Александр после тяжелых объяснений со своими министрами сразу попадал в объятия жены. В качестве меры предосторожности вокруг дворца вырыли ров. Его окрестности прочесывались патрулями. Стояла холодная погода, небо было серым, лица людей угрюмыми, на крышах лежал снег. Солнце, синее море, лучистая умиротворенность Ливадии – теперь все это было не более чем воспоминанием, постепенно утрачивавшим реальность в мире забот и тревог.
Глава XIII
Охота на человека
В начале 1881 года Лорис-Меликов мог поздравить себя с тем, что его усилия по приобщению представителей народа к управлению государством начали, наконец, приносить плоды, пусть пока и весьма скромные. После долгих колебаний наследник престола и царь все-таки дали согласие на осуществление проекта, сто раз пересмотренного и исправленного. Проект предусматривал создание двух подготовительных комиссий – экономико-административной и финансовой. Деятельность этих комиссий должна была контролироваться Генеральной консультативной комиссией, чьи функции заключались в обсуждении текстов законов с участием делегатов, избранных земствами и городскими собраниями. Эти тексты затем должны были передаваться на рассмотрение в Государственный совет, расширенный на 10–15 членов за счет избранных представителей провинции. Таким образом, речь шла не о формировании парламентского органа, а о привлечении нескольких представителей народа к разработке проектов законов, содержание которых определялось бы заранее. Мнение Генеральной консультативной комиссии ни в чем и ни в коей мере не ограничивало бы компетенцию единственного существовавшего законодательного органа, Государственного совета, института весьма бюрократического, поскольку в его состав входило ничтожное число делегатов провинций.
Каким бы незначительным ни казалось это нововведение, Александр придавал ему чрезвычайно важное значение. Впервые в истории России народ, в лице своих представителей, примет участие в законодательном процессе. Разумеется, обновленный Государственный совет – это еще далеко не парламент. Но те несколько делегатов из провинции, которые будут сидеть бок о бок с государственными сановниками, составят авангард сильной и грозной армии. Еще раз вступив на этот путь, не проснется ли он однажды в демократической стране? Окружение царевича страшно боялось этого. «Россия погибла! – твердили они. – Мы стоим на краю пропасти. Наследник престола попал в западню, расставленную этим шарлатаном армянином!» Александр тем не менее держался стойко и назначил тайную комиссию под председательством царевича, призванную выработать практические меры по осуществлению реформы. Деятельность комиссии была окутана плотным покровом тайны. Будоражить раньше времени общественность было ни к чему. «Раздастся несколько роковых выстрелов, – говорил Лорис-Меликов, – и со мной будет покончено, а вместе со мной со всей моей системой».
Наряду с этой проблемой царь не переставая думал и о другой, которая, по его мнению, была неразрывно связано с первой: коронации княгини Юрьевской. Она занимала его тем более, что Екатерина принимала активное участие в жизни двора, а статус морганатической супруги ставил ее в двусмысленное положение в глазах императорской семьи. Согласно протоколу, она обладала меньшими правами по сравнению с великими князьями и княгинями. Так, за обедом она садилась не напротив императора, а в конце стола, между князем Ольденбургским и герцогом Лейхтенбергским. Александр больше не мог выносить такое унижение. Он поручил князю Голицыну отыскать в московских архивах сведения о подобной церемонии. В самом деле, до сих пор императрицы короновались вместе со своими мужьями, за одним лишь исключением: уроженка Ливонии Екатерина, на которой женился Петр Великий после того, как развелся с царицей Евдокией. Но это было так давно – в 1711 году! С той поры обряд претерпел значительные изменения. Нужно было изучить детали этикета, традиции, особенности коронации…
Это долгожданное событие должно было стать для Александра последним этапом его карьеры. Он уже обсудил все с Екатериной, и она дала свое согласие. У него оставались долги перед ней и народом. Объявив о реформе и короновав жену, он со спокойной душой отойдет от государственных дел. Через полгода, через год он отречется от престола в пользу наследника и покинет Россию вместе с женой и детьми. Сложив с себя полномочия монарха, он, как того всегда желал, станет обычным человеком, который ищет не пышное великолепие двора, а тихое семейное счастье, и поселится где-нибудь во Франции, лучше всего в Ницце. По его просьбе ему представили список недвижимости, продававшейся на Лазурном Берегу. Мечты о светлом будущем придавали ему силы в изнурительных спорах с министрами.
Несмотря на все меры предосторожности, в начале 1881 года в Санкт-Петербурге пошли разговоры о том, что в ближайшее время следует ожидать великих перемен. Некоторые утверждали без всяких на то оснований, будто 19 февраля, в годовщину отмены крепостного права, Александр упразднит самодержавие, провозгласит конституцию и объявит о создании парламента на европейский манер. Эти ложные слухи волновали умы, пробуждая надежды у одних и вызывая страх и ярость у других. Масла в огонь подливали революционеры. Для них принятие конституции не имело никакой ценности. Цель, которую они преследовали, заключалась не в обновлении царизма, а в его полном уничтожении. Они поклялись убить Александра вовсе не потому, что он был деспотом, как его дед Павел I, убитый офицерами собственной гвардии. Они признавали, что на протяжении двух столетий Россия не знала более открытого, более благосклонного монарха. Они не забыли, что он освободил крепостных, ввел суды присяжных, запретил телесные наказания… Единственная его вина, по их мнению, заключалась в том, что он был царем. Хорошим или плохим – не имело значения. Он воплощал в себе принцип, и этот принцип должен был исчезнуть. Сама по себе идея даровать России некое подобие конституции представлялась им даже опасной, поскольку это могло бы лишить народ воли к борьбе. Александр выбивал почву из-под ног противников режима, и, следовательно, им нужно было как можно быстрее вновь обрести ее. То есть им нужно было действовать, прежде чем он преподнесет этот подарок своим подданным.
Руководили заговором трое мужчин и одна женщина, все члены «Народной воли». Александр Михайлов, дворянин по происхождению, вначале был теоретиком революции, начитавшись подрывной литературы, пока не осознал бесплодность дискуссий при закрытых дверях. Мало-помалу, поэт нигилизма превратился в холодного, расчетливого организатора политических убийств. Его отношение к царизму можно было бы сравнить с отношением профессионального подрывника к грозящему рухнуть ветхому дому, который ему поручено взорвать. Помогал ему Николай Кибальчич. Этот молодой украинец, химик по образованию, поначалу принимал участие в националистическом сепаратистском движении и провел три года в тюрьме, в 1875–1878 годах, за распространение листовок. Приехав в 1879 году в Санкт-Петербург, он создал лабораторию по производству динамита. Ему тоже претило пустословие, и он стремился использовать свои технические знания на благо общего дела. Мины и бомбы были его страстью. Он купался в нитроглицерине. Третьим заговорщиком являлся Андрей Желябов. Сын и внук крепостных слуг, он видел свое предназначение в борьбе за народное счастье и считал, что для этого все методы хороши. Однако лично ему царский режим не причинил никакого зла. Благодаря своему отцу, управляющему богатого поместья в Крыму, он поступил в Одесский университет. Женившись на дочери землевладельца, он даже начал заниматься сельским хозяйством. Но материальное благосостояние не смогло притупить в нем ненависть к самодержавию. В 1877 году он оказался на скамье подсудимых среди обвиняемых по знаменитому «процессу ста девяноста трех». Оправданный за недостаточностью улик, он вышел из тюрьмы еще более озлобленным. Цареубийство стало его навязчивой идеей. Это он установил мину на железнодорожных путях в Александровске и снабдил Халтурина динамитом, использованным для устройства взрыва в Зимнем дворце. Эти две неудачи отнюдь не обескуражили его. Он верил, что третья попытка будет удачной. По словам революционерки Ольги Лубатович, «это был стройный, темноволосый юноша с бледным лицом, с красивой бородой и выразительными глазами. Он произносил страстные, пламенные речи сильным, приятным голосом и обладал всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать народным трибуном». («Четыре женщины-террористки против царя».) Товарищи Желябова уважали его за фанатизм, хладнокровие и целеустремленность. Он создавал вокруг себя мрачную, угнетающую, тревожную атмосферу. Сообщники называли его между собой «ужасным Желябовым». Ему было двадцать девять лет, он давно расстался с женой и состоял в любовной связи с еще одной участницей заговора, неистовой Софьей Перовской. Дочь генерала (военного губернатора Санкт-Петербурга до покушения Каракозова), она провела счастливое, безмятежное детство сначала в загородном поместье, затем в столице. Но очень скоро, в силу особенностей натуры, у нее открылись глаза на тщету и суетность светских удовольствий. Уединившись в маленьком домике в предместье, она порвала все прежние связи и посвятила себя революционной деятельности. Товарищ Перовской, Кропоткин, описывает ее следующим образом: «Увидев эту рабочую женщину в шерстяном халате, тяжелых сапогах и хлопчатобумажном платке, никто не узнал бы в ней юную девушку, несколько лет назад блиставшую в аристократических салонах столицы… Она была всеобщей любимицей… Твердая, как сталь, она совершенно спокойно относилась к мысли об эшафоте. Однажды она сказала мне: „Мы сделали великое дело. Возможно, в нашей борьбе погибнут два поколения, и все же она должна достигнуть своей цели“». Когда Софья Перовская встретилась с Желябовым, ее словно ослепила молния. Этот человек представлялся ей воплощением ее революционного пыла. Она с радостью разделила с ним, почитаемым ею за выдающуюся личность, жизнь борца. Надменная и требовательная, она обожала его до такой степени, что не прощала ему малейшей слабости. Иногда, измученный трудами и заботами, он плакал, уткнувшись лицом ей в колени, а она грубо отталкивала его от себя, не переставая безумно любить при этом. В их необузданной восторженности было что-то разрушительное. Знала ли она о той трагической параллели, существовавшей между страстью царя к молодой женщине и ее страстью к Желябову, возникшими в силу неумолимого исторического рока? И если знала, то понимала ли, что хотя их политические убеждения были диаметрально противоположными, они следовали, каждый на свой манер, одной и той же дорогой любви, постоянно подвергаясь угрозе насильственной смерти? Вряд ли. Она была слишком поглощена охотой на человека, чтобы иметь возможность сравнивать свою судьбу охотника с судьбой царя – жертвы. Стоило кому-нибудь упомянуть в ее присутствии об императоре, она вскипала от гнева. Она ничего не хотела знать о его качествах правителя, патриота, мужа, отца семейства. Для нее во всем мире существовал лишь один человек, достойный того, чтобы она думала о нем с любовью и состраданием, – Желябов.
Вокруг этой дьявольской пары сгруппировалась «боевая когорта», десяток добровольцев, презиравших социалистическую фразеологию и посвятивших себя «практическому терроризму», то есть подготовке взрывов и организации покушений. Они полагали, что убийство Александра вызовет такой шок, что царский режим развалится на куски. На обломках монархии возникнет народное правительство. Государство разделится на автономные области, наделенные правом выходить из состава Российской Федерации; местные дела будут переданы в ведение сельских и городских общин; земля и промышленность будут национализированы; и Россия, избавившаяся, наконец, от тирана, познает счастье под управлением тех, кто прежде был угнетаем.
Отслеживая перемещения монарха, наблюдатели группы установили, что он все реже и реже покидает дворец. Однако он продолжал регулярно присутствовать при смене караула в Михайловском манеже. Следовательно, нужно было попытаться убить его во время одной из поездок туда. Добраться от дворца до манежа можно было двумя маршрутами. Один проходил по Инженерной улице и всегда пустынной набережной Екатерининского канала; другой, которым царь пользовался чаще, – по Невскому проспекту и Малой Садовой. В начале сентября 1880 года террорист Кобозев снял в доходном доме на Малой Садовой подвал и открыл там вместе с молодой еврейкой Гесей Гельфман молочный магазин. Сразу после этого Желябов и его сообщники начали рыть туннель, ведущий из подвала под проезжую часть улицы. Эта работа продолжалась несколько недель, несмотря на обвалы и просачивание воды. Одновременно с этим специалисты производили химические опыты, а остальные упражнялись в метании бомб в безлюдных уголках предместья. Предусматривалось, что если мина по какой-либо причине не взорвется, четверо заговорщиков бросят в царскую карету по бомбе, а если и эта попытка не увенчается успехом, Желябов вспрыгнет на подножку кареты и собственноручно заколет царя кинжалом.
Но полиция была настороже. 28 ноября 1880 года она арестовала Александра Михайлова, который имел неосторожность заказать в фотоателье фотографии двух казненных товарищей. Кроме того, открытие молочного дома в доме 4 по Малой Садовой вызвало у властей подозрение. Лжеторговцы проявляли удивительную некомпетентность, и выбор сыров в их магазине был настолько скудным, что мало у кого возникало желание переступить его порог. Во время проверки санитарного состояния один важный чиновник в генеральском чине отметил наличие повышенной влажности в помещении магазина, но не сделал из этого никаких выводов. К тому времени в задней комнате образовалась огромная куча земли, выкопанной при прокладке туннеля. Террористы неумело маскировали ее углем и соломой. Полицейские порылись в магазине и ушли, не обнаружив ничего предосудительного. Заговорщики едва избежали провала. Однако их радость длилась недолго. Желябов, ставший после ареста Михайлова единоличным руководителем группы, тоже попал в западню. Придя навестить своего товарища Тригони, находившегося под наблюдением полиции, он был схвачен у дверей его дома вместе с другими визитерами. Полицейские даже не поняли, какую важную птицу им удалось поймать. Это сделал следователь, на первом же допросе узнавший известного террориста. На все его вопросы Желябов только и ответил: «Не слишком ли поздно вы арестовали меня, господа? Ведь я не один, не забывайте об этом!»
Узнав об аресте своего возлюбленного, Софья Перовская испытала приступ ярости, смешанной с душевной болью. Когда ее товарищи попытались отказаться от своего плана, осуществление которого теперь было чревато слишком большим риском, она именем революционной чести настояла на том, чтобы дело было доведено до конца. На что она, собственно, надеялась? Может быть, она думала, что беспорядки, спровоцированные покушением на Александра, позволят им освободить Желябова из тюрьмы? Или же она просто не желала оставаться в живых, теперь, когда он был фактически обречен на смерть? Очевидно, она хотела разделить с ним боль, отомстить за него и погибнуть вместе с ним. Ею овладело безумие. Ее страстные речи приводили товарищей в трепет. Нужно было действовать без промедления. На следующий день, в воскресенье, 1 марта 1881 года, царь должен был отправиться по своему обыкновению в Михайловский манеж. В их распоряжении оставалась только одна ночь для того, чтобы заложить мину и подготовить бомбы. Решение было принято единогласно, никто не осмелился возразить.
В это время Александр принимал в Зимнем дворце Лорис-Меликова, спешно явившегося к нему с сообщением об аресте Желябова. По сведениям министра террористы готовили новое покушение. Он настоятельно советовал императору отказаться от завтрашней поездки на смену караула по соображениям безопасности. Александр не желал его слушать: в Михайловском манеже соберутся все представители дипломатического корпуса, и с его стороны было бы просто неприличным не появиться там. И, меняя тему, он потребовал от него представить ему на подпись манифест, объявлявший о созыве комиссий, в которых должны были участвовать – небывалое дело! – избранные представители земств и городских собраний. Лорис-Меликов положил документ перед ним на стол. Александр улыбнулся и окунул перо в чернильницу. Он сознавал, что, подписывая этот манифест – плод стольких трудов, впервые ограничивает власть императора. В России начиналась новая, более либеральная эпоха. Документ должен был стать законодательным актом после его утверждения Советом министров, заседание которого было намечено на 4 марта 1881 года. Когда Лорис-Меликов ушел, Александр вошел в спальню, где находилась Екатерина, и сказал: «Ну вот и все. Я только что подписал бумагу… Думаю, она произведет хорошее впечатление. По крайней мере русский народ увидит, что я дал ему все, что только было возможно!»