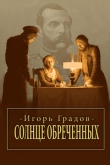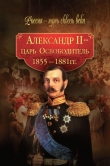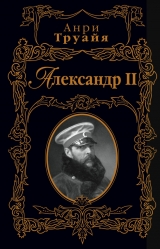
Текст книги "Александр II"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Глава XI
Террористы
В результате полицейских репрессий, последовавших за неудавшимся покушением Каракозова в 1866 году, ряды заговорщиков значительно поредели. Одни были арестованы, другие ушли в подполье, третьи бежали за границу. Для последних идеальным местом сбора была Швейцария. Именно там разрабатывались различные программы избавления России от монархии. Наибольшие опасения вызывал, вне всякого сомнения, Сергей Нечаев. Сын крестьянина и бывший сельский учитель, он обладал железной волей и был крайне неразборчив в средствах. Став преданным учеником престарелого Бакунина, он проповедовал уничтожение государства и упразднение всех классов, за исключением класса крестьян. Однако система устрашения, введенная Нечаевым в своей группе, дискредитировала его в глазах Карла Маркса и вождей I Интернационала, основанного в Лондоне в 1864 году. Свойственные ему бескомпромиссность и нетерпимость толкнули Нечаева на убийство в Москве одного из своих сподвижников, Иванова, чья вина заключалась лишь в том, что он не подчинился его приказу. (Достоевский под впечатлением от этой жуткой истории написал роман «Бесы», в котором вывел Нечаева под именем террориста Верховенского.) Его сообщники были схвачены и осуждены на каторжные работы. Самому же Нечаеву удалось скрыться за границей, в Швейцарии, где он издал свой «Катехизис революционера».
В этом труде он пишет о том, что революционер – это человек, который добровольно прерывает все связи с обществом, который отказывается от всех личных интересов и чувств и который должен испытывать лишь одну потребность – разрушения. Свободный от буржуазных условностей, амбиций, а также родственных, дружеских и любовных уз, он ощущает себя заранее обреченным. Единственная цель его существования состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше врагов народного дела, прежде чем он погибнет сам. Такую судьбу поджигатель Нечаев уготовил университетской молодежи. Однако он был арестован швейцарскими властями, выдан российской полиции и заточен в Петропавловскую крепость.
Его дело продолжили другие русские эмигранты, которым удалось избежать репрессий.
В январе 1870 года умер Герцен. В марте того же года в Париж приехал Петр Лавров. Бывший профессор Военной академии, здравомыслящий человек, обладавший высокой культурой, он считал себя учеником Карла Маркса. Его «Исторические письма» служили источником вдохновения для молодого поколения. Отвергнув нигилизм 60-х годов, основывавшийся на индивидуальном самосовершенствовании, он провозглашал необходимость единения в борьбе за народное благо. Юные ниспровергатели основ вдруг задались вопросом: не разумнее ли прекратить учебу и вернуться в Россию, чтобы заняться просвещением крестьян. Центром дискуссий стал Цюрих, где проживало множество русских студентов, стремившихся пополнить багаж своих знаний у иностранных профессоров. Появление здесь в 1872 году Лаврова и Бакунина взволновало умы, жаждавшие великих идей. Каждый из этих жрецов революции был вооружен собственной теорией и имел своих последователей. Бакунин призывал молодежь идти в народ не для того, чтобы учить его социализму и грамоте, но для того, чтобы подвигнуть его на немедленное и всеобщее восстание. Он требовал от своих сторонников разрушить «раз и навсегда в сердце народа остатки этой несчастной веры в царя, которая на протяжении веков обрекала его на ужасное рабство». На месте государства в России он видел «свободную федерацию» сельскохозяйственных и промышленных рабочих ассоциаций. Эта доктрина прямого действия привлекала больше неофитов революции, нежели умеренная доктрина Лаврова, который заклинал их продолжать учебу, чтобы быть лучше подготовленными, когда придет время просвещать массы.
Молодежь разделилась на «бакунинцев», которым не терпелось окунуться в гущу народа, и менее многочисленных «лавровцев», готовых к кропотливой и основательной работе по созданию условий для возникновения социализма в будущем. В 1873 году в Цюрих приехал третий «лидер» – Петр Ткачев. Будучи учеником Чернышевского, он утверждал, что невежественный, ограниченный, забитый мужик не может быть активным элементом революции. Он воспользуется плодами этой революции, не принимая в ней участия. Захват власти будет осуществлен хорошо подготовленной группой заговорщиков, руководимой из единого центра. Для свержения режима гораздо больше подходила горстка решительно настроенных профессионалов, чем неорганизованная толпа с непредсказуемыми реакциями. (Позже этой теории будет придерживаться Ленин.) Но большинство слушателей Ткачева были слишком большими идеалистами, чтобы принять эту суровую реальность. Сделать счастливым пролетариат без помощи самого пролетариата – это казалось им несправедливым и унизительным по отношению к трудящимся. Ткачев приобрел меньшее число адептов, нежели Бакунин и Лавров.
«Бакунинцы», «лавровцы» и «ткачевцы» сходились в одном: нужно было идти в народ. Одни мечтали поднять его на восстание против самодержавия, другие – обучать и просвещать его, третьи – прививать ему правильные взгляды на жизнь. Но все они испытывали почти физическую потребность прикоснуться к мужику, подышать с ним одним воздухом, разделить его страдания. Интеллигенты – говорили они – в долгу перед своими угнетенными собратьями. Они должны оставить свои книги и отправиться в деревню. Как раз в 1873 году вышел императорский указ, предписывавший всем русским студентам, обучавшимся в Швейцарии, вернуться на родину. Этот указ имел целью избежать пагубного влияния зловредных западных идей на молодые, неокрепшие умы. Результат же оказался прямо противоположным тому, на который власти рассчитывали. Вернувшись домой, молодые люди сделались страстными пропагандистами революционных теорий. Они пополнили ряды сторонников прогресса, деморализованных репрессиями последних лет. Под влиянием последователя Чернышевского и Добролюбова Николая Чайковского некоторые из этих студентов начали образовывать небольшие общины. Совместные проживание и труд сближали их духовно и укрепляли их решимость в борьбе. Так в России родились и расплодились полуподпольные кружки, призванные подготовить «хождение в народ». Благородные порывы охватили различные слои общества. Все больше и больше людей испытывали угрызения совести и сочувственно относились к этим неофитам, чья цель заключалась – как похвально! – в братании с мужиками.
Весной 1874 года возбуждение среди молодежи достигло точки кипения. Пришло время действовать. Разумеется, прежде чем идти в народ, нужно было соответствующим образом одеться – в рубахи из грубого сукна, картузы и сапоги. «Миссионеры» прощались со своими родными и друзьями. Они говорили, что идут на Урал, на Волгу, на Дон, чтобы вести там жизнь сельскохозяйственных рабочих, лесников, лодочников, чтобы как можно глубже проникнуть в народную среду. Их поздравляли. Им желали счастливого пути. Их стали называть «народниками». Крестьян удивило появление этих молодых господ и дам, бедно одетых белоручек, которые заводили с ними непонятные беседы. Поскольку вновь прибывшие осуждали алчность землевладельцев, их слушатели одобрительно кивали головами. Но как только они начинали проповедовать идеи социализма и восхвалять преимущества коллективного труда, то сразу наталкивались на глухую стену. Мужики с подозрением поглядывали на этих велеречивых чудаков, притворявшихся своими. Воспитанные в преклонении перед царем-батюшкой и отмеченные печатью многовекового рабства, они боялись перемен, о которых толковали чужаки, пришедшие из города. Может быть, это ловушка и их просто проверяют на лояльность? Зачастую они сами хватали агитаторов и сдавали местным властям. Полиция всюду преследовала народников. Их имена были известны. Но правительство еще не знало, какой метод борьбы с этим явлением следует избрать. В конечном итоге, было задержано четыре тысячи пропагандистов и семьсот семьдесят из них передано в руки правосудия. Среди них было сто пятьдесят восемь девушек, главным образом, из хороших семей. Маскарад закончился душевным опустошением.
В конце 1874 года министр юстиции граф Пален объявил, что «безумное лето» закончилось. Он решил организовать политические процессы, чтобы продемонстрировать нации опасность, которая ей угрожает. Пален пишет в своем докладе: «Многие зрелые люди, занимающие видное положение, не только стоят на позициях, враждебных по отношению к правительству, но и оказывают эффективную поддержку революционерам, словно не понимая, что тем самым готовят гибель себе и обществу». В результате эти процессы обернулись против того, кто их организовал. С одной стороны, они стали свидетельством существования в стране тайных организаций, с другой – дали обвиняемым возможность для критики режима и рекламирования преимуществ радикального решения всех проблем. В прессе публиковались выдержки из их зажигательных речей. Брошюры, отпечатанные в подпольных типографиях, воспроизводили их целиком. Полагая, будто они пригвоздили народников к позорному столбу, власти на самом деле предоставили им трибуну. Отныне все в России были в курсе тех претензий, которые образованная молодежь предъявляла правительству.
Между тем неудача «хождения в народ» убедила революционеров в невозможности немедленно поднять бунт, опираясь на поддержку масс. В деле расшатывания основ монархии они должны были рассчитывать только на самих себя. В конце 1874 года была создана тайная организация, гораздо более мощная по сравнению с прежними разрозненными кружками. Она получила название «Земля и воля», которое уже носило одно общество в 60-х годах. Во главе ее стоял Центральный комитет, состоявший из нескольких секций – по делам интеллигенции, рабочих, крестьян… В скором времени всюду появились филиалы «Земли и воли». По стране прокатилась волна забастовок, быстро подавлявшихся властями. 6 декабря 1876 года в Санкт-Петербурге перед Казанским собором на манифестацию собрались сотни рабочих и крестьян. Полиция рассеяла толпу и арестовала зачинщиков, которые попали в заключение или были депортированы.
Несколько месяцев спустя один из молодых людей, брошенных в тюрьму по этому поводу, студент Боголюбов, отказался снять головной убор перед шефом полиции генералом Треповым, посещавшим камеры. Взбешенный Трепов стукнул студента по лицу и приказал подвергнуть его ста ударам розгами, хотя к политическим заключенным телесные наказания не применялись. Об этом событии узнала жившая на берегу Волги в нескольких сотнях верст от Санкт-Петербурга двадцативосьмилетняя экстравагантная дама по имени Вера Засулич, очевидно, из подпольных газет. Хотя она и не была знакома с Боголюбовым, ее страшно возмутило нанесенное ему оскорбление. Сама Засулич была когда-то связана с Нечаевым и отсидела два года в тюрьме за революционную пропаганду. Она давно вынашивала планы отомстить за страдания своих товарищей, и вот, наконец, ей представился случай пожертвовать собой и войти в историю.
24 января 1878 года она явилась к Трепову под видом просительницы и дважды выстрелила в него из револьвера, тяжело ранив его. Тут же схваченная и брошенная в тюрьму, она провела там около трех месяцев, прежде чем предстала перед судом присяжных, введенным в результате осуществления Александром либеральных реформ. Относительно вердикта не было никаких сомнений, поскольку обвиняемая с гордостью призналась в преступлении, совершенном средь бела дня. Однако, как только первые свидетели начали давать показания, в зале заседания возникла атмосфера сочувствия к революционерке, несмотря на то, что все присяжные принадлежали к высшим слоям общества, а публика была подобрана из надежных людей. Жестокость Трепова представлялась присутствовавшим более достойной осуждения, нежели покушение Веры Засулич на его убийство. Неожиданно она превратилась в обвинительницу, а он в обвиняемого. Каждый ответ Засулич воспринимался, как приговор. Возбуждение нарастало. Вместо того чтобы защищать свою подопечную, адвокат Александров произнес настоящую обвинительную речь против Трепова и правительства, которое тот олицетворял. Зал внимал ему с восторгом. Наконец, присяжные удалились для принятия решения. Им потребовалось всего несколько минут, чтобы вынести вердикт «невиновна».
Публика, не ожидавшая такого финала, разразилась не вполне уместными аплодисментами. Вера Засулич вышла из зала суда под гул овации. Толпа, собравшаяся на площади перед зданием суда, приветствовала ее, как героиню. Молодую женщину хотели с триумфом пронести на руках до дома Трепова, но жандармы и казаки остановили процессию. Выдвинувшийся к месту события пехотный полк открыл огонь. Толпа рассеялась, оставив на мостовой убитых и раненых. Во время беспорядочного бегства Вера Засулич исчезла с помощью своих друзей. Позже она уедет в Швейцарию. (После этого Засулич будет постоянно курсировать между Швейцарией и Россией. Она примет участие во многих революционных акциях, станет известной меньшевичкой, окончательно вернется в Россию в 1905 году, отвергнет Октябрьскую революцию 1917 года и умрет в 1919 году.)
О скандальном вердикте и последовавших за его вынесением уличных беспорядках стало известно всей России. Иностранные газеты комментировали процесс и отмечали в связи с этим слабость русского самодержавия. Все аккредитованные в Санкт-Петербурге дипломаты утверждали в своих депешах, что в отношениях между нацией и престолом наступил кризис. Поверенный в делах Франции Вьель-Кастель сообщает своему министру: «За исключением тех, кто близок ко двору и правительству, представители всех слоев общества и, в первую очередь, буржуазия приветствуют решение присяжных и расценивают его, по меньшей мере, как протест против невыносимых злоупотреблений». (Письмо Вьель-Кастеля герцогу Деказесу от 21 апреля 1878 года. Константин де Грюнвальд.)
Александр был ошеломлен. Как могло случиться, что столько здравомыслящих и состоятельных людей встали на сторону преступницы? Неужели они не понимают, что, проявляя благодушие в отношении террористов, они обрекают себя на скорую гибель? Полный решимости вести непримиримую борьбу с насилием, он распорядился увеличить сроки наказания недавно осужденным ста восьмидесяти трем революционерам, наделил полицию правом высылать подозреваемых в Сибирь на основании простого административного решения и высказался за лишение присяжных компетенции выносить вердикты по политическим преступлениям и ее передачу военным трибуналам.
Однако, несмотря ни на что, Вера Засулич нашла множество горячих приверженцев и последователей среди революционеров.
Наступила эпоха терроризма. 24 мая 1878 года в Киеве от ножа фанатика погиб капитан жандармов барон Хейкинг. Там же было совершено покушение на жизнь прокурора Котляревского. В Москве, Киеве, Харькове, Одессе прошли манифестации революционеров, жестоко разогнанные полицией. Организатор мятежного сборища в Одессе, Ковальский, был арестован, приговорен к смерти и казнен. 4 августа 1878 года генерал Мезенцов, незадолго до этого вступивший в должность шефа жандармов, был средь бела дня заколот кинжалом на одной из самых оживленных улиц Санкт-Петербурга, Итальянской. Нападавшие скрылись. (Позже стало известно, что убийцей был Сергей Кравчинский, которому удалось бежать в Лондон.) В конце года Вьель-Кастель сообщает в своей депеше: «Хотя правительство демонстрирует намерение организовать репрессии, нигилисты, судя по всему, не собираются прекращать борьбу. Если даже допустить, что правительство одерживает верх над преступной группой, против него настроена значительная часть общества, которая хотя и не состоит в сговоре с убийцами, тем не менее твердо убеждена в порочности существующего порядка вещей. Пусть эти люди не противоборствуют правительству открыто, однако они являются его врагами или по крайней мере недовольны им». И в другой депеше: «Похоже, российское правительство ни в коей мере не собирается удовлетворять желание реформ, которое сегодня ощущается во всех слоях общества… Царь, никогда не прислушивавшийся к общественному мнению, имеет весьма смутное представление о сложившейся ситуации». (Константин де Грюнвальд.) На этот счет дипломат ошибался. Александр чувствовал опасность, грозившую самодержавию, но он прекрасно знал, что уступки с его стороны будут лишь побуждать противников монархии к дальнейшим требованиям. Революционерам свойственна ненасытность. В конце концов, удалось же ему обуздать их после покушения Каракозова. Может быть, полицейские преследования положат конец деятельности этих убийц?
Тем временем жизнь двора шла своим чередом – балы, парады, официальные приемы, спектакли – словно в стране все было спокойно и она не стояла на пороге гражданской войны. Секретарь французского посольства, виконт Мельхиор де Вог пишет в своем дневнике 26 января 1879 года: «Присутствовал на спектакле. Самое фееричное зрелище в моей жизни. Некое смешение эпох Людовика XIV и Гаруна аль-Рашида. Когда императорская семья появилась в большой ложе, все женщины с обнаженными плечами и в бриллиантах в ложах, все генералы в эполетах и орденских лентах в партере поднялись в лучах электрического света и дружно прокричали „ура“ при первых звуках гимна. На фоне одежд всех цветов радуги выделялся лишь черный костюм посла США. Блеск, могущество, роскошь, исключительность… и золото восьмидесяти миллионов человек, собранное в этом искрящемся зале. Его вид столь прекрасен, столь величествен, что после этого можно созерцать только звезды и идеи, ибо на земле больше нет ничего подобного».
Александр присутствовал на этих мероприятиях по долгу монарха, апатичный и печальный. Даже находясь среди наиболее преданных придворных, он иногда чувствовал, как по спине пробегает холодок, холодок недовольства, испытываемого страной по отношению к нему. В надежде объединить вокруг себя всех людей доброй воли он приказал опубликовать в «Правительственном вестнике» обращение к народу, которое гласило следующее: «Какими бы суровыми ни казались решения правительства, как бы жестко и рьяно ни осуществлялись эти меры, как бы спокойно и с презрением власть ни относилась к угрозам банды злоумышленников, правительство должно опереться на общество и поэтому оно призывает все сословия русской нации помочь ему вырвать зло с корнем… Лучшие представители русского народа должны продемонстрировать своим поведением, что среди них нет места преступникам, что они отвергают их идеи и что каждый верный подданный царя готов сделать все возможное, чтобы помочь правительству уничтожить общего врага, который подрывает нашу страну изнутри».
Этот патетический призыв был услышан лишь сторонниками монархии, которых вовсе не нужно было агитировать. Зараза политического убийства распространялась в России подобно эпидемии. По империи катилась волна покушений на прокуроров, судей, полицейских чиновников, офицеров жандармерии, начальников тюрем. 9 февраля 1879 года Григорий Гольденберг выстрелом из револьвера убил харьковского губернатора князя Кропоткина (двоюродного брата знаменитого анархиста). 1 марта того же года едва избежал смерти генерал Дрентельн, сменивший на посту шефа полиции генерала Мезенцова, убитого годом ранее. Карету, в которой он ехал вдоль набережной Невы, нагнал всадник и произвел по нему выстрел, не достигший цели. Полицейские бросились вслед за покушавшимся, но тот легко ушел от преследования. По этому поводу в подпольной газете «Земли и воли», называвшейся «Листок», было заявлено, что террор «заставляет власти почувствовать все свое бессилие в условиях опасности, источник которой неизвестен».
Спустя несколько недель, утром 2 апреля 1879 года, Александр, совершавший традиционную прогулку в окрестностях дворца, заметил высокого молодого человека в чиновничьей фуражке, который шел ему навстречу быстрым шагом. Встревожившись, Александр оглянулся. Сопровождавший его полицейский офицер отстал шагов на двадцать пять. На противоположной стороне, на площади Генерального штаба, находился капитан жандармерии. Прежде чем император успел окликнуть их, незнакомец выстрелил в него из револьвера. Александр уклонился вправо. Второй выстрел. Несмотря на шестьдесят один год, он ловко отпрыгнул влево. Третья пуля просвистела возле его уха. Он зигзагами побежал прочь. Четвертая и пятая пули едва не задели его. Полицейские, наконец, схватили безумца. По дороге в участок он пытался покончить с собой, сунув в рот наполненный ядом орех. Тут же выяснили, что его зовут Александр Соловьев, что ему тридцать лет и что по профессии он учитель. На вопросы следователя по поводу подготовки покушения и сообщников он отвечать отказался, с гордостью заявив: «Я крещен в православной вере, но в Бога не верю… Идея покушения на жизнь Его Величества возникла у меня после знакомства с учением социалистов-революционеров. Я принадлежу к российской секции этой партии, которая считает несправедливым, что большинство страдает ради того, чтобы меньшинство пользовалось плодами народного труда и всеми благами цивилизации, недоступными большинству». (Г. Чулков: Последние цари-самодержцы.) И добавил: «Больше вы от меня ничего не узнаете. Я уже давно принес в жертву свою жизнь. Даже если я позволю себе в чем-либо сознаться, товарищи организуют мое убийство. Да, в этой самой тюрьме, где мы сейчас находимся». (Морис Палеолог.) Его повесили 29 мая 1879 года.
В очередной раз избежав гибели, Александр по обычаю отслужил благодарственный молебен и принял поздравления придворных. Дерзкое покушение Соловьева, пусть и неудачное, потрясло общество. Всюду царила атмосфера неуверенности и тревоги. Теперь в молодежи видели не идеалистов, совершающих «хождение в народ», а преступников. Те же, словно бросая вызов, стали появляться на публике в нарочито неряшливом виде: студенты с всклокоченными бородами и длинными волосами, одетые в красные рубахи и с шарфами на плечах; студентки в коротких юбках, с остриженными волосами и с папиросами в зубах.
Великий сатирик Салтыков-Щедрин пишет по этому поводу: «Это люди, которые начали читать, не зная азбуки, и ходить, не научившись твердо стоять на ногах». (Константин де Грюнвальд: Русское общество и цивилизация в XIX веке.) Даже не принадлежа к какой бы то ни было подпольной группе, они симпатизировали профессиональным агитаторам и упрекали своих родителей в том, что те цепляются за старый порядок. Что же касается родителей, они, трепеща при мысли о кровавой революции, сами хотели изменений. Каких? Они не могли ответить определенно на этот вопрос. Но они были убеждены в том, что существующий режим изжил себя. Будущее – думали они – не должно напоминать прошлое. Подобно спящему человеку, который ищет во сне наиболее удобное положение, они переворачивались с одного бока на другой. Согласно их мнению следовало различать заговорщиков-нигилистов и здравомыслящих либералов. Последние, среди которых фигурировали ученые, высшие чиновники, литераторы, инженеры и врачи, мечтали о конституции. Почему бы не пойти навстречу их желаниям? Момент был самый благоприятный.
Однако Александр боялся, как бы его уступки не привели к распаду империи. Являясь абсолютным монархом, он не был абсолютно свободен в своих действиях, ибо имел обязательства перед своими предками и потомками. Его отец оставил ему богатство в наследство. Он должен был передать его в целости и сохранности своему наследнику. Все – министры, советники, жена, любовница – умоляли его проявлять осторожность. Скрепя сердце он отказался от ежедневных пеших прогулок и покидал дворец только в закрытой карете под охраной казаков. Дабы охладить пыл революционеров, он наделил генерал-губернаторов Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы, Киева, Харькова и Одессы верховной властью с исключительными полномочиями: они могли арестовывать или высылать любых подозрительных лиц, приостанавливать или запрещать издание любого органа периодической печати, принимать любые необходимые меры по поддержанию порядка. Среди этих шести властителей были три генерала, прославившиеся во время последней войны – Тотлебен, Гурко и Лорис-Меликов. Таким образом, в России фактически вводилось военное положение. Указ от 5 августа 1879 года гласил, что отныне любое лицо, обвиненное в политическом преступлении, может быть осуждено без предварительного следствия и заслушивания свидетелей и приговорено к смертной казни без права подачи апелляции.
Усиление репрессий лишь укрепило решимость революционеров. Однако со временем члены «Земли и воли» разделились на две фракции. Одни, среди которых был молодой Плеханов, были сторонниками пропаганды среди крестьян, другие ратовали за ужесточение террора. Конфликт между ними все более обострялся, и руководители экстремистов собрались на тайную конференцию, которая проходила 17–21 июня 1879 года в Липецке, небольшом городке Тамбовской губернии, чтобы обсудить вопрос цареубийства. Стояла прекрасная погода. Обстановка была самой идиллической. Растянувшись на траве в тени деревьев, заговорщики слушали пылкую речь Александра Михайлова, призывавшего убить царя. «Император, – заявил он, – в течение второй половины своего правления свел на нет почти все то хорошее, что ему позволили сделать сторонники прогресса после поражения в Крымской войне – освобождение крепостных, судебная реформа. Должны ли мы простить ему за это все зло, которое он совершил с тех пор и еще совершит в будущем?» Ответ был единодушным: «Нет!» В свою очередь революционер Желябов утверждал, что терроризм является не оружием «законной защиты и мести», а методом «борьбы за свободу и парламентский режим».
Приняв эту резолюцию, участники «конференции» отправились в Воронеж, где встретились с противниками террора во главе с Плехановым. Тот категорически отмежевался от террористов. Раскол партии стал свершившимся фактом. Ни одна из группировок не сохранила за собой название «Земля и воля». Приверженцы террора, вернувшись в Санкт-Петербург, основали новое общество «Народная воля». Их оппоненты, видевшие решение всех проблем исключительно в социальной пропаганде и аграрной революции, назвали свою организацию «Черный передел». «Народная воля» была более многочисленной и активной. Плеханов с товарищами эмигрировал и создал за границей российскую социал-демократию, черпавшую вдохновение в марксизме. В свою очередь «Народная воля», членов которой называли «народниками», стала предтечей партии социалистов-революционеров.
26 августа 1879 года Центральный исполнительный комитет «Народной воли» проголосовал за смертный приговор Александру, который был бы приведен в исполнение, если бы царь не пошел на существенные уступки. Небольшая кучка «поборников справедливости» поклялась пожертвовать своими жизнями в борьбе за правое дело. Они ездили из одного конца России в другой с фальшивыми паспортами, постоянно меняя имена, внешность, профессии. Появляясь в обличье рабочих, шахтеров, столяров, купцов, печатников, они вербовали сочувствующих во всех слоях общества. Один агент Третьего отделения, проникшийся революционными идеями, предупредил их о грозившем им аресте. С ловкостью угрей они ушли сквозь расставленные на них сети. Ни одно перемещение императора не ускользало от их внимания. В мае 1879 года он отдыхал в Крыму, проживая в Ливадии вместе с императрицей, чье состояние быстро ухудшалось. Разумеется, там же находилась и Екатерина Долгорукая, остановившаяся в соседней усадьбе, где она принимала своего возлюбленного в любое время дня и ночи. После отъезда в Санкт-Петербург, куда его призвали государственные дела, Александр вернулся в сентябре в Крым с намерением остаться там до зимы. Между тем измученная недугом царица уехала в Киссинген, где надеялась немного поправить здоровье. Оттуда, по совету врачей, она отправилась в Канны, славившиеся своим благоприятным климатом.
В отсутствие жены Александр целиком и полностью посвятил себя Екатерине. Он являлся к ней верхом в сопровождении всего лишь одного казака. Она ожидала его в окружении детей. Он играл с ними, а затем любовники удалялись на украшенную цветами веранду, откуда открывался чудесный вид на необозримые голубые подернутые дымкой дали Понта Эвксинского. Как всегда, он делился с ней своими заботами и замыслами. Вернувшись вечером во дворец, он писал ей письмо, дабы еще раз заверить ее в своей любви и признательности. Ему хотелось, чтобы это безмятежное житье вдали от суеты двора не кончалось никогда. Но в последние дни ноября подули порывистые северные ветры, резко похолодало, и Александр решил, что пришла пора возвращаться в Санкт-Петербург, в теплый Зимний дворец.
Тем временем террористы узнали о возвращении царя и решили заложить мину на пути следования его поезда, либо в Одессе, либо в Александровске (пригороде Харькова), либо под Москвой. Раздобыть динамит не составляло никакого труда. Однако маршрут императорского поезда изменился, и он миновал Одессу. В Александровске мина по неизвестной причине не взорвалась. Террористам не оставалось ничего другого, как попытать счастья в четырнадцати километрах от Москвы. Один из них, называвший себя инженером Сухоруковым (его настоящее имя было Лев Хартман, после покушения он бежал в Париж, где и жил до самой смерти), снял дом вблизи железнодорожной насыпи. Вместе со своими товарищами он прорыл подземный ход, который вел прямо под рельсы, и установил там заряд большой мощности. Им было в точности известно расписание поезда.
19 ноября, на рассвете, они ждали, затаившись, наступления судьбоносного момента, чтобы привести в действие механизм взрывного устройства. Согласно правилам, перед поездом Его Величества должен бы проследовать с получасовым опережением состав с багажом царя и персоналом императорской канцелярии. Итак, террористы пропустили первый поезд и взорвали второй. Паровоз перевернулся, и несколько передних вагонов сошли с рельсов, образовав бесформенную груду обломков. Однако произошла ошибка. В Харькове в одном из паровозов обнаружились неполадки, и в последнюю минуту было принято решение пустить первым императорский поезд. Так что в воздух взлетел не тот состав. О жертвах не сообщалось. Тем не менее дерзость заговорщиков повергла власти в шок. Узнав о том, что он в очередной раз избежал смертельной опасности, Александр воскликнул: «Что они имеют против меня, эти несчастные? Почему они преследуют меня, словно дикого зверя? Ведь я всегда стремился делать все, что в моих силах, для блага народа!» Проведя два дня в Москве, он уехал с Екатериной в Санкт-Петербург. Еще в Туле его настигла телеграмма из Канн, от императрицы: у бедной Марии Александровны случился сильный сердечный приступ, сопровождавшийся удушьем. Александр лаконично телеграфировал ей в ответ: «Сожалею по поводу твоей болезни. Чувствую себя хорошо. Нежно обнимаю. Александр».