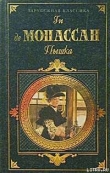Текст книги "Ги де Мопассан"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
Не явилось ли это для него, разменявшего пятый десяток, началом новой карьеры? Ему как раз этого и хотелось, и он уже думает о том, чтобы «приспособить» для сцены еще одну свою новеллу – «Иветту». Начиная с конца марта на Мопассана сыплются предложения о постановке «Мюзотты» в провинции и за границей. Ну, а Ги, раздуваемый тщеславием, петушится и даже напускается на директора театра «Жимназ» Виктора Конинга с упреками, что тот недостаточно рекламирует пьесу. Отзвуки этих споров долетали до ушей собратьев по перу и, скажем прямо, смешили их. «Доде рассказывал мне, что Конинг окончательно рассорился с Мопассаном и что, несмотря на все попытки последнего примириться, он оставался непреклонен, – заносит в свой дневник Эдмон де Гонкур. – Похоже, сейчас Мопассан сошел с ума от гордости, и тон его писем настолько категоричен, что до глубины души задел директора театра „Жимназ“. Вот что привело к заварушке: Мопассан хотел, чтобы рецензии на пьесу, оплачиваемые Конингом, включали также и восхваления его (Мопассана) гения, а похвала самой пьесе, которая также включала бы немного похвальных слов в адрес его соавтора (Жака Нормана. – Прим. авт.), его мало заботила. Ну, а Конинг, которого, в свою очередь, мало заботило прославление гения Мопассана, целиком занимался успехом пьесы. Больше даже, по словам Конинга, в пьесе больше Нормана, чем Мопассана. И он, Конинг, ждет следующей пьесы – такой, которую тот выполнит целиком сам и благодаря которой он заранее заявляет о себе как о творце нового театра».
Эту вторую пьесу, над которой Мопассан теперь работал, ему хотелось видеть на сцене. Администратор вышеназванного театра Жюль Кларети, с которым Ги завел речь об этом, вроде загорелся большим интересом; но стоило начаться переговорам, как новоиспеченный драматург заявил, что не допустит, чтобы его пьеса проходила через Комитет.[90]90
Нечто вроде привычного нам худсовета. (Прим. пер.)
[Закрыть] Уязвленный Жюль Кларети пытался его урезонить, напоминая ему, что даже самые маститые французские писатели, такие, как Гюго, Дюма, Бальзак, Жорж Санд и Альфред де Мюссе, сдавались на милость этой чистой формальности. Но Мопассан – усы трясутся, глаза искры мечут – заявляет сухим тоном: «Я намерен передать мою пьесу вам. Вы один будете судить о ней, вы один примете ее и вы ее разыграете!» Оставив Жюля Кларети в состоянии оцепенения, Мопассан покинул контору уверенным шагом конквистадора. Несколько дней спустя Эдмон де Гонкур заметил, что все тот же Мопассан публично ошельмовал последнюю пьесу Доде «L’Obstacle»[91]91
Пьеса в 4-х актах, поставленная в театре «Жимназ» 27 декабря 1890 г. (Прим. авт.)
[Закрыть] и что никто не мог рассчитывать на снисхождение или даже на простое понимание этого фанфарона от словесности: «Друзья Мопассана, как в тот момент казалось, пытались сыскать извинение неистовым разносам Мопассана, вспоминая о его недуге, – писал Гонкур. – Но ведь она давно у него, эта хворь! Прежде она была более нормандской, более притворной, более замкнутой; теперь же это – злоба в чистом виде, на каковую следует в ближайшее время надеть смирительную рубашку» (запись от 10 мая 1891 г.).
В голове Мопассана еще не стих шум рукоплесканий публики, осаждавшей театр, когда там шла «Мюзотта», а он уже думал о том, чтобы уехать из Парижа. Новый врач, д-р Дежерин – который, по мнению Мопассана, стоит много выше Шарко – заявил ему буквально следующее: «У вас были все признаки (accidents) того, что называется неврастенией… Это – умственное переутомление. Половина литераторов и биржевиков – ваши товарищи по несчастью. В общем, нервы, утомленные катаниями на лодке, затем интеллектуальной работой; от нервов и только от них ваша беда! Но ваше физическое состояние превосходно, и вы поправитесь, хотя и не все пойдет гладко». Вот так моментально удалось вселить в Мопассана уверенность. Доктор Дежерин посоветовал ему «гигиену, души, успокаивающий и теплый климат летом, основательный и продолжительный отдых в уединении» (письмо матери от 14 марта 1891 г.). Ему бы на юг, к теплу, да вот беда – жестоко разнылся зуб. Как он пишет матери, «теперешнее состояние левого глаза связано с состоянием корня нижнего зуба». Несколько позже он жалуется доктору Казалису: «Я в ужасном состоянии; болезнь глаз, мешающая мне пользоваться ими, и физическая боль от неизвестной, но невыносимой причины превращают меня в мученика… Мать пишет мне, что погода в Ницце ужасная. Я собираюсь остаться до четверга, но думаю, что ошибаюсь». В отчаянии он обращается за советом еще к одному врачу – доктору Мажито, члену Академии медицины, который категорически против удаления своему пациенту второго зуба и журит его с отеческою благожелательностью: «Вы ведете трудовую жизнь, которая убила бы десять обыкновенных человек… Вы опубликовали 27 томов за десять лет, и этот безумный труд пожрал ваше тело. Ныне это тело мстит, парализуя вашу мозговую деятельность. Вам нужен очень длительный и полный отдых, мосье…» Ги заговорил было с врачом о своей любви к мореплаваниям, но врач прервал его. «Яхта, – сказал он, – прекрасная игрушка для здорового молодца, любящего кататься по морю и катать своих друзей, но это отнюдь не место отдыха для человека, утомленного и телом, и духом, как вы. В хорошую погоду вы обречены на неподвижность под палящим солнцем на раскаленной палубе, подле слепящего глаза паруса. Во все прочие дни – под дождем, в маленьких портах – это и вовсе несносное жилище… Я очень хотел бы видеть вас в полном уединении, в очень здоровой местности – и чтобы ни о чем не думать, ничего не делать, и главное, не принимать никаких лекарств! Ничего, кроме холодной воды!» Поведав обо всем этом родительнице, Ги признается, что пребывает в полной нерешительности относительно того, где отдохнуть. «В любом случае я закажу для моей яхты очень плотный тент во всю длину палубы, который обеспечит мне маленькое, но прохладное убежище, как бы солнце ни пекло в портах».
Невзирая на предостережения доктора Мажито, юг так привлекал Мопассана, что он решил попытать счастья. «Мои зубы еще не до конца вылечены, но будут, – сообщает он матери 3 мая 1891 г. – Нарыв подсох и заживает. Я могу пускаться в путь». Тем не менее он не скрывает от матери своих прочих недугов: «У меня новый приступ инфлюэнцы. В первый раз она началась у меня с груди; потом я решил, что поправился. Но после этого она поразила мне носовую полость и гортань. Наконец, когда я стал думать, что она оставила меня в покое, она овладела моей головой и стала мучить мигренями, не пожалела ни глаза, ни память. Перемена климата, конечно, тут же исцелит меня, так как я ничуть не похудел (вовсе даже наоборот) и не ослаб, а только отупел. Знаешь ли ты, что в некоторых городах Северной Италии от этой хвори сейчас умирают от 50 до 60 человек?»
В Ницце, а затем в Каннах он распределяет свое время между трудом и навигацией. Он все мечтает о шестимесячном круизе на «Милом друге-II» вдоль африканских берегов. Вот только достанет ли у него сил для такого испытания? Нужно сперва закончить начатые рукописи. Но вдохновение подводит его. Перо запинается. Ныне он предпочитает диктовать свои хроники «Жиль Бласу». И заявляет: «Я решительно настроен более не писать ни рассказов, ни новелл. Это избито, изжито; это смехотворно, наконец! Я их и так слишком много настрочил. Я хочу работать только над моими романами». Но эти романы – «Чужеземная душа» и «Анжелюс» – никак не двигались с места. У Ги снова беда с глазами. «Стоит мне сосредоточить свой взгляд, сконцентрировать на чем-то внимание, попытаться читать или писать, как зрачки мои деформируются, расширяются, принимают невероятный вид, – признается он Эрмине Леконт де Нуи. – Вот уже три недели как мне запрещено делать что бы то ни было, даже написать коротенькую записку». Письмо другой корреспондентке, оставшейся анонимной, звучит как крик отчаяния: «Сейчас так жарко, ибо солнце заливает мне окна! Но почему же я теперь не наверху блаженства? Чтобы понять, в каком я состоянии, надо прислушаться к собачьему вою. Как бы мне самому хотелось исторгнуть из себя эту плачевную жалобу, не адресованную никому, не направленную никуда, не говорящую ничего – а просто бросающую в ночь крик сдавленной тоски! Если бы я мог стенать, как они, я бы уходил иногда – нет, пожалуй, часто! – в просторную долину или в глубь леса и там, во тьме, выл бы часы напролет. Мне кажется, я испытал бы от этого облегчение. Мой дух бродит по черным долинам, приводящим меня неведомо куда…Я выхожу из одной, чтобы войти в другую, и не предвижу того, что случится в конце последней. Боюсь, как бы усталость не привела меня как-нибудь впоследствии к решению не продолжать более этого бесполезного пути».
Изнуренный, впавший в уныние, Мопассан бежит от синего моря, южных пальм и солнца, чтобы вернуться вместе с Франсуа Тассаром в Париж. Турне по морям сменяется турне по врачам. Мопассан бегает от одного эскулапа к другому; изливая душу, смешивает подлинные, действительно терзающие его боли и выдуманные хворости, трактует противоречивые диагнозы светил как ему вздумается, да и вообще более не говорит ни о чем другом, как о своих болячках, о своих галлюцинациях. Он весь – как обнаженный нерв; подвинувшись рассудком, он представляет внутренности своего тела состоящими из труб, карманов и клапанов. Впрочем, несколько дней спустя ему представилось, что дело движется к поправке; доктор Гранше заверяет его, что единственный виновник всех его напастей – климат Ниццы: «У вас в Париже большая и здоровая квартира, в 10 минутах ходьбы от Булонского леса, а вас несет, в самый разгар лета, в город, задыхающийся от пыли, где улицы слепят глаза и некуда выбраться на природу. Вам нужно либо к зелени, либо к морю. Садитесь-ка на свою яхту – живо поправите здоровье. Но если вас потянет в Ниццу, живо опять сляжете, ибо ничего нет на свете более возбуждающего, чем воздух этого города в летнюю пору».
Повинуясь совету доктора Гранше, Мопассан прогуливается по Булонскому лесу, иные уголки которого, по его словам, очень уединенны и красивы. Он уже мечтает о новом круизе на яхте, как то, в противоположность доктору Мажито, советовал ему Гранше. Но облегчение оказалось кратким. Едва высохли чернила на письме Мопассана к матери, в котором он уверял ее, что чувствует «блаженное состояние возвращающегося здоровья», как к нему опять вернулись глазные боли, ночные кошмары и неврастения. Франсуа Тассар, который не отходил от него ни на шаг, обеспокоен настолько, что с этого времени опасается трагического конца своего патрона. Что станется с ним самим в случае внезапного ухода Мопассана из жизни? И Франсуа предусмотрительно испрашивает у Ги свидетельство.[92]92
В терминах наших дней: характеристику. (Прим. пер.)
[Закрыть] Поначалу удивившись, Ги догадывается об истинных мотивах просьбы, одарил грустной улыбкой своего наперсника с аккуратно причесанными бакенбардами и смиренным взглядом и начертал плохо слушавшейся его дрожащей рукою:
«Мой дорогой Франсуа, Вы просите у меня свидетельство, в котором я дал бы оценку Вашей службе на протяжении стольких лет, что Вы со мною. Я всегда видел Вас превосходным слугой – преданным, деятельным, умным, ловким, готовым отправиться в любое путешествие или к любому повороту новой жизни, исполнительным, державшимся самого исправного поведения, а также хорошим поваром. Надеюсь, что данная записка покажется Вам достаточной в качестве рекомендации.
Дано сие 18 мая 1891 года».
Глава 16
«L’Hallali»
С приближением лета Мопассан вновь охвачен манией скитаний и, как всегда сопровождаемый Франсуа Тассаром, устремляется в Тараскон, в Авиньон, в Ним, в Тулузу, в Дивонн-ле-Бен, в Сен-Рафаэль и, наконец, в Ниццу, где консультируется с несколькими врачами в надежде получить лучшее разъяснение своей хвори. Разочарованный путаными объяснениями эскулапов, он возвращается в Париж; но и там врачи Ланнелонг, Мажито и Террильон не могут рекомендовать ему ничего лучшего, как только отдых и гидротерапию. Доктор Гранше еще энергичнее, чем прежде, убеждал его ехать в Дивонн-ле-Бен. Поселившись на вилле в Везенексе близ горячих источников, он страдает от холода во время самого солнцепека, требует, чтобы служанка зажигала в его комнате по вечерам три люжины свечей, но, несмотря даже на такое освещение, страдает от пугающих его галлюцинаций. «Я в Дивонне, который вскоре покину из-за непрекращающихся гроз, ливней и сырости, – пишет он доктору Анри Казалису. – Я теряю остатки сил и не спал уже четыре месяца».
Несмотря на все свои недуги, он покупает трехколесный велосипед и отправляется в Фернэ, чтобы поклониться тени Вольтера. Но на обратном пути, почувствовав головокружение, он упал и повредил себе бок. Но словно и этого происшествия ему было недостаточно – его охватили такие мигрени, что приходилось выпивать до двух граммов антипирина в день. Правда, получше стало с челюстью: в Женеве он удалил себе больной зуб. «Тело окрепло, но голова болит как никогда прежде, – жалуется он доктору Казалису. – Бывают дни, когда в буквальном смысле слова руки чешутся засадить туда пулю. Читать не могу, любая буква, которую я пишу, причиняет мне боль. Господи, как я устал от жизни!»
…Погода портилась. Резкий ветер спускался с ледников. Мопассан уже задумался о том, чтобы покинуть южные края, когда к нему пришло письмо от Тэна, который рекомендовал ему другой курорт, соперничающий с Дивонном, – Шанпель, в 10 минутах от Женевы. «Он (Тэн) исцелился там в минувшем году в какие-нибудь сорок дней от болезни, вполне похожей на мою, – пишет Ги матери. – …Сейчас там поэт Доршен с теми же симптомами болезни, что у меня. К нему вернулся сон; пока – не более того, но, черт побери, это – все!» Окрыленный надеждой, Ги отправляется сперва в Женеву; проезжая этот город, он встречает там своего друга Анри Казалиса. В заботе о бодрости духа своего пациента милый доктор сделал комплимент его хорошей мине и даже воскликнул: «Vous êtes guerf!» (Вы исцелились!) и одобрил его проект прохождения курса лечения в Шанпеле, который, с его точки зрения, был куда здоровее Дивонна. «Для вас, – сказал он в заключение, – самое главное – вопрос климата, а вам потребны сушь и солнце. Потом – необходимо принимать душ, который вас уже преобразил; я в этом убедился, увидя вас». Между тем доктор тайком отправился к Огюсту Доршену и предостерег его насчет экстравагантностей Мопассана. «Я притащил его сюда, чтобы убедить в том, что у него, как и у вас, всего лишь неврастения, – признался он поэту. – Втолкуйте ему, что вы окрепли и лечение принесло значительное облегчение! К несчастью, у него совсем иная болезнь, и вы не замедлите в этом убедиться».
Но и в Шанпеле, едва прибыв, Мопассан жалуется на холод и сырость, требуя, чтобы его номер в отеле «Босежур» отапливался. Огюст Доршен, который знал Мопассана по Парижу еще с 1881 года, был поражен его перевозбужденным видом и сбивчивой речью. Видно, Мопассан спешил вывернуть наизнанку душу перед молодым собратом по перу и его благоверной. Он сразу же открыл перед ними пухлый портфель и объявил: «Вот первые 50 страниц моего романа „Анжелюс“. Вот уже год как я не могу написать больше ни одной. Если в три месяца книга не будет окончена, я покончу с собой». Потом он ничтоже сумняшеся заявил своему собеседнику, что убежал из Дивонна оттого, что воды озера вышли из берегов и затопили его виллу аж до второго этажа. На следующий день он сунул Доршену под нос свою прогулочную трость и заявил: «Вот этой тростью мне как-то случилось защищаться от трех сутенеров, нападавших на меня спереди, и от трех бешеных собак, нападавших сзади». Зонтик Мопассана, по словам владельца, тоже предмет, заслуживающий интереса: «Это не обычный зонт – такие продаются только в одной-единственной лавке в Фобур-Сент-Оноре; я там купил их свыше трех сотен для окружения принцессы Матильды». Сказать короче – плетет небылицы, порет чушь, сочиняет всякие сказки и при этом так хорохорится, что выведенный из себя Огюст Доршен клянет тот час, когда этот несносный сумасброд прибыл в тихий, мирный Шанпель.
Но вот Мопассан ненадолго отлучается в Женеву. Доршен получил пусть кратковременную, но передышку. По возвращении Ги отводит его в сторонку, подмигивает и шепчет на ухо, что в Женеве ему подфартило как никогда прежде: «О, какая была крохотная женщина! Вот такусенькая! А я был блистателен! Я исцелился!» И, заходя все дальше в самовосхвалении и гиперболах, заявляет о том, что, не удовлетворившись тем, что в два счета и три мгновенья ока завоевал расположение очаровательной гражданки Швейцарии, явился с визитом к самому барону Ротшильду, который якобы устроил ему пышный, почти что королевский прием. В другой раз, заманив поэта к себе в гостиничный номер, он показал ему множество флаконов, на которых разыгрывал «симфонии духов». Он также с большой лиричностью говорил ему о прелестях эфира: «Чувствуешь, как тело твое легчает, растворяется, и остается одна только душа, которая возносится».
С грустью смотрел Огюст Доршен на этого гениального писателя, который впал в такое состояние. Поэт пригласил Ги на обед в маленькое шале, где жил с супругой, и в этот вечер Мопассан показался ему вернувшимся к нормальному состоянию – в продолжение всей трапезы Ги выглядел пребывающим в здравом уме и даже красноречивым. Затем по просьбе гостей он прочел 50 первых страниц «Анжелюса» и рассказал, каким представлял себе продолжение. «На последних словах глаза его наполнились слезами, – заметил Огюст Доршен. – И мы тоже плакали при виде того, что еще оставалось от гения, от нежности и жалости, обитавших в его душе, которой никогда более не суждено будет достичь такого самовыражения, чтобы простереться и на другие души».
В этом романе, который останется незаконченным, Мопассан возвращается к некоторым своим любимым мотивам. Это – тема войны 1870 года, ужас и абсурдность которой он не в силах забыть; тема унижения женщины оккупантом-пруссаком и, наконец, тема бога-преступника. Эта последняя мысль, которую он уже выразил в «Бесполезной красоте», вдохновила его на торжественное проклятие, которое он бросает в лицо Создателю: «Извечный убийца, он, по-видимому, находит удовольствие в производстве людей, но лишь затем, чтобы утолить свою ненасытную страсть к уничтожению, к истреблению произведенных им существ. Вечный изготовитель трупов и поставщик для кладбищ, который забавляется, сея зерна и насаждая ростки жизни лишь затем, чтобы без конца утолять свою ненасытную страсть к разрушениям…»
Говоря о своем романе, едва намеченном в общих чертах, Ги заявляет матери: «Я шагаю по своему роману как по своей комнате, это мой шедевр!» Еще определеннее он высказался Тассару: «В моем „Анжелюсе“ я дам всю мощь экспрессии, на которую только способен. Все детали в нем будут выписаны с особым тщанием, однако это ничуть не будет утомительным для меня». Но он по-прежнему не отказывается и от идеи сочинить другой роман, название которому – «Чужеземная душа»; здесь он едва закончил первую главу. В облике героини этого романа, румынской графини Мосска, чувственной и полной тайн, возможно, отразился образ царицы «Маккавеевых пиров» – графини Потоцкой. Герой Робер Мариоль (Мопассан дал ему фамилию персонажа из «Нашего сердца», сменив только имя – Робер вместо Андре) предпочитает блондинок. «Они обладают грацией, которой нет у брюнеток, – говорит Робер. – У брюнеток суровый взгляд, они – настоящие вояки в любви! Взгляните хоть на эту. Истинная амазонка кокетства!» Вокруг графини Мосска роится «этот маленький аристократический народишко, не знающий границ, эта международная элита high life,[93]93
Шикарной жизни (англ.).
[Закрыть] которая всем знакома, которая узнается повсюду и которая сыщется повсюду». В ходе повествования он старается доказать невозможность полного слияния двух существ противоположного пола, настаивая, что эта дисгармония усиливается, когда к этому добавляется расовая антиномия. Но достанет ли ему времени и энергии довести до финала эти два произведения, которые кажутся ему важнейшими? Сомнительно… И эта неуверенность бесит его все больше и больше; гневные вспышки Мопассана за табльдотом шокируют гостей заведения. Он устраивает разнос врачу, отвечавшему за гидротерапию, за то, что тот отказался прописать ему ледяной душ Шарко, «струя которого сбила бы с ног бычка» и который могли бы выдержать только добрые молодцы вроде него. Сознавая в полной мере, что одиозен для своего окружения, Мопассан тем не менее упорствует в своих требованиях и бахвальствах. Он чувствует, что стал карикатурой на самого себя. Порою эта неумолимая деформация пугает его. Он задает себе вопрос, не расплата ли все это за безумства юных лет, за то, что подвергал свое здоровье всем и всяческим испытаниям, за успехи у женщин, большие тиражи и за былой дерзкий смех.
Врачи Шанпеля, которым порядком поднадоели постоянные придирки, дали Мопассану понять, что продолжение пребывания на курорте ему ничем не поможет. Франсуа Тассар тут же занялся паковкой чемоданов. Нанеся визит Казалису в Экс-ле-Бен, Мопассан прибывает к концу сентября в Канны, где пытается забыть тоску и разочарования, проносясь вдоль побережья на «Милом друге-II». Но солнце и море утомляют его. Быстро в Париж!
Едва возвратившись со своим верным Франсуа в квартиру на рю дю Боккадор, он решается броситься со всего маху в светскую жизнь, чтобы развлечься. Но от завсегдатаев салонов не укрылись ненормальности его поведения. «Похоже, Мопассана захлестывает мания величия», – замечает Эдмон де Гонкур. И утверждает, что его несчастный собрат повсюду рассказывает о том, как он нанес визит на Средиземноморскую эскадру, в ходе которого адмирал Дюперре отдал приказ салютовать в его честь многочисленными залпами из пушек. Но адмирал Дюперре категорически отрицал, что вообще когда-либо встречался с Мопассаном. Что касается собратьев Мопассана по перу, то они либо жалели его, либо насмехались. Но Мопассан продолжал пыжиться, надуваясь спесью и самодовольством. По-видимому, он искренне верил в то, что окружающие его люди – сами сумасброды. Сон и реальность смешивались у него в голове все больше и больше.
17 октября в 11 часов вечера Мопассан рухнул на землю из-за некоей, как выразился Франсуа Тассар, «невыразимой» болезни. Однако быстро пришел в себя и созвал докторов, которые настоятельно посоветовали ему отправиться на отдых в Канны. Он обещал послушаться. Все привлекало его на юге – море, солнце и, конечно, женщины. Как раз в эти дни ему написала жившая с семьей в Симиэзе[94]94
Не следует смешивать с созвучным названием крымского курорта – Симеиза. (Прим. пер.)
[Закрыть] близ Ниццы русская девушка, мадемуазель Богданова, чтобы выразить свое восхищение. Вот это да! Значит, он еще способен восхищать незнакомок на расстоянии одною лишь силой своего таланта! Польщенный, он ответил девушке, как за семь лет до того ответил другой русской прелестнице – Марии Башкирцевой: «Мадемуазель! Мне будет очень легко утолить ваше любопытство, сообщив все те подробности, о которых вы меня спрашиваете. Ваше письмо так занимательно и оригинально, что я не устоял перед наслаждением ответить на него. Вот прежде всего мой портрет, снятый в прошлом году в Ницце. Мне 41 год, и, как видите, разница между нами большая, поскольку вы сообщили мне свой возраст…Через восемь дней я вернусь в Канны, где проведу зиму. Я буду жить в „Шале д’Изер“, по дороге на Грасс. Моя яхта ждет меня в Антибе. Склоняюсь к вашим ногам, мадемуазель, – чувства мои заинтригованы и искушены».
Но донселья вообразила, что, сообщая ей свой адрес, он хочет пригласить ее на галантное рандеву. Она дала понять, что оскорблена. Мопассан ответил ей: «Помилуйте, на каком таком основании я мог бы счесть вас не комильфотной девушкой? Я ничего не знаю о вас. Я решил только, что вы – молодая особа, которой хотелось немного поразвлечься на мои средства, вот и все. Что касается моей фотографии, то, поскольку я разрешаю выставлять их в витринах и продавать, я послал вам ее точно так же, как стольким другим, неизвестным мне людям». Такого учтивого ответа, пожалуй, было бы достаточно; но Мопассана охватил зуд эпистолярного трепа. Он снова с наслаждением пустился расписывать перед совершенно незнакомой корреспонденткой особенности своего характера: «Я стараюсь выражаться как можно яснее по всем пунктам, чтобы не выглядеть угрюмым ворчуном. Я – не от мира сего. Мне даже кажется, что нет такого человека, который был бы еще более не от мира сего, чем я. Но прежде всего я – наблюдатель. Рассматриваю то, что меня забавляет. Все то, что кажется мне незначительным, я вежливо отстраняю от себя. Не правда ли, вполне нормальное и учтивое поведение? Не сердитесь же, мадемуазель».
Тем не менее адресатка сего послания оставалась по-прежнему неудовлетворенной его объяснениями. Она требует, чтобы Ги ответил пункт за пунктом на ее вопросы, размещенные в виде анкеты, которая произвела шок в салонах. В ответ разозлившийся Мопассан шлет из «Шале д’Изер», куда он перебрался с Франсуа Тассаром, письмо, в котором извещает нахалку, что их переписка что-то слишком затянулась: «Это письмо – последнее, что вы от меня получаете. Я вижу, что нас разделяет целый мир и что вам абсолютно нет дела до того, чем является человек, занятый исключительно своим ремеслом и современной наукой и полностью пренебрегающий всею житейской суетою.
Вопросы из альбома кисейной дамочки, которые вы мне задаете, явились для меня потрясающим откровением.
Свою жизнь я держу в такой тайне, что никто ее не знает. Я – скептик, отшельник и вообще дикарь. Я работаю – и этим все сказано, и ради уединения веду по целым месяцам скитальческий образ жизни, так что только одна мама родная знает, где я нахожусь… Я слыву в Париже человеком загадочным, неведомым, я связан только с несколькими учеными, ибо я обожаю науку, и с несколькими художниками, которыми восхищаюсь; я – друг нескольких женщин, может быть, самых умных, какие только есть на свете…» Водя пером по бумаге, Мопассан упивается своею оригинальностью и своим величием. Хоть он и презирает эту вертихвостку, которая имеет наглость посягать на его уединение, но все же расписывает ей еще кое-какие подробности о себе: «Я порвал со всеми литераторами, которые шпионят за вами, чтобы накропать роман. Я на порог не пускаю журналистов и вообще запретил писать о себе. Все статьи обо мне – сплошная ложь. Я разрешаю говорить только о своих книгах. Я дважды отказался от ордена Почетного легиона, а в прошлом году – от избрания меня в Академию, чтобы остаться свободным от всяких пут, от любой необходимости быть кому-то признательным, чтобы с этим миром меня не связывало ничто, кроме работы». Поскольку коварная мадемуазель Богданова не преминула напомнить, что с Марией Башкирцевой он был куда снисходительнее, он настаивал, что всякий раз отказывался встречаться с нею: «Я уехал в Африку, написав ей, что с меня довольно этой переписки». И с гордостью заключил: «Я почти всегда живу на своей яхте, чтобы ни с кем не общаться. Я наведываюсь в Париж только затем, чтобы наблюдать за жизнью других и собирать нужные мне документы… Если я послал вам свою фотографию, то лишь потому, что меня засыпают просьбами о них… А чтобы самому показаться – никогда! Я исчезну вновь на шесть месяцев, чтобы освободиться от всех на свете. Как видите, мы совсем не сходимся характерами» (письмо от 10 ноября 1891 г.).
Только Мопассан сквитался с этой настырной девой, как образовался новый фронт: ему пришлось защищать свои интересы перед нью-йоркской газетой «Этуаль».[95]95
Так у Труайя; по-видимому, все-таки «Стар». (Прим. пер.)
[Закрыть] Редактор вышеупомянутого листка опубликовал на английском языке роман, источником которого послужила новелла Мопассана «Завещание». Исполненный наглости, он еще и подписал его именем Мопассана. Это был грабеж средь бела дня, чистой воды плагиат. Нет, не защитить виновников заокеанским крючкотворам! Ги поручил вести дело своему поверенному, мосье Жакобу, и своему адвокату, мосье Эмилю Стро. Но что более всего раздражало его, так это то, что руководство газеты «Этуаль» представило его как писателя «малоизвестного и плохо оплачиваемого»! Задетый за живое, он пишет мосье Жакобу, перечисляя все свои «боевые заслуги». Вот какие регалии цепляет он себе на грудь: «Ведь это именно я снова привнес во Францию алчный вкус к рассказу и новелле. Мои книги переводятся во всем мире, продаются в огромном количестве экземпляров и оплачиваются по самым высоким расценкам, каких еще не было во французских газетах, где мне платят по одному франку за строчку романа и 500 франков за один рассказ, идущий за моей подписью. Мои книги выдержали огромное количество изданий, впереди идут только произведения Золя. Я вам пошлю через несколько дней почти полный список этих изданий, а также статьи о себе». И, опасаясь, как бы мосье Жакоб не преуменьшил из-за робости или по оплошности литературной и коммерческой ценности своего клиента, он даже приложил к письму собственноручно начертанную справку, которая должна была фигурировать в качестве одного из важнейших документов досье: «Ги де Мопассан является первым французским писателем, который возродил национальный вкус к рассказу и новелле. Он опубликовал, сначала в периодической печати, затем в сборниках, все свои рассказы, составившие собрание в 21 том, проданный в среднем в количестве 13 000 экземпляров каждый; в подтверждение прилагаются квартальные отчеты издателей. Эти рассказы оплачивались ему в газетах и издательствах по наивысшим во Франции расценкам» (письмо от 5 декабря 1891 г.).
После изнурительной переписки Мопассан капитулировал перед сложностями и дороговизной ведения процесса за океаном. Перо в его руках дрожит все больше; иные слова с трудом можно разобрать; другие пестрят орфографическими ошибками. Одну из записок к своему поверенному он завершает оборванною на полуслове фразой: «Жму вам сердечно…» Но тут же требует от издателя Авара под угрозой судебного процесса, чтобы у него на складе находился запас из не менее чем 500 экземпляров «Заведения Телье». Он даже нанял судебного исполнителя, чтобы констатировал на месте отсутствие означенной книги на складе. Бедняга уже давно ничего не творит, но постоянно воображает, что в его мозгу зреет великий шедевр.
Невероятно, но ему хорошо в «Шале д’Изер»,[96]96
Находится по адресу: авеню де Грасс, 42. (Прим. авт.)
[Закрыть] фасад которого заливали лучи солнца. Из окон открывался вид на море и на мыс Эстерель. Температура была подходящей. «Это – моя грелка», – говорил он об этом доме. Франсуа Тассар уже начал верить, что в ходе болезни его господина наступила ремиссия. Но больше всего Франсуа боялся женского нашествия к своему патрону. И то сказать – мадамы и мамзели не думали разоружаться, а он – истасканный Дон Жуан, задыхающийся и одержимый манией – по-прежнему распинался перед этими соблазнительницами. Ту из них, которая была предметом наибольшего беспокойства бравого камердинера, последний не называет в своих «Воспоминаниях» по имени, упоминая о ней только как о «даме в сером». «Хоть она и чересчур надушена, – пишет Франсуа, – в ней нет ничего от „профессионалки“; тем более не принадлежит она и к тому изысканному обществу, которое посещает мой господин и где над ним смеются. Это – представительница буржуазии самого высшего шика; она совершенно в жанре тех гранд-дам, которые воспитывались в пансионах то ли Уазо, то ли Сакре-Кёр… Она несказанной красоты и носит с высшим шиком костюмы, сшитые на заказ, неизменно серые с жемчужным оттенком либо с оттенком золы, стиснутые на талии поясом, сотканным из настоящей золотой пряжи. Шляпы у нее совсем простые и всегда подобраны к платью, а под рукою она носит небольшую пелерину на случай дождя или сомнительной погоды».