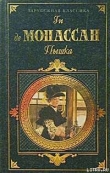Текст книги "Ги де Мопассан"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Вдохновленный Шопенгауэром, Ги решил, что, выпустив в свет «Бесполезную красоту», сквитал свои счеты с миром таким, как есть. Но в действительности этот гимн женщине стерильной, никогда не болеющей и всегда доступной как объект наслаждения, обожания и ласк, суть не что иное, как отзвук отроческих бунтов против общества, в котором, как он опасался, ему не найдется места. Разнузданному жизнелюбу сорока лет от роду еще порою грезятся нематериальные любови; хвастаясь своими эротическими подвигами, он лелеет голубой цветок юношеских иллюзий. Единственная женщина, с которой он разделил бы свое существование, – это его мать. Она служит более или менее веским оправданием тому, что он избегает продолжительных связей. Все, что ему известно о будничной интимной жизни человеческой пары, он наблюдает у других. Невзирая на годы и встречи, он так и не достиг зрелого возраста. Он это знает и превозносит это. «Помните меня? – пишет он Женевьеве Стро. – В Париже в минувшем году был такой мужчина… с немного тяжелым, немного суровым взглядом пехотного капитана, порою ворчливый. Этот мужчина, который был всего лишь торговцем прозою, испарился к осени, и никто толком не знает, что он делает» (1889 г.).
Занимаясь подготовкой публикации сборника новелл под общим заглавием «Бесполезная красота» и своего нового романа «Наше сердце», «торговец прозой» решил в очередной раз сменить квартиру. Он нанял таковую в доме под номером 24 по улице Боккадор и, едва договор о найме был заключен, шлет письмо матери: «Моя новая квартира будет очень красива, одно нехорошо: туалетная комната слишком мала и плохо расположена. Я вынужден был предоставить Франсуа большую красивую комнату, которая пригодилась бы мне в качестве туалетной, чтобы ночью он был со мною рядом. Дело в том, что при бессонницах, сопровождаемых кошмарами, мне прописаны сухие банки вдоль позвоночника. Это меня мгновенно успокаивает и столь легко переносится, что может быть повторено и на следующий день. На самом деле у меня нормандский ревматизм, и притом с такими осложнениями, что парализует все функции моего организма. Механизм работы моего глаза следует за состоянием моего желудка и моего кишечника».
Единственным средством от этих недугов, приводивших в смущение медицинских светил, был курс лечения в Пломбьере. Ги согласился, но ему нужно было вернуться в Париж к началу продажи «Нашего сердца». «О моем романе „Ревю де Де Монд“ отзывается как об удаче, – пишет Ги все в том же письме. – Он поражает новизной жанра и обещает много хорошего…Люди в моем положении теряют все, если не живут в Париже, ибо тут все делается путем непрестанных ухищрений, а малейший перерыв сводит все на нет» (письмо 20 мая 1890 г.). А ведь это тот самый писатель, который гордо заявлял Жюлю Кларети: «Я никогда не женюсь. Я никогда не буду награжден. Я никогда не буду кандидатом в Академию. Я никогда не буду писать в „Ревю де Де Монд“»! Означенный журнал, который Мопассан доселе считал душной прихожей Академии, отныне казался ему не столь отталкивающим. Фигурировать в числе его авторов означало заслужить благосклонность изысканной публики. Мало-помалу грубый живописатель нормандского пейзанства превратился в психолога салонов. Ныне он не производит вивисекцию душ праздного и упадочного общества.
Герой «Нашего сердца» Андре Мариоль, 37-летний холостяк, оказывается буквально во власти чар прекрасной вдовы Мишель де Бюрн, окруженной целым сонмом поклонников. Единственное наслаждение сего исключительного создания – коллекционировать знаки мужского обожания и властвовать над воздыхателями при помощи чередования ласки и жестокости, обещаний и отказов. Эта фатальная до кончиков ногтей женщина – сущая Цирцея конца XIX столетия. Понимая, что она в конце концов разорит его, Андре Мариоль избегает ее и пытается забыть о ней в объятьях своей весьма аппетитной молоденькой горничной по имени Элизабет. «Она – женщина, – говорил себе Андре. – Все женщины одинаковы, когда нравятся нам. Я превратил свою горничную в свою любовницу. Она красива и, может быть, сделается очаровательной. Она, во всяком случае, моложе и свежее, чем светские дамы и кокотки». Но Мишель де Бюрн слишком большая кокетка, чтобы примириться с дезертирством одного из своих преданных рыцарей. Она приглашает Андре к себе в Париж. Мариоль повинуется, но берет с собою хорошенькую Элизабет. Эта последняя думает, что потеряла его, но хочет быть причастной к этой слабой иллюзии счастья. Уточнять, чем дело кончилось, Мопассан не пожелал. Ну, не прекрасная ли романтическая иллюстрация положения одного из его последних писем к Женевьеве Стро, что человеку мыслящему невозможно удовлетвориться любовницей ниже себя по положению?
Роман «Наше сердце» – светский, чопорный, напыщенный – вызвал неистовое любопытство всего парижского общества. Все в едином порыве ударились в поиски источника вдохновения образа Мишель де Бюрн – сей ненасытной пожирательницы мужских сердец. Одни, как, например, художник Жак-Эмиль Бланш, видели в ней портрет Эммануэлы Потоцкой. Ледяной кумир, патронесса, абсурдная царица «Маккавеевых пиров» – в самом деле, чем не Мишель? Другие клялись и божились, что, сочиняя портрет своей героини, Мопассан имел в виду Мари Канн. Рассказывали, что она порвала с Полем Бурже именно для того, чтобы отдаться Мопассану, и что ее любовные требования повергали сочинителя на колени – и это при всей его экстраординарной способности быстро восстанавливать силы! Со своей стороны, Эрмина Леконт де Нуи утверждает, что узнала себя в Мишель де Бюрн. Ее книга «Любовная дружба» явилась элегантным эхом «Нашего сердца». Кстати, и внешне Эрмина напоминала словесный портрет Мишель: «Природная и умело подчеркнутая красота этой стройной, изящной белокурой женщины, казавшейся одновременно и полной, и хрупкой, с прекрасными руками, созданными для объятий и ласк…».[86]86
А вот как развивает эту тему А. Лану:
«Существовал ли прототип Мишель де Бюрн? Прежде всего настораживает разительное сходство между романом, пережитым художником Жак-Эмилем Бланшем, который был влюблен в Потоцкую, и романом, написанным Ги де Мопассаном. Сам Жак-Эмиль Бланш приложил все усилия к тому, чтобы книга об этой несчастной страсти – „Эймерис“, вышедшая в 1922 году, выглядела скорее автобиографией, чем романом: „Часть романа, названная мною „Лючия“, – это и есть рассказ о графине Эммануэле Потоцкой“.
Незадолго до того, как Мопассан приступил к работе над романом „Наше сердце“, он снова встретился с Мари Канн, за которой давно уже ухаживал.
По версии приятельниц Мари Канн, Мишель де Бюрн – это сама Мари. В действительности Мишель де Бюрн из романа был свойствен „ледяной огонь“, характерный для Потоцкой. Мари Канн пылала другим огнем – не столь ледяным и ослепительным; как только она оставила Поля Бурже, то не замедлила доказать Ги свое любовное расположение, весьма, к слову сказать, утомительное. Мишель – это психологический слепок с Эммануэлы; ей льстит, что мужчины ходят за ней стадом зачарованных боровов. С другой стороны, Мишель – это и Мари Канн, с ее несравненной светскостью и главным образом с ее нежеланием скрывать свою связь с Мопассаном. Но какова же внешность этой прелестной Мишель? Фотографии и портреты Эммануэлы и Мари не имеют ничего общего с внешностью возлюбленной Мариоля.
Объяснение этому весьма простое. Если Эрмина Леконт де Нуи, узнав себя в Мишель, решила в ответ на „Наше сердце“ написать „Любовную дружбу“, то, значит, у нее были на то веские основания. Ее холодность напоминала холодность героини, да и внешне она очень похожа на Мишель».
Лану А. Цит. соч. С. 308–309.
[Закрыть] Сам Эдмон де Гонкур и тот не удержался от соблазна попытаться разгадать тайну и пишет об этом в своем дневнике 5 июля 1890 года.
Мопассан только посмеивался над всеми этими вычислениями и наотрез отказывался дать однозначный ответ на вопрос, кто же скрывается под личиною коварной Мишель де Бюрн. Не стоит сомневаться, что он соединил в этом персонаже чары и козни многих особей женского пола, которые оставили след в его жизни. От Эммануэлы Потоцкой к Женевьеве Стро, не обходя стороною Мари и Канн, Эрмину Леконт де Нуи и еще нескольких других, каждая из которых была близкою подругой Ги, – все они завлекали его своими чарами, а потом аккуратненько отваживали, и все они соединились в этом символическом образе. В глазах Мопассана этот образ воплощает в себе вечный капкан женственности, которая притягивает, точно водоворот, и, точно водоворот, затягивает всех, кто уступает головокружительному соблазну.
Многочисленные читательницы были польщены тем, какою почти сверхъестественною силой Мопассан наделяет слабый пол. Писатель точно рассчитал удар. Благодаря сюжету, которого он коснулся на страницах «Ревю де Де Монд», он получил возможность двинуться на завоевание завидного рынка высшего парижского общества. Вслед за молниеносной карьерой сурового, коренастого и приземистого писателя он пустился охотиться на исключительных угодьях Поля Бурже. Вот только не совершил ли он коммерческую ошибку, тиснув роман сперва на страницах журнала? О своих беспокойствах по этому поводу он поведал матери: «Публикация в „Ревю“ все же наносит ущерб продаже. Крупные парижские книготорговцы говорят мне, что шестеро из десяти верных мне покупателей, прочитав роман в „Ревю“, не покупают книгу. И еще вот какая несуразица. Весь шум – а он был значительный! – поднялся в момент появления романа на страницах „Ревю де Де Монд“, а когда вышло отдельное издание, о нем уже перестали говорить. Несмотря на это, продажа идет, хотя и медленно, и все же я думаю, что она превзойдет продажу книги „Сильна как смерть“, которая разошлась в количестве 32 тысяч. И все-таки, в принципе, я считаю – прекрасно, что „Наше сердце“ появилось на страницах „Ревю“. Теперь меня знает особая публика, читающая этот журнал, а позже и покупать будут. Я завоевал себе, таким образом, читателей» (июль 1890 г.). Прошло несколько дней, и он вновь возвращается к будоражащим его материальным вопросам: «Продажа почти не идет, несмотря на крупный успех этой книги, – пишет Ги матери. – Дело в том, что публикация в „Ревю де Де Монд“ отняла у меня таких покупателей, как весь парижский свет, а во всех городах провинции – чиновничий мир, мир профессуры и магистратов. По мнению Оллендорфа и комиссионеров-книготорговцев, это соответствует как минимум 25–30 тысячам покупателей. Правда, это имело и свои положительные результаты, как то: проникновение книги в различные слои общества. Но все-таки это потеря» (письмо от 5 августа 1890 г.).
Упущенная выгода от продаж, однако, компенсировалась существенными правами, предоставленными автору «Ревю де Де Монд». По его мнению, в конечном счете он провернул неплохую операцию, как с художественной, так и с финансовой точки зрения. Кроме того, отзывы прессы никогда еще не были такими теплыми. Журналисты видели в этом романе исследование любовных нравов современности, проведенное с удивительной психологической остротой. «Тончайший и продуманнейший психологический этюд!» – утверждает Поль Гинисти из «Жиль Бласа». Андре Алле[87]87
Пишется: Hallays. (Прим. пер.)
[Закрыть] на страницах «Журналь де Деба» выражает восторг по поводу человеческой правды, воплощенной в двух героях: «Мне думается, что меосье Мопассан никогда еще не создавал столь живых и человеческих персонажей!» Ну, а если верить «Синему журналу», Мопассан никогда еще не выказывал себя таким крупным писателем, как в «Нашем сердце». Те представители крупной буржуазии, которые кривили рот при упоминании имени писателя, который ярко живописал те среды, где лучше бы не появляться, теперь венчали его венками, ибо ныне язык писателя сделался вполне высокопробным. Мопассан становится для них своим человеком! Его можно без стыда принимать у себя в библиотеке. Сам Анатоль Франс горячо приветствовал эту благотворную перемену и выступил в газете «Тан» со следующим заявлением: «Мосье де Мопассан проницателен в своей простоте. Его новый роман хочет явить нам мужчину и женщину в году 1890-м, живописать нам любовь – древнюю любовь, первородное дитя богов – в образе нашего времени и в ее последней метаморфозе… У него такая сила таланта, такая уверенность руки и такая искренность, что нам следует предоставить ему говорить и делать то, что ему хочется».
Нужно ли говорить, как льстил Мопассану этот сияющий успех, каковым он, как считал сам, был обязан в первую очередь доскональному знанию женской природы. Возвращаясь к минувшему, он гордился перечнем своих побед. Предпочтение Мопассан всегда отдавал блондинкам; у большей части его героинь волосы отсвечивали золотом. Впрочем, Ги вспоминает и о рыжеволосой красавице, которую он завлек к себе на ночь после бала и которая хотела пробыть у него в комнате несколько дней, так что писатель даже крикнул Франсуа Тассару: «Я ее больше не желаю, выкиньте-ка ее прочь!» Была еще некая отвергнутая им молодая особа, которая, не застав Мопассана дома, оставила у него на столе записку с единственным словом: «Cochon!» И еще одна, которая преследовала его, зажав в кулаке револьвер; и прекрасная фламандка, которую он привез в Хэмпшир и которая обладала такой роскошной грудью; а там еще батрачки, официантки, колеблющиеся вдовушки, неутоленные жены, арабки, негритянки, обитательницы борделей и зрелые представительницы буржуазного сословия… На вершине сей толпы нежных созданий с оголенными ляжками ныне находились дамы света в своем мишурном ореоле. Ги торжествовал: он чувствовал, что завоевал их душу, а это куда ценнее, чем победа над телом! «Наше сердце» – почтительная дань их превосходству. Чем больше говорят об этом романе, чем больше ищут ключи к нему, тем больше он убеждал себя, что совершил благую эволюцию, сблизившись с прелестными созданьями, населявшими долину Монсо и Фобур-Сен-Жермен.
Тем не менее, вложив в эту книгу столько собственной души и столько душ своих приятельниц, он не терпел малейшей небрежности в том, что затрагивало его приватную жизнь. Сама мысль о том, что владелец книжного магазина собирается поместить в витрине его фотографический портрет, привела его в неукротимое бешенство. Точно так же, узнав о том, что по заказу Шарпантье гравер Дюмулен исполнил, не предупредив его, портрет для воспроизведения в «Вечерах в Медане», он пришел в ярость и тут же, не сойдя с места, сел строчить письмо своему адвокату мосье Жакобу: «Так как я запретил продажу своих фотографий, равно как и любых других портретов, мосье Дюмулен мог разжиться моей карточкой, только позаимствовав из альбома кого-то из моих друзей. Я сейчас же отправился к издателю Шарпантье на рю Гренель, 11…Я выразил яростный протест и заявил, что дойду до суда, если мое изображение не будет изъято из книги, которую уже начали рассылать…Кто дал право изготовлять, выставлять и продавать портрет кого бы то ни было, сделанный без его ведома и вопреки его желанию?» Одновременно он обрушивает громы и молнии на несчастного Шарпантье: «Я отказал в этом разрешении гг. Надару, Авару, Полю Марсану, приходившему от „Монд иллюстре“. Я отказал в этом десятку газет, „Иллюстрасьон“ и др…Вот чего я требую: вы должны сообщить мне точную цифру нового тиража „Вечеров в Медане“, чтобы я смог сопоставить количество существующих портретов с количеством уничтоженных. Эти офорты должны быть изъяты из всех экземпляров, находящихся у вас на складе. После означенной операции эти экземпляры должны быть обменены на те, что вы уже сдали в книжные магазины. И с этими томами надлежит поступить сходным образом. Все изъятые офорты должны быть переданы либо мне, либо мосье Жакобу по адресу: Фобур-Монмартр, 4, для обеспечения контроля. Если такой порядок действий для вас неприемлем, то я нынче же обращаюсь в судебные инстанции». Досталось и граверу Дюмулену, чей образ действий Мопассан нашел «необъяснимым и не поддающимся определению» (inqualifiable), и тоже грозился действовать против него силою закона. Но все художники как будто сговорились – вот и Анри Туссен обращается к Мопассану с просьбой оказать ему честь и разрешить написать его портрет. Ги отвечает в раздражении: «К моему большому сожалению, я не могу дать вам испрашиваемое вами разрешение, ибо я в этом уже отказывал много раз. Я уже давно решил запретить публиковать как мой портрет, так и биографические сведения, считая, что частная жизнь человека, равно как и его лицо, не могут принадлежать публике» (письмо от 17 марта 1890 г.).
Напрашивается вопрос: а не является ли столь глубокое отвращение Мопассана к тому, чтобы его изображение сделалось достоянием любопытства публики, еще и глухим опасением раздвоения своей личности, триумфа Орля, который, обретя его черты, разлетится по свету? Впрочем, вскоре Ги меняет свое мнение на этот счет и уступает аргументам своего адвоката Эмиля Стро. «Действуйте по своему усмотрению, – пишет ему Ги в конфиденциальном письме, – но, если сочтете дело сомнительным, оставьте его, ибо оно вскоре сделается досадно-скучным».
Пройдет еще несколько месяцев, и он, вне всякой логической последовательности, снизойдет до того, что милостиво разрешит великому Надару то, в чем отказывал другим фотомастерам: «Итак, я дозволяю вам продавать маршанам[88]88
Маршан – во французском языке вообще купец, торговец; в русском языке закрепилось в значении: торговец картинами и т. п. (Прим. пер.)
[Закрыть] и публике мои фотографии, – заявляет ему Ги. – А то я получаю столько писем от людей, кои у меня их требуют, не найдя нигде в продаже, прямо кошмар! Если я впоследствии позволю сделать свои снимки другим фотографам, то я не обещаю вам эксклюзивного права на их продажу, но, тем более, не сделаю никому поблажки вам в ущерб» (письмо от 21 февраля 1891 г.). Вспоминает ли он о том, что хотел устроить судебный процесс против Шарпантье? Подобные колебания настроения поражали всех его друзей. Тем не менее оставался принцип, от которого он не отступал: неприкосновенность интимной жизни писателя. Жаждая публичности и обожая светские сборища, он тем не менее предпочитал держать свою личную жизнь скрытой от посторонних глаз. Это противоречие между выставлением напоказ собственного поведения и требованием сдержанности от своего окружения ничуть не смущало его. Как раз после истории с портретом он пишет об этом неизвестной корреспондентке:
«Я не понимаю, что такое физический стыд, но у меня преувеличенная стыдливость в отношении своих чувств, такая стыдливость, что меня волнует малейшее поползновение узнать о моих интимных переживаниях.
И если я когда-нибудь стану достаточно известным, для того чтобы любопытное потомство заинтересовалось тайной моей жизни, то одна мысль о том, что тень, в которой я держу свое сердце, будет освещена печатными сообщениями, разоблачениями, ссылками, разъяснениями, порождает во мне невыразимую тоску и непреодолимый гнев. Мысль, что станут говорить о Ней и обо мне, что люди будут судить Ее, женщины делать свои замечания, журналисты проводить дискуссии, что будут оспаривать, анализировать мои чувства, что снимут штаны с моей благоговейной нежности (простите это ужасное выражение, но оно мне кажется уместным), эта мысль повергает меня в яростное бешенство и глубокую печаль».
И уточняет в письме к другой анонимной корреспондентке:
«Я склонен думать, что у меня бедное, гордое и стыдливое человеческое сердце, то старое человеческое сердце, над которым смеются, а оно волнуется и заставляет страдать. А в мозгу у меня душа латинского народа, очень усталая. Бывают дни, когда я так не думаю, но и тогда я страдаю, потому что я из числа людей, у которых содрана кожа и нервы обнажены. Но я об этом не говорю, этого не показываю и даже думаю, что очень хорошо умею скрывать. Меня, без сомнения, считают одним из наиболее равнодушных людей на свете. Я же скептик, что не одно и то же, скептик, потому что у меня хорошие глаза. Мои глаза говорят сердцу: спрячься, старое, ты смешно! И сердце прячется».
Как раз в то время, когда Ги находился на вершине мытарств и смятений, Александр Дюма-сын пригласил его на обед у Дюрана, на площади Мадлен, рассчитывая прельстить перспективой избрания во Французскую Академию. Мопассан ответил с негодованием: «Я ни за что не соглашусь войти в состав компании, членом которой не был мой великий друг и учитель Гюстав Флобер».
Измученный шумом и гамом Парижа вкупе с донимавшими его мигренями, Ги ищет отдохновения в Экс-ле-Бен, потом – в Пломбьере и, наконец, в Жерердмере, где он встретился с Мари Канн. Пейзаж Вогезов, озаренный присутствием Мари, чаровал и успокаивал его. Он обожал эти зеленые склоны, эти подернутые дымкой горы, эту таинственную гладь озер, в которых отражались сосновые и буковые леса. «По всем склонам текут бесчисленные источники, потоки, ручьи… Словом, вода, вода и еще раз – вода, и она бежит, ниспадает, струится, журчит; каскады, реки под травой, реки подо мхами, самыми красивыми из всех, какие я только видел; повсюду вода, повсюду холодная, пронизывающая, легкая влажность от резкого воздуха этой возвышенной местности», – пишет он матери. Впрочем, вскоре он застучит зубами от холода: его замучает ревматизм, и улыбки Мари Канн уже не смогут отогреть его. Стоит ли строить куры женщине, когда все ваше тело – одна зияющая рана?
Ги надеется исцелиться в Этрета, но и в «Ла-Гийетт» холодно, как в ледяной пещере. Сидя перед камином, он предается отчаянию. «Меня снова одолели мигрень, слабость и нервное раздражение, – пишет он матери. – Стоит мне написать десять строк, как я уже вовсе не сознаю, что делаю; мысль утекает, как вода сквозь шумовку. Ветер здесь не прекращается, так что постоянно приходится поддерживать огонь». Иззябший, раздраженный, он даже подумывает о продаже этого дома, в постройку которого вложил столько любви. Дом, который так соблазнял его в молодые годы, теперь лежал на его плечах, точно бесполезный груз. Может, ему станет легче и он ощутит себя более свободным, когда порвет последние связи с прошлым?
Как бы там ни было, ему необходимо такое лекарство, как солнце. Известив своих верных морских волков Раймона и Бернара, он отправляется в Канны; один только вид «Милого друга-II» утешил его. Эта обычная в общем-то яхта казалась ему самой красивой из всей каннской флотилии. Вот какие исполненные лиризма строки посвящены этой «большой белой птице»: «Ее паруса из тонкого нового полотна бросали под августовским солнцем огненные блики на воду; они были похожи на серебряные шелковистые крылья, распустившиеся в бездонной голубизне неба. Три ее фока улетают вперед – легкие треугольники, округляющие дыхание ветра; главный фок, упругий и огромный, проколот гигантской иглой мачты, возвышающейся на восемнадцать метров над палубой, а грудь выдается вперед. Позади всех, словно спящий, последний парус – бизань». Он проводит на ее борту целые дни, бережно проводя ее по волнам; держит курс то в Сен-Рафаэль, где живет его отец, то в Ниццу, где на вилле, возвышающейся над бухтой Ангелов, живет мать с невесткой и внучкой. Несмотря на приглушенную озлобленность, царившую между Лорой, которая становилась все более деспотичной, и вдовой Эрве Марией-Терезой, которая не терпела пренебрежительного к себе отношения, Ги испытывал новое для себя наслаждение от игр с ласковой, смеющейся племяшкой Симоной. Думал ли он при взгляде на нее о троих своих внебрачных детях, которых Жозефина Литцельман воспитывала одна? Во всяком случае, он не испытывал угрызений совести – ведь он же поддерживал финансово эту уже более ничего не значившую для него женщину.
В сентябре и дни становятся все короче, и солнце светит все бледнее; так что, если хочешь погреть свои кости, отправляйся на юг. И вот Мопассан, сопровождаемый верным Франсуа Тассаром, садится на трансатлантический пароход «Герцог Браганский» (внося в каюту 12 сундуков, 8 чемоданов, 6 «совершенно необходимых» мешков, 18 всяческих пакетов – общим числом 44 места багажа!) и плывет опять в Африку. Но – не возраст ли тому виною? – он более не в силах выносить грязь харчевен, вонь кухонь и сутолоку толпы. Ни «фантастическое» представление, устраиваемое в его честь, ни танцы живота, исполняемые для него местными красавицами, ни красочное зрелище еврейской свадьбы, ни дефиле задумчивых верблюдов не могли примирить его со страною, первобытную прелесть которой он некогда воспел. Не песок ли пустыни, от которого непрестанно слезились глаза, был тому виною? Ему казалось, будто под веками у него катались горошинки перца. Он проводит несколько дней в Алжире, в Константине, в Оране, в Тлемсене и, разочарованный и изнуренный, мечтает только об одном: вернуться во Францию!
Едва вернувшись, Мопассан погружается в заботы, связанные с открытием памятника Флоберу в Руане: ведь он – секретарь комитета. Церемония была назначена на 23 ноября 1890 года. Чтобы воздать должное памяти Старца, нужно было, чтобы мероприятие обрело громогласный успех. Мопассан ударил в набат, скликая всех друзей покойного гиганта. После некоторых дипломатических колебаний Эдмон де Гонкур согласился выступить на торжестве с речью; со своей стороны, обещал приехать и Золя, но, не ведая обычаев, спросил Мопассана, как ему следует одеться. «Что касается вопроса, как следует одеться, то он совершенно ясен, – отвечает ему Ги с полной компетенцией арбитра в области щегольства. – Иные будут, конечно, во фраках, но, согласно светским принципам (выделено в тексте. – Прим. пер.) никогда не следует надевать фрак ни на завтрак, проводимый где бы то ни было, ни для церемонии в тесном кругу на открытом воздухе, как, например, вот эта».
…Поутру в воскресенье 23 ноября 1890 года Мопассан, сопровождаемый Эдмоном де Гонкуром и Эмилем Золя, садится на поезд до Руана. Бедняга не в духе; он чувствует себя разбитым и, похоже, разочаровался в самой идее посмертного прославления Флобера. Уж не ждет от жизни ничего он; ни слава, ни деньги не приносят ему радости. Он даже не понимает, сколько собратьев по перу завидуют его успеху. В момент отчаяния он излил душу Жозе-Марии де Эредиа. «Он мне долго рассказывал о своей меланхолии, – вспоминал автор „Трофеев“, – о том, как тосклива его жизнь, о своей все прогрессирующей болезни, о провалах в зрении и в памяти, о том, что глаза его внезапно перестают видеть, о тотальной ночи, которая охватывает его, когда наступает слепота – на четверть часа… на полчаса… на целый час… Но вот зрение вернулось, он в спешке окунается с головой в лихорадку работы – и тут внезапно отказывает память! Какая мука для такого писателя – не имея возможности найти нужное слово, он неистовствует, впадает в ярость, в отчаяние».
В поезде Эдмон де Гонкур наблюдает за своим попутчиком и, как и Эредиа, отмечает его расстроенное состояние и отсутствующий вид. «В это утро я был поражен дурной миной Мопассана, – пишет он, – его изнуренным лицом с кирпичным окрасом (briqueté), резко выраженным (marqué), как говорят в театре, характером… и даже болезненною пристальностью взгляда. Мне кажется, ему не суждено дотянуть до старости». Когда поезд, подходя к Руану, покатил по берегу Сены, Мопассан удостоил укутанную туманом реку величественным жестом руки и проворчал: «Всем тем, что у меня сегодня есть, я обязан здешним утренним катаниям на лодке».
После обильного завтрака у мэра компания отправилась в сад Музея, где вознесся памятник Флоберу, исполненный скульптором Шапю. «Это, – саркастически съязвил Эдмон де Гонкур, – красивый сахарный барельеф, над которым висящая в воздухе Правда (аллегорическая фигура, коими обыкновенно украшались монументы в ту эпоху. – Прим. пер.) справляет нужду в колодец». Порывы ветра нещадно хлестали присутствующих. Дождь хлестал как из ведра. Бравируя перед бурей, Эдмон де Гонкур зачитал свою речь в честь человека, о коем он так часто нелестно отзывался в своем дневнике. «Теперь, когда его нет среди живых, моего бедного великого Флобера, – выкрикнул он охрипшим голосом, – его почитают гением… Но знает ли кто в настоящее время, что при его жизни критика оказывала известное сопротивление тому, чтобы признать за ним даже талант?» И заключает: «Разве не так, Золя? Разве не так, Доде? Разве не так, Мопассан? Ведь он был именно таким, наш друг!..» (Дневник, 23 ноября 1890 г.)
Услышав свое имя, Ги содрогнулся. Он удалился в мечтания, куда его позвал Флобер. Старец от души посмеялся бы над всем этим комичным чествованием, над этим банальным монументом, словно изваянным из топленого свиного сала, и над хриплою речью Гонкура. Дождь удвоил ярость; в половине четвертого церемония завершилась, и многочисленные зонтики разлетелись врассыпную. Мопассан, обещавший организовать для членов комитета ленч, достойный Гаргантюа с Пантагрюэлем вместе, удалился по-английски. Разгневанный подобной «трусостью», Эдмон де Гонкур удовольствовался «ни плохим, ни хорошим» обедом, в котором коронным блюдом была неизменная утка по-руански.
Что до Мопассана, то в Париж он возвратился один. Он жил теперь в доме 24 по рю дю Боккадор, но это новое жилище казалось ему еще холоднее, чем предыдущие. Кстати, он по случаю нанял еще и гарсоньерку по авеню Мак-Магон. Прибившись поближе к огоньку, он скрипел зубами и слушал, как льет дождь. Перспектива выйти на улицу пугала его. За обедом у принцессы Матильды у Ги внезапно возникло впечатление, что его мозг опустошается и что он, как поведал о том доктору Казалису, «ищет слова, но более не может говорить и вовсе теряет память». «Врач только что ушел от меня, – пишет он своему кузену Луи ле Пуатевену, с которым между делом примирился. – Он мне вообще запретил выходить на улицу и хочет, чтобы с нынешнего дня и надолго я больше не шатался по улицам по вечерам. (Выделено в тексте. – Прим. пер.) Болезнь все та же, как всегда, – невроз, который принуждает меня ко множеству предосторожностей. Он хочет, чтобы я любой ценой избавился от печки медленного сгорания. Он говорит, что это попросту смерть для людей. Все это меня очень досадует» (письмо от 7 январь 1891 г.).
Тем временем на его рабочем столе – новый роман «Анжелюс»; одновременно с этим на сцене театра «Жимназ» ставилась пьеса «Мюзотта», сочиненная драматургом Жаком Норманом по рассказу Мопассана «Ребенок». Необходимость подобной «штопки» раздражала Мопассана, но директор театра Конинг был непреклонен: спектакль увидит сцену лишь в том случае, если текст будет вычитан и одобрен Мопассаном. И то сказать, огни рампы влекли Ги уже давно, и в этой истории он видел возможность хоть и запоздалого, но осуществления своей мечты юных лет. Только слабое здоровье не позволяло ему вкушать наслаждение в двойном размере. «Мои глаза все в том же состоянии, – пишет он матери, – но я уверен, что причиной тому – переутомление мозга, или лучше сказать, нервного переутомления мозга, ибо стоит мне поработать полчаса, как мысли начинают путаться и затемняться одновременно со зрением, и самый процесс письма для меня становится трудным, а движения руки плохо повинуются мысли… Мой врач, академик и профессор Робен, спокоен. Он говорит: „Надо найти лекарство от этих сильных недомоганий, но я не вижу чего-то тяжелого“. И просит родительницу подыскать ему в Ницце скромную квартирку, выходящую на солнечную сторону, где он весной мог бы поселиться с Франсуа».
И вот наконец пьеса принята к постановке – в главных ролях мадам Паска и мадам Сизо. Зачарованный Мопассан присутствует на репетициях – сидит в пустом зале, зябко съежившись в пальто, и с наслаждением внимает собственным репликам, с чувством произносимым профессиональными комедиантами. «Надеюсь на успех, хотя пьеса и не шедевр, – пишет он Лоре. – Актеры хорошие и играют хорошо». Порою он вынужден замыкаться в четырех стенах из-за головных болей. Или – из-за обострения проблем с глазами. Или опять скребет в горле. Какой же приступ настигнет его на премьере «Мюзотты»?
Сюжет этой пьесы – опять-таки внебрачная связь. Наряду с солнцем, морем и любовью это, бесспорно, предмет, особенно волнующий воображение Мопассана. Молодой человек по имени Жан Мартинель сочетается браком с Жильбертой де Петипре; и надо же такому случиться, что именно в вечер свадьбы его отчаянно зовет к себе бывшая возлюбленная, гризетка[89]89
Гризетка – молодая девушка (швея, хористка и др.) не слишком строгих правил; персонаж романов, комедий и др. из французской жизни XIX в. (Прим. пер.)
[Закрыть] по имени Мюзотта, которая родила от него младенца и теперь находится при смерти. Молодой человек спешит к изголовью несчастной, и эта последняя отдает Богу душу, конечно же, разразившись патетическим монологом. Но осиротевший ребенок не будет оставлен на произвол судьбы, ибо Жильберта, в которой пробудилась материнская нежность, соглашается принять внебрачного отпрыска своего супруга. Все вышеозначенное – в мелодраматическом и высокопарном стиле. Хлесткие реплики звучат фальшиво. Но светская публика очарована. У женщин слезы на глазах. Пресса возносит Мопассана до небес. «Вот я и драматург, да к тому же имеющий успех, чему очень удивлен, ибо мне кажется, что я так и не открыл пресловутого секрета драматургии, непостижимого для романистов», – пишет он Роберу Пеншону.