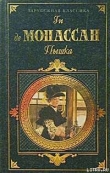Текст книги "Ги де Мопассан"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Анри Труайя
Ги де Мопассан
Глава 1
Жеребенок вырывается на волю
Прелестница Лора[1]1
Пишется: Laura. (Прим. пер.)
[Закрыть] ле Пуатевен, за которой с недавних пор ухаживал некий Гюстав Мопассан, в волнении задавала себе вопрос: соглашаться ли ей на его предложение руки и сердца или не стоит? Ей двадцать пять;[2]2
Лора ле Пуатевен родилась 28 сентября 1821 года в Руане; Гюстав Мопассан – 27 ноября 1821 года в Бернэ (департамент Эр). (Прим. авт.)
[Закрыть] красива, с правильными чертами лица и открытым взглядом. Причесанные на прямой пробор и ниспадающие длинными локонами по обе стороны лица густые каштановые волосы подчеркивали умный и решительный характер, который так импонировал ее окружению. Страстно увлеченная литературой, она прочла все, что полагалось прочесть; говорила по-итальянски и по-английски, захлебывалась Шекспиром, писала своим близким элегические послания и безмерно восторгалась своим братом Альфредом, который был лучшим другом Гюстава Флобера.
Альфред – рано созревший, рафинированный, мятежный и сумрачный поэт. Как и Флобер, нещадно издевается над буржуа. Лора – непременная участница их дискуссий, игр и фарсов. Оба друга ценят ее критические суждения, а она, в свою очередь, убеждена в том, что их ожидает славная судьба. Рядом с этими исключительными существами ее претендент выглядел не особенно ярким. Да, конечно, он обольстителен, элегантен, с приятными манерами и бархатным взглядом, который стяжал ему столько успехов у женщин. Но Лору терзали опасения, что этому беспечному и рассеянному денди недостанет стати, чтобы удовлетворять ее в интеллектуальном плане. А главное, он не из благородных! Да и сама она страдает оттого, что всего лишь простолюдинка – дочь разорившегося владельца прядильной мануфактуры. После его кончины мать Лоры, Виктуар, обосновалась с детьми у собственной родительницы в рабочем квартале Фекана. Опьяненной гордыней Лоре мечталось вырваться из серой провинциальной повседневности, утвердить себя в свете, заслужить уважение у людей с положением. Она настояла на том, чтобы Гюстав порылся в архивах и доискался до корней своего рода. К счастью, в архивной пыли обнаружился некий Жан-Батист Мопассан, который служил секретарем-советником у короля и в 1752 году был пожалован во дворянство, о чем свидетельствовала выданная австрийским двором грамота. Не сходя с места, Лора настояла, чтобы Гюстав обратился в официальные инстанции и добился права на частицу «де». Если ему это удастся, она, так и быть, примет его предложение. Послушный ее воле, Гюстав предпринял необходимые шаги, и 9 июля 1846 года гражданский суд Руана разрешил ему отныне именоваться Гюстав де Мопассан, к радости невесты, которая теперь не видела никаких препятствий для брака.
Церемония состоялась 9 ноября 1846 года. В том же году брат Лоры Альфред взял в жены сестру Гюстава де Мопассана Луизу. Этот двойной альянс еще более сблизил обе семьи. Но Альфред ле Пуатевен скончался в 1848 году, после короткой жизни, полной безумств и распутства. Лора была убита горем. Перед таковою несправедливостью судьбы она не находила утешения ни в чем ином, как в чтении Шопенгауэра, чей пессимизм соответствовал ее горестному видению человеческого состояния. Но вскоре это черное настроение в одно мгновение сменилось большою радостью: она почувствовала под сердцем дитя. Ребенку, которому ей предстояло дать жизнь, суждено было стать гением. Нельзя, чтоб он увидел свет в «городишке торгашей и заготовщиков солонины», каковым, по ее собственному выражению, был Фекан. Не говоря уже, что семейный очаг на рю Су-ле-Буа[3]3
Ныне набережная, носящая имя Ги де Мопассана. (Прим. авт.)
[Закрыть] был не слишком привлекательным. Есть более достойные места! Как раз незадолго до этого, в сентябре 1849 года, семья Мопассан сняла престижное имение – шато де Миромениль, относившийся к коммуне Турвиль-сюр-Арк, невдалеке от Дьеппа. Когда уже близился срок родин, молодая женщина перебралась в это аристократическое жилище, принадлежавшее некогда маркизу де Флер, затем канцлеру Миромениля. Обитавший в нескольких километрах от владения доктор Гитон помогал Лоре при первых схватках. В актах гражданского состояния младенец был записан под именем Анри-Рене-Альбер-Ги де Мопассан, родившимся 5 августа 1850 года в шато де Миромениль, округ Турвиль-сюр-Арк. Миропомазан 20 августа того же года и крещен год спустя, 17 августа 1851 года, в церкви того же прихода. Между тем по городку циркулировали странные слухи. Иные недоброжелатели утверждали, что в действительности ребенок увидел свет в Фекане (фи, что за банальность!), что Лора поселилась в замке Миромениль только после того, как разрешилась от бремени, и что была достигнута договоренность с муниципалитетом Турвиля-сюр-Арк, чтобы в официальных документах было указано место рождения, не соответствующее действительности. Страстная мамаша Лора всю жизнь будет отвергать эту оскорбительную сплетню. Чтобы родить на свет в 1856 году своего второго сына, Эрве, она снова наняла замок – на этот раз в Гренвиль-Имовиле, близ Гавра. Ей казалось важным, чтобы с самых нежных лет дети росли в окружении почтенных стен, старинной мебели и портретов предков.[4]4
Если в акте о рождении Ги де Мопассана утверждается, что он увидел свет в Турвиле-сюр-Арк, то составленный в Париже акт о смерти писателя называет местом его рождения Сотвиль, близ Ивето. Возможно, в документ вкралась описка, и писец имел в виду деревню Соквиль (Sauqueville), близ которой расположен замок Миромениль. Некоторые биографы, как, например, Жорж Норманди и Рене Дюмениль, доверяясь достаточно хрупким устным свидетельствам, поддерживают версию о рождении Ги де Мопассана в Фекане, в доме № 98 по рю Су-ле-Буа. Однако согласно недавно найденным документам замок Миромениль был сдан в аренду с августа 1849 г. «с находившейся в нем мебелью», а в октябре того же года эта мебель была продана с публичных торгов владелицей, мадам де Мареско; часть ее купил мосье Гюстав де Мопассан, который уже находился на месте (alors qu’il se trouvait déjà dans les lieux), как то подчеркивает исследование мадам Легра. Как следствие, представляется, что Ги де Мопассан и впрямь увидел свет в шато де Миромениль, как гласит официальная версия, а не в Фекане. (Прим. авт.)
[Закрыть] Сей вкус к барским жилищам не мешал молодой чете регулярно наезжать в Фекан, в Этрета, в Париж. Особенно не сиделось на месте ретивому Гюставу. Он терпеть не мог находиться в четырех стенах и ради развлечения ухлестывал за прекрасным полом. Что девицы легкого поведения, что юные служанки – все годилось, все приходилось впору! С этими податливыми созданиями без комплексов он находил отдохновение от раздражения, которое вызывала в нем супруга – спесивая, гневливая, властная и слишком занятая духовными вопросами. Лора была в курсе похождений своего неверного благоверного и обрушивала на него все новые жалобы и упреки. До детских ушей порою докатывалось эхо этих скандалов, и крошки смутно догадывались об их мотивах.
В 1859 году превратности фортуны вынудили беззаботного Гюстава де Мопассана искать заработка. Сперва он был вторым кассиром у меняльного агента Эдуарда Жюля, потом – компаньоном у Штольца в Париже, и все семейство перебралось в столицу. И там он, понятно, дал волю своему пристрастию к романам со всякой встречной-поперечной. Такого Лора более выносить не могла. Да и сам Ги, которому исполнилось девять лет, понимал, что отцу его не сидится дома из-за других женщин. Будучи пансионером императорского лицея «Наполеон» (ныне лицей имени Генриха IV), он пишет матери: «Я был первым по сочинению. В награду за это мадам де Х. повела меня вместе с папой в цирк. Похоже, что она вознаграждает и папу, только не знаю за что». В другой раз Ги и Эрве были приглашены на детский утренник одною дамой, про которую все знали, что она – любовница их папеньки. Эрве болел, и Лора решила остаться с ним. Гюстав де Мопассан настоял на том, чтобы самому отвести Ги на праздник. Желая поиздеваться над родителем, мальчик одевался нарочито медленно, и, разозлившись, папенька пригрозил, что они вообще никуда не пойдут.
– Ничего! – ответил Ги. – Меня это не беспокоит! Ты же рвешься туда еще больше меня!
– Ну хорошо. Давай завязывай шнурки, – сказал отец.
– Нет, это ты мне их завяжешь! И, вот увидишь, поступишь так, как мне будет угодно![5]5
A. Lumbroso.: Souvenirs sur Maupassant.
[Закрыть]
Сконфуженный, Гюстав де Мопассан повиновался. Чуть позже Ги довелось стать свидетелем яростной сцены, разыгравшейся между отцом и матерью. Он вспомнит об этом в одной из своих новелл:[6]6
«Гарсон, кружку пива!»
[Закрыть]
«…Тогда отец, дрожа от бешенства, повернулся и, схватив мать одной рукой за горло, другой начал бить ее изо всех сил по лицу.
Мамина шляпа свалилась, волосы в беспорядке рассыпались, она пыталась заслониться от ударов, но это ей не удавалось. А отец, как сумасшедший, все бил и бил ее. Она упала на землю, защищая лицо обеими руками. Тогда он повалил ее на спину и продолжал бить, стараясь отвести ее руки, чтобы удары приходились по лицу.
А я… мне казалось, мой дорогой, что наступил конец света и все незыблемые основы бытия пошатнулись. Я был потрясен, как бывает потрясен человек перед лицом сверхъестественных явлений, страшных катастроф, непоправимых бедствий. Мой детский ум мутился. И я, не помня себя, начал пронзительно кричать от страха, боли, невыразимого смятения. Отец, услышав мои крики, обернулся, увидел меня и, поднявшись с земли, шагнул ко мне. Я подумал, что он хочет убить меня, и, точно затравленный зверь, бросился бежать, не разбирая дороги, напрямик, в чащу леса.
Я бежал час, может быть, два – не знаю. Наступила ночь; я упал на траву, оглушенный, измученный страхом и тяжким горем, способным навсегда сокрушить хрупкое детское сердце. Мне было холодно; я, вероятно, был голоден. Настало утро. Я не решался встать, идти, вернуться или бежать куда-нибудь дальше, я боялся встретиться с отцом, которого не хотел больше видеть. Пожалуй, я так и умер бы под деревом от отчаяния и голода, если бы меня не заметил лесник и не отвел силой домой.
Я нашел родителей такими же, как всегда. Мать только сказала: „Как ты напугал меня, гадкий мальчик, я не спала всю ночь“. Я ничего не ответил и заплакал. Отец не произнес ни слова».
Так и жили – от ссор к примирениям, от примирений к ссорам, и в итоге атмосфера в доме сделалась невыносимою. Гюстав уже не делил супружеского ложа со своей законною, нервы у которой были на пределе и которая наконец-то решилась на разрыв. В ту эпоху расторжение брака по закону еще было невозможно, и дело решили полюбовно, простым актом с участием мирового судьи. Лора забирала себе свое добро и детей, на которых супругу надлежало выплачивать ей по тысяче шестьсот франков в год. Несмотря на такой разрыв, Ги отнюдь не разделял мамашиного злопыхательства в отношении непутевого папеньки. Разногласия между родителями убедили его уже в этом юном возрасте, что всякий брак обречен на провал. Он уже тогда пришел к мысли, что мужчина не создан для того, чтобы день за днем и ночь за ночью жить с одной и той же женщиной. Всем сердцем жалея мать, он в то же время готов был понять отца и на протяжении многих лет будет питать к нему чувство снисходительности с некоей долей презрения.
Перед тем как разойтись, чета Мопассан купила в Этрета виллу с названьем «Ле Верги» – солидное строение XVIII века по дороге на Фекан. Там и обосновалась Лора с детьми. Окрашенный в белое «дорогой дом» с балконом, увитым диким виноградом и ползучей жимолостью, окружал обширный сад, засаженный березами, липами, кленами и падубами. В интерьере тяжелая мебель покоилась в ароматах воска и лаванды. По стенам в полумраке влажно блестели руанские фаянсы. Посреди этого строгого и богатого убранства мать прививала сыну вкус к поэзии, читая ему вслух «Сон в летнюю ночь» и «Макбета». Она с волнением констатировала, что ее чадо походило на дядюшку Альфреда, преждевременно скончавшегося поэта. В один прекрасный день 1862 года, получив от Флобера экземпляр «Саламбо» с дарственной надписью, она не смогла сдержать восторга и сразу же после обеда принялась декламировать детям пассажи из последнего романа своего большого друга. «А каким внимательным слушателем был мой сын, – писала она автору. – Твои описания, порою такие изящные, порою столь ужасные, вызывали блеск молний в его черных глазах». Ги было в ту пору двенадцать лет. «Ах, – думала Лора, – если бы он тоже смог стать писателем!»
Это страстное обучение с литературным уклоном дополнял этретатский викарий, аббат Обур – «большой, костистый, а мысли такие же квадратные, как и тело».[7]7
Из статьи в журнале «Жиль Блас». 1883 г.
[Закрыть] Аббат обучал Ги и Эрве грамматике, арифметике, катехизису и рудиментам латинского. И, чтобы дать отрокам начальное понятие о том свете, велел зазубрить наизусть имена усопших, «начертанные на крестах из черного дерева» на кладбище. Но требовалось нечто большее, чтобы произвести впечатление на мальчиков. Едва закончится урок, а Ги уже бежит к пляжу, вдыхает полной грудью порывистый ветер с моря, слушает резкие крики чаек и болтает о том о сем с рыбаками. Эрве никогда не сопровождает брата в этих шатаниях. Он на шесть лет моложе, и с Ги его ничто не сближает. Живя под одной крышей, мальчики, по сути дела, не знают друг друга. Старшего сына Лора предпочитает младшему – она видит в Ги маленького мужчину по своему сердцу: умного, крепкого и притом чуткого к соблазнам искусства. Он бегло разговаривает на нормандском наречии. Его товарищи по играм – обожженные солнцем, живые, дерзкие и не испорченные образованием мальчишки. Он не видит никакой разницы между собой и этими развеселыми босяками. Страсть к ветрам и парусам – вот что более всего объединяет их. Порою какой-нибудь рыбак приглашает «маленького Мопассана» на свое суденышко. Чем бурнее море, тем радостнее приключение для Ги. В тринадцать лет он уже умеет управляться с кормилом, использовать благоприятное направление ветра и выравнивать качающуюся на волнах посудину всякий раз, когда корма устремлялась вниз. Борьба против стихий наполняла его дионисийской радостью. Вспоминая об этих своих детских проказах, он скажет уже в зрелом возрасте: «Я чувствую, что в моих жилах струится кровь морских разбойников».
Но отнюдь не только море привлекало его. Нормандскую землю он обожал не менее. Ему были по сердцу яблоневые сады, пруды с засох-шими ивами по берегам, дворы ферм, оглашаемые прерывистым собачьим лаем. Лица крестьян запечатлелись в его памяти с фотографической точностью. Пытливо наблюдая, мальчик постигал, каков этот люд – стиснув зубы сносящий боль, скуповатый, хитрый и наивный одновременно. Речи крестьян он слушал с еще большим вниманием, чем проповеди аббата Обура.
В двух шагах от этого первобытного социума находился Этрета, вошедший в моду с 1850-х годов с легкой руки Альфонса Карра – как только наступала весна, его наполнял буржуазный и артистический мир. Сопровождаемые детворой и гувернантками, элегантные дамы под зонтиками бродили по галечному пляжу и мечтательно глядели на море. Мужчины отправлялись в казино, размещавшееся в скромной деревянной постройке, играли в бильярд, читали газеты. Когда наступало время чаепития, слушали какого-нибудь заезжего пианиста, наигрывавшего мелодии Оффенбаха. Для молодежи устраивались танцульки, а более степенная публика собиралась в гостиной, именуемой «Античным салонам». Надо ли говорить, какая пропасть отделяла этот никчемный, праздный и сытый народец от окружавшего его местного населения – немытого-нечесаного, аза в глаза не видавшего, но гордого. Не колеблясь, Ги взял сторону простолюдинов. Он – нормандец до мозга костей и намерен оставаться таковым.
Когда он отправлялся на длительные прогулки по побережью, Лора сопровождала его. Как-то раз, увлекшись, они были застигнуты врасплох приливом и, спасаясь от волн, забрались на отвесную скалу. Здесь, на вершине, опасность бросила их в объятья друг друга вдали от мира людей, среди пронзительных криков чаек. О, это был возвышенный момент – Лора соединилась со своим сыном, объятая стихиями дикой природы, и Ги тут же попросил мать дать ему возможность жить как хочет – как жеребенок, вырвавшийся на волю.
Лоре хотелось, чтобы эта близость между нею и сыном сохранилась на всю жизнь. Между тем необходимо было подумать о более серьезном образовании, чем то, что мог предложить аббат Обур. Скрепя сердце мать решила поместить Ги в пансион. Верная своим убеждениям, что ее сына должна окружать почтенная атмосфера, она выбрала Богословский институт в Ивето, близ Этрета. Знание простого народа вещь хорошая, но неплохо бы к тому и нанести глазурь из хороших манер, обязательную для любого мужчины, желающего сделать карьеру в свете.
Глава 2
Поэзия и реальность
В ту пору, когда Ги переступил порог Богословского института в Ивето, ему исполнилось тринадцать лет. Он уже сложился в крепкого, коренастого парня с развитой мускулатурой, выдающимся торсом и мятежным пламенем в глазах. Привыкший к вольному существованию на берегу моря среди простых рыбацких детей, он задыхался в тесных стенах школы. Все его товарищи по классу были отпрысками обеспеченных семей – сыновьями судовладельцев, мясоторговцев, богатых землевладельцев. В этой «цитадели нормандского духа», как называли это заведение в округе, царила аскетичная атмосфера благочестия и дисциплины. Вспоминая о годах, проведенных в пансионе, Мопассан напишет так: «Там пахло молитвою так же, как пахнет на базаре свежевыловленной рыбой». В условиях жизни среди сутан он стал воспринимать религию как нечто ужасное. Обязанность молиться в строго определенное время, назидательные чтения за трапезой, декламация строк из Евангелия – все это казалось ему гротескным. Отцы церкви только искажают Бога, который, по его мысли, куда более величествен посреди разгулявшихся волн, нежели в стенах банальной церкви. А главное, что он, так любивший плескаться в воде, терпеть не мог нечистоты, в которой погрязли однокашники и менторы. Здесь ноги мыли всего три раза в год, а баню не посещали вовсе. Тупили зрение за чтением тупейших книг. А ведь поначалу Ги слыл образцом прилежания и послушания! Его оценки за триместр были удовлетворительными; поведение было оценено как «соответствующее правилам», труд – «усердным», характер – «вежливым и послушным». Но за этим видимым примирением притаилась буря. Снова и снова Ги жаловался на мигрени, чтобы только не ходить на уроки. И свысока посматривал на этот тюремный мир, в котором ярко высвечивались интеллектуальное убожество профессоров и вызывающая грубость товарищей по классу. Кое-как проглатывая вперемешку латынь, греческий, арифметику и грамматику, он мечтал о больших каникулах. Мама обещала повести его на бал, если оценки будут хорошими. Тогда он написал ей: «Если для тебя нет разницы, то вместо бала, который ты мне обещала… я попросил бы тебя, чтобы ты выдала мне хотя бы половину тех денег, которые тебе пришлось бы истратить на бал, – и я навсегда остался бы перед тобою в долгу, потому что смог бы купить лодку. Это – единственное, о чем я помышляю после возвращения… Я не собираюсь покупать лодку из тех, что продают парижанам, – они ни на что не годны. Нет, я пойду к знакомому таможеннику, и он продаст мне лодку такую, как те, что стоят в церкви – на манер рыбацких, с округлым днищем» (письмо от 2 мая 1864 г.).
В ожидании нового обретения радостей навигации Ги задумал удивить однокашников своими благородными корнями. Он потребовал от отца прислать ему бумагу, украшенную гербом, «да чтоб непременно с твоими инициалами, потому что они такие же, как мои; ты доставишь мне много удовольствия; у меня вовсе нет бумаги, помеченной моим именем, и мне были бы очень нужны две-три тетради для множества писем, которые я собираюсь написать». Сия забота об эпистолярной элегантности не мешает школяру, как какому-нибудь портовому грузчику, обмениваться с одногодками тумаками и затрещинами; ну а после вышеозначенного он нередко удалялся в уединение предаваться философским размышлениям. Кузену Луи ле Пуатевену он описывает свою «альма-матер» как «печальный монастырь, где царствуют попы, ханжество, тоска, etc… etc… и откуда исходит запах сутаны, который распространяется по всему городу Ивето» (апрель 1868 г.). Чтобы развлечься, он втихаря читает «Новую Элоизу» и замечает: «Эта книга послужила мне одновременно противоядием и благочестивым чтением на Страстной неделе» (там же). Его раздражает, что в классе не говорят о Викторе Гюго. Им уже овладевает лирическая лихорадка. Ему хочется походить на своего дядюшку Альфреда ле Пуатевена, посвятившего все свое существование поэзии. Эта тяга к рифмотворчеству усиливалась в нем приходом половой зрелости. Ему одинаково любы сдержанная музыка слов и недоступные округлые формы женского тела. Истомленный жаждою идеала, он пишет:
Мне узок горизонт, мне не хватает дня,
И вся Вселенная ничтожна для меня!
Или так:
Жизнь – это пенный след за темною кормою
Иль хрупкий анемон, что выращен скалою.
(Перевод Д. Маркиша.)
Едва настрочивши дюжину стихов, он тут же шлет их матери на апробацию. Читая их, она вкушала гордость, смешанную с нежностью. Пред нею, за чертами сына, вставал ее горячо любимый брат. Ги обладает талантом, она в этом уверена и спешит известить об этом своего друга детства Гюстава Флобера.
Но Ги не довольствуется тем, чтобы тешить музу одними только подражаниями – с той или иной степенью успеха – поэтам-современникам. Бок о бок с рафинированным вкусом к служенью изнеженной лире в нем играет аппетит к сочинению брутальных фарсов, вульгарных фацеций, жажда надавать оплеух существующему порядку. То он забавляется тем, что пародирует перед своими однокашниками курс профессора теологии, который пугал их муками ада; то, объявив, что подаваемый школярам на стол напиток, именуемый абонданс,[8]8
Буквальное значение слова: изобилие, но также и «сильно разбавленное вино». (Прим. пер.)
[Закрыть] недостоин нормандского чертога, привыкшего к терпкому вкусу сидра, вовлекает товарищей в безумную авантюру: тайком завладев связкой ключей эконома, школяры дождались, пока заснут директор и классные надзиратели, спустились в погреб, отомкнули замки и допьяна напились вина и водки.[9]9
Как тут не вспомнить аналогичную шалость юного Пушкина со товарищи в Царскосельском лицее! (Прим. пер.)
[Закрыть] Скандал, разразившийся на следующий день, был быстро замят, чтобы не ставить под удар репутацию учебного заведения. Ги, хоть и удостоился суровой выволочки, все же худо-бедно смог продолжить учебный курс. Он по привычке сетует на здоровье, жалуется на не слишком свежую кормежку в школьной столовой и превозносит в стихах полноту своей души. По его мнению, проза не способна передать волнующие его большие чувства. Прежде всего он задается вопросом, как еще можно восславить женщину, кроме как прибегая к божественной мелодии стихов. И то сказать, женщины заботят его все более и более. На каникулах в Этрета он пожирает глазами входящих в воду купальщиц, догадывается по их лицам, как им зябко, воображает их роскошные бюсты, скрытые под пышными купальными костюмами, грезит о жарких объятиях в полумраке грота. Возвратившись в школу, он поверяет свои любовные порывы тетрадным листам. Одна из его кузин, которую он выводит под инициалами E.D., только что вышла замуж, и по этому случаю он шлет ей послание в восьмисложниках:
Ты мне сказала: «Праздник счастья,
Где адаманты и цветы
Венчают опьяненных страстью,
Воспеть стихами должен ты».
Но я живу как погребенный
Средь скучных стен монастыря;
Что знаю в жизни монотонной
За исключеньем стихаря?
(Перевод Д. Маркиша.)
Стихи пошли гулять по классу и попали в руки начальству. Ошеломленный директор заведения решил, что на сей раз Мопассан перешел все возможные границы. Чуждый всякой дисциплине ученик не только хочет воспеть счастье влюбленных, но еще и жалуется, что со всех сторон окружен попами! Паршивая овца должна быть во что бы то ни стало изгнана из стада! И Ги был выпровожен в Этрета привратником учебного заведения.
Но случилось так, что Лора не разгневалась на изгнание сына из школы. Она слишком любила его, чтобы и дальше обрекать на затворническое существование среди благочестивых преподавателей, ни бельмеса не смыслящих в поэзии. И подтверждает это в письме к Флоберу: «Ему там нисколько не нравилось; аскетичность этой монастырской жизни плохо сочеталась с его впечатлительной и тонкой натурой, и бедный ребенок задыхался среди этих высоких стен».
А «бедный ребенок» не мог нарадоваться тому, как все обернулось. Между делом ему впервые случилось познать страсти любви. «В шестнадцать лет», – заверит он своего случайного собеседника Франка Арриса. И гордо воспевает в стихах свои еbats[10]10
Забавы, шалости (фр.).
[Закрыть] с красивой и простой девушкой по имени Жанна, которой едва исполнилось четырнадцать:
Un grand feu de bonheur nous tordit jusqu’aux os.
Elle criait: «Assez, assez!» et sur le dos
Elle tomba, les yeux fermés, comme une masse.
(Великий пламень страсти разобрал нас до костей. Она кричала: «Довольно, довольно» и с зажмуренными глазами повалилась навзничь, точно куль.)
Две вещи по сердцу отроку, столь чудесно спасшемуся из школы: женщина и вода. И то и другое бурлило во все том же водовороте сладострастья, красоты и вероломства. Отныне, говорит он, его жизнь будет разделена между двумя страстями – l’amour de la chair et l’amour de la mer.[11]11
Любовью к плоти и любовью к морю (фр.).
[Закрыть]
Этим летом 1868 года в Этрета яблоку было негде упасть. Друзья потащили Ги в домик художника Курбе, прилепившийся к самой скале. «В обширной голой комнате, – писал Мопассан, – толстый, жирный и грязный мужчина наносил кухонным ножом пласты белил на большой чистый холст. Время от времени он прислонял лицо к стеклу и смотрел на бурю» (статья из «Жиль Бласа» – август 1869 г.). Но еще больше, чем мастерская старого художника, привлекала его суета внешнего мира. Казино, где играют и танцуют. Элегантные коляски, теснящиеся возле отелей. Парижанки в летних платьях, проходящие, отворачивая нос, мимо прилавков с рыбой, про которую рыбачки во все горло клялись и божились, что она свежайшая; другие, более смелые курортницы, спускающиеся прямиком к пляжу. Ги с вожделением пожирал их глазами от персей до ягодиц. О, как бы хотелось ему быть на месте тех крепких телом купальщиков, которые помогают им бросить вызов волнам! В один прекрасный вечер он знакомится с одной парижанкой, Фанни де Кл., которая покорила его своей задорной улыбкой и грациозными жестами. Ничуть не колеблясь, он пишет в ее честь стихотворение и подносит. Но когда некоторое время спустя он приходит к ней с визитом, то застает ее за декламацией этого стихотворения в кругу друзей, сопровождаемой взрывами хохота. Застывши на месте от стыда и гнева, точно пораженный молнией, он чувствует себя окончательно убежденным в том, что женщина – существо фальшивое, ветреное и презренное, и единственное, что оправдывает ее существование на земле, – утоление аппетитов мужчин.
В эту пору предметом любопытства обитателей Этрета был молодой англичанин по имени Пауэл, который жил с другом и обезьяной в одиноком шале с названием «Хижина Дольмансе». Ги порою встречал этого оригинала на галечном пляже и обменивался с ним парой слов. Как-то утром, часов около десяти, он услышал крики матросов – под вырубленной самой природой в скале аркой, называемой «Ворота верховья» (Porte d’Amont), тонул пловец. Матросы тут же вскочили в шлюпку, а с ними и Ги. С силой налегая на весла, они поспешили к месту происшествия, и, по счастью, им удалось выудить из воды того неосторожного, который малость перебрал хмельного и теперь был уносим в море приливною волною. Этим несчастным, который тяжело дышал и трясся, был не кто иной, как духовный учитель Пауэла, выдающийся английский поэт Элджернон Чарльз Суинберн. Как участник спасения, Ги получил от двух приятелей приглашение на следующий день на завтрак.
«Хижина Дольмансе» представляла собою низенький домик, «сложенный из силиката и крытый соломою». В его стенах двое эксцентриков принимали молодого человека, не скрывавшего своего удивления. На фоне жирного и рыхлого Пауэла худоба Суинберна навевала мысли о смерти. Изможденное тело непрерывно била дрожь. Суинберн, тридцати одного года от роду, был поэтом странного романтизма, другом прерафаэлитов Россетти и Берн-Джонса. С первых же слов, которыми он обменялся с хозяевами, Ги точно попал под колдовские чары. Он догадался, что это скромное с виду нормандское жилище в действительности – место культа, где сочетаются дружба, порок и вкус к погребальной эстетике. «В продолжение всего завтрака, – напишет Мопассан, – разговаривали об искусстве, литературе и человечестве, и мнения этих двух друзей отбрасывали на предметы разговора некий волнующий мертвенный отсвет, ибо присущая обоим манера видения и понимания представила мне их как двух больных одержимых, опьяненных извращенной и магической поэзией». Сколь бы ни был он увлечен разговором, от него не укрылась странность украшавших комнату картин и безделушек: «На акварели, если мне не изменяет память, была изображена голова мертвеца, плывущая на розовой раковине по безбрежному океану под луною с человечьим лицом». Тут и там на столиках с выгнутыми ножками были разложены человеческие кости. Среди них – рука с содранной кожей, каковая выглядела как пергамент; на костях чернели обнажившиеся мышцы и были видны следы давно запекшейся крови. Видя, сколь очарован был сим предметом Ги, Суинберн предложил его гостю в качестве сувенира на память об этой встрече. Разом напуганный и покоренный, Ги поблагодарил. Он уже никогда впредь не расстанется с этим знаком того света. Чтобы увлечь его еще дальше в заблуждение чувств, его веселые хозяева, шушукаясь, стали демонстрировать ему фотографии похабно-садистской тематики и напаивать «крепкими ликерами» специфического вкуса. Вокруг троицы прыгала крупная обезьяна и время от времени позволяла Пауэлу гладить себя. Кстати, в меню значилось и такое блюдо, как обезьянье жаркое. Испытывая омерзение, Ги все же согласился принять новое приглашение двух друзей. На сей раз обезьяна отсутствовала. Оказывается, ее повесил камердинер, позавидовав тем ласкам, которыми хозяева одаривали животное. В то время, как оба англичанина сетовали на потерю, Ги размышлял о степени их сумасбродства – и изумлялся. Впрочем, он здравомысляще отклонил новое приглашение. Его настораживали гомосексуальные наклонности этих двух приятелей – окрест уже ходили разговоры, что обитатели «Хижины Дольмансе» составили противоестественную пару и не знают, что бы им еще такое выдумать, чтобы восславить Сада. «Они искали удовлетворения с обезьянами и юными прислугами четырнадцати-пятнадцати лет, которых Пауэлу присылали из Англии примерно каждые три месяца, – маленькими слугами необыкновенной опрятности и свежести», – расскажет Мопассан Эдмону де Гонкуру. Что касается обезьяны, то «она спала с Пауэлом в одной постели». И в заключение Мопассан пишет: «Это были истинные герои Старца (Сада), которые не остановились бы перед преступлением» (Гонкур. Дневник, 28 февраля 1875 г.).
Словом, всецело отказываясь стать жертвой или сообщником этих двух апостолов сексуальных извращений, Ги был очарован их выдумкой, их дерзостью, их пренебрежением социальными условностями. Его крестьянская бодрость, вкус к вольным просторам и физическим усилиям любопытным образом сочетались с влечением ко всякого рода нездоровым штучкам. Еще до того, как он в самом деле познал женскую любовь, он грезил об эротических причудах. При том что жизнь его била через край, его преследовали мысли о смерти.
С такою путаницей в голове он совершенно не был расположен к продолжению занятий. Но как обеспечить себе человеческое существование без наличия такой вещи, как – святое дело! – звание бакалавра? Превозмогая горе, вызванное новым расставанием, Лора записывает сына пансионером в руанский лицей, носящий имя Корнеля. Там он, по ее замыслу, должен будет закончить свой класс риторики. Она хотела видеть его не только крепким телом, но и образованным, не только соблазнительным, но и серьезным, и в той же степени привязанным к матери, как и стремящимся добиться своего царственного места в литературе. Если все задуманное удастся, он станет ей утешением в ее супружеских неудачах и послужит оправданием ее надменного отказа связать свою жизнь с каким-либо новым мужчиной.