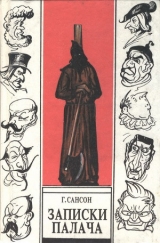
Текст книги "Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции, книга 2"
Автор книги: Анри Сансон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
Глава VIII
Рукопись отца моего. Служба его в артиллерии
Я должен был передать в точности и без перерыва журнал Шарля Генриха Сансона. Этот печальный некролог, отмечающий ежедневно жертвы страшной эпохи Террора, составляет каждодневную ведомость эшафота с 1793, и в этом отношении я признал за ним историческое значение, не позволявшее мне искажать его. Поэтому я в точности сохранил содержание его и надеюсь, что читатели одобрят это. В этом каждодневном отчете встречаются некоторые наставления, написанные в часы отдыха и уединения человеком, облеченным столь страшной обязанностью. Его заметки кратки, сжаты, как и должен был быть в то время баланс гильотины; рука, утомленная казнями, едва сохраняет достаточно силы, чтобы писать, а немая совесть не смеет вопрошать. Тот, который держит этот список казней, едва смеет бросить боязливый взгляд вне своего печального горизонта на те события, которые совершаются вокруг него. Чувствуешь, что он живет в страшное время, когда всякий закрывает глаза, чтобы не видеть и не чувствовать себя живущим.
Отдохнем от этого ужасного чтения. Рукопись моего отца, гораздо позже написанная, но касающаяся событий того же времени, доставит нам эту возможность. Она объясняет интересные подробности о перемене общественного мнения в пользу палача.
Республика обходилась с нами лучше, чем монархия. Она дала нам слишком важную роль и слишком часто прибегала к нашим услугам, чтобы не понимать этого. Это бесспорно единственная эпоха, когда отвращение, соединенное с нашей должностью, почти смолкло. Вместо неизбежного отвращения, которое мы всегда внушали, нередко видели во время Террора как народные представители, клубные ораторы, знаменитые своим цинизмом, самые отъявленные из санкюлотов, считали за честь фратернизировать с палачом: свобода, равенство, братство и смерть.
Уже дело не касалось этих боязливых приговоров совета и парламента, едва решавшихся запрещать называть нас палачами; дело клонилось к тому, чтобы поискать нам славное прозвище, вполне достойное величия нашего назначения. Весьма серьезно предлагали на будущее время называть палача: мстителем народа, одеть его в серьезный костюм, который бы указывал всем на него, как на одного из важнейших особ всей нации. Известный артист, живописец Давид, поверил всему этому и явился к моему деду, чтобы переговорить относительно этого костюма, рисунок, которого он не погнушался сделать, руководствуясь в этом случае воспоминаниями о лекторах римской древности. Шарль-Генрих Сансон отклонил честь такого одеяния и выразил желание оставаться при той одежде, которую носил.
Но это были лишь меньшие почести, которые оказывали деду моему; часто, отправляясь на казнь со своим мрачным экипажем, в то время когда еще народ не утомился ежедневными казнями, он слышал на пути своем одобрительный ропот. Несколько раз фурии гильотины едва не делали ему овацию. Некоторые из помощников были в связи с ними, и это было соединение смешного с отвратительным.
Спешу перейти к другому предмету и к образам, менее отталкивающим. Я предоставлю говорить отцу моему, который расскажет нам полученное им в то время выражение симпатии, более лестное.
В одно из воскресений октября месяца 1793 года пробили сбор всем гражданам нашего отдела, и я вместе с прочими отправился в церковь Св. Лаврентия. После собрания, когда я выходил с несколькими друзьями, ко мне подошла довольно многочисленная компания, состоявшая большей частью из ремесленников, среди которых я заметил несколько знакомых лиц. Один из них от имени всех обратился ко мне со следующими словами:
– Гражданин Сансон, мы принадлежим к числу тех, которые должны образовать новую роту канониров нашего отдела. Прежняя отправилась сегодня в армию, нам разрешили составить новую и вот позволено нам собраться сегодня для избрания офицеров. Мы знаем вас с давнего времени и нам бы очень лестно было видеть вас с нами, равно как и лиц, сопровождающих вас.
Если бы этот человек не назвал меня по имени и не выразился, что как он, так и его товарищи давно меня знают, то я бы счел все это за ошибку, и чтобы не рисковать быть узнанным впоследствии поспешил бы отказаться самым положительным образом; но сознаюсь, меня тронула эта предупредительность и я хотел отклонить предложение со всевозможной вежливостью. Я дал им заметить, что уже принадлежу к национальной гвардии, где занимаю должность сержанта, так как несколько знаком с пехотной службой, но что не имею ни малейшего понятия о службе артиллерийской.
– Что за важность! – воскликнул смеясь один молодой человек с открытым лицом. – У нас хороший учитель и в месяц вы будете знать столько же, сколько и мы. Вы умеете ездить верхом и фехтовать. Это главное для воина. Что же касается чина, то вам неизвестны наши намерения, прибавил он, ударяя на последнее слово, – примите наше предложение и увидите, что не раскаетесь в этом.
Я попытался сделать несколько возражений, но их так живо оспаривали и так убедительно упрашивали меня, что пришлось уступить. Впрочем, в подобное время было не совсем осторожно противиться народным демонстрациям, ибо из благоприятных они могли стать враждебными и обратиться против того, кто не сумел ими воспользоваться. Малейший случай был достаточен для того, чтобы обвинить вас в недостатке патриотизма и смотреть на вас как на подозрительного.
Таким образом, я и отправился с новыми моими товарищами в то место, где должны были происходить выборы офицеров для этого артиллерийского отряда. Очень удивлен был я, когда увидел тотчас по моему прибытию, что все собрание выбрало меня президентом, а одного из друзей моих – секретарем. К нам присоединили 4 счетчиков голосов, и выбор начался с должности капитана. Удивление мое еще более возрастало, ибо я не замедлил убедиться, что все голоса клонились в мою пользу. Это меня тронуло и польстило мне; но чувствуя себя неспособным исполнять должность, о которой не имел ни малейшего понятия, я старался отклонить от себя честь избрания. Все мои доводы ни к чему не привели; меня обвиняли в излишней скромности и провозгласили против воли. Дядя мой, бывший вместе с нами в то время, избран был лейтенантом, а тот из друзей моих, который исполнял обязанности секретаря, – старшим сержантом. Последний, будучи еще очень молод, не в состоянии был скрыть свой восторг. Это был некто Массон, юноша весьма неглупый и несколько образованный. Он обыкновенно занимался у прокуроров, и я познакомился с ним у того, который вел дела нашего семейства. Наши годы и характеры сходились, и мы скоро тесно сдружились. Он почти каждое воскресенье приходил обедать к отцу моему, который в этот день принимал немногих своих друзей. После одного из таких обедов и случилось с нами рассказываемое мною приключение, которое нас обоих возводило на ступень неожиданных воинских почестей.
Массон был не нашего отдела; он жил на острове Сен-Луи и опасался, что это обстоятельство лишит его избрания; но скоро он успокоился, ибо в те времена на такое обстоятельство не обратили ни малейшего внимания.
Что же касается меня, то на другой день после выборов я поспешил отправиться к одному из сержантов моей роты, который был канониром и как нельзя лучше понимал артиллерийские приемы. Я стал учиться у него, и нескольких уроков было достаточно для ознакомления меня с этого рода службой; но недостаточно было уметь повиноваться, необходимо также уметь командовать. Я более всякого чувствовал необходимость этого, так как сразу попал на высокое место. Поэтому я старался изучить у других товарищей все, что касается артиллерийского дела, наконец, дошел до того, что мог вступить в командование, не рискуя подвергнуться насмешкам.
Правительство, имевшее на нас свои виды, заботилось, впрочем, и само о том, чтобы довершить обучение артиллерийского отдела парижского гарнизона, к которому мы принадлежали: назначено было несколько преподавателей. Когда мы дошли до того что могли порядочно маневрировать, то соединили наши 4 роты: северную, бондийскую, бон-нувель и монконсамбльскую, вооруженные каждые двумя пушками, и приказано было им на обширном поле делать различные эволюции, входившие в состав артиллерийской службы. Выбранное для этого место был бульвар Бонди, где учение проводилось два раза в неделю. Между тем, я несколькими завтраками привлек нашего учителя, старого сержанта канонира, и достиг того, что он занимался мной отдельно, чтобы я мог с честью оправдать звание начальника. Он прилагал к этому делу много старания, а я много доброй воли, так что делал довольно значительные успехи.
Скоро пришлось использовать нас в деле, и когда несколько рот получили приказание отправиться в Вандею, а другие – в Лион, куда направлялись значительные силы, моя роты, бывшая 48, послана была вместе с другой в Бри, где вспыхнуло возмущение, заставлявшее опасаться, чтобы мятежники не попытались сделать из этой провинции новую Вандею.
Опасения эти были совершенно ребяческие, так как если волнение было неожиданно, то, тем не менее, легко было подавить его. Говорили, что 20 ООО жителей Бри и окрестностей Куломье взялись за оружие по голосу духовных лиц, предводительствуемых и поддерживаемых самыми влиятельными личностями страны. Когда мы прибыли, то накануне уже все было окончено, и для усмирения этого страшного возмущения оказалось достаточно гарнизона Куломье, то есть одной роты егерей 16 полка. Рота эта состояла только из 84 человек, но что особенно замечательно, это то, что когда вспыхнуло возмущение, капитан и два лейтенанта были в отсутствии, и младший лейтенант, мальчик не более пятнадцати лет, выступил во главе своего отряда против скопища, которое считали столь многочисленным. Такая смелость имела полнейший успех. Встреча произошла на поле, между Мопертюи и Куломье, и как только увидели, что их атакует слабый отряд кавалерии, они расстроились и обратились в бегство, дав только несколько выстрелов, ранивших, к счастью, весьма немногих. Тогда егеря развернули фронт и погнали перед собой остатки мятежной толпы, которая побросала оружие и без сопротивления дала гнать себя до Куломье, где ее заключили в церковь Сен-Фуа, так как тюрьма была слишком мала для такого большого числа народа. В самом деле тут было всего восемьсот человек: мужчин, женщин и детей.
Когда мы прибыли, то так как опасались возобновления нападения со стороны беглецов, рассеянных накануне, которые, быть может, вздумают попытаться освободить узников, нас выстроили в ряды перед церковью, в которую они были заперты. С нами было шесть пушек, шесть зарядных ящиков и две походные кузницы, каждая с закладкой четырех лошадей, всего же пятьдесят шесть лошадей. Мы зарядили пушки картечью и поставили их перед дверьми церкви, угрожая стрелять при малейшем признаке возмущения.
Такое решительное действие наше имело влияние на толпу и достаточно было для погашения восстания в самом зародыше. Впрочем, мы имели с собой пятьсот человек пехоты и эскадрон кавалерии, что с нашей артиллерийской командой и местным гарнизоном составляло войско около девятисот человек. Такая сила, хорошо обученная и со строгой дисциплиной, была слишком достаточной для усмирения смут, даже более значительных, ибо мы только что видели, как отряд из 80 егерей под предводительством 15-летнего мальчика обратил в бегство бесчисленную толпу, взяв 800 человек в плен. За это молодой герой осыпан был со всех сторон шумными поздравлениями, к которым мы искренне присоединили и наши. Всего неприятнее было положение капитана и двух лейтенантов, когда они вернулись на свой пост, ибо они упустили случай отличиться, которым воспользовался их юный сослуживец.
Когда умы успокоились, то это сосредоточение, слишком обременительное для такого небольшого местечка, было распределено отрядами по окрестностям. Один отряд послан был в Ферте Гоше, другой в Фармутье, третий в Розе ан Бри. Что касается меня, то я остался в Куломье с главными силами. Мы составляли штаб числом около 30 офицеров; мы все вместе обедали и между нами царило полнейшее согласие. Годы мои и странные времена, в которые мы жили – все содействовало тому, что я забывал о дне, когда мне гораздо труднее будет найти себе общество между своими ближними.
Я ревностно занимался моей службой, соблюдал строгую дисциплину, часто делал в моей роте учения, чтобы она не утратила тех немногих познаний, которые имела, и чтобы приучить наших лошадей к маневрам, а также, чтобы внушить к нам почтение в народе на случай, что оставшиеся в среде его недовольные вздумали бы снова произвести возмущение. Но я должен сказать, что большинство горожан благоприятствовало нам; только сельское население вначале несколько косо посматривало на нас, но вскоре и оно к нам привыкло.
Что всего удивительней, это то, что в продолжение 6 месяцев, которые мы пробыли в Куломье, мы не имели с гражданскими властями ни одного важного столкновения, подобного тем, которые почти повсеместно поселяют раздор между властями – военной и гражданской. Между тем революционный комитет в Куломье был весьма странно составлен: президентом его был маленький горбун, до того напыщенный своим званием, что можно было думать, что это-то и раздуло горб его. Эта личность не умела ни читать, ни писать, но это не помешало ему издать приказание, по которому все письма с почты должны были проходить через его руки, прежде чем быть доставляемы по назначению.
В то время я вел большую переписку, как с моим семейством, так и с несколькими друзьями, которых оставил в Париже, так что стал одной из главных жертв произвола горбатого тирана. Ему передали одно письмо, адресованное мне, и он имел дерзость распечатать его; но чему трудно и поверить – это тому, что, так как ни он, ни его сослуживцы не могли разобрать ни слова, то они имели бесстыдство потребовать меня к себе, просить, чтобы я им прочел содержание письма. Признаюсь, я едва сдержал свой гнев и негодование, и вместо объяснений, которых от меня требовали, разразился упреками и жалобами на такое злоупотребление власти, с иронией поздравляя их, что необразованность их, по крайней мере, обеспечивает их скромность. Я угрожал им, что доведу о таких действиях их до сведения моих начальников, которые, наверное, примут мою сторону, и мне удалось напугать их до такой степени, что они отдали мне письмо с просьбой не давать никакого хода делу, в котором с их стороны было ошибочное мнение о добром патриоте.
Я очень рад был, что дело этим кончилось, ибо письмо было от моей матери и содержало несколько сожалений о жертвах той эпохи, которые могли бы не понравиться их безукоризненному цинизму. После того я не мог без содрогания вспомнить об угрожавшей им опасности.
Пребывание мое в Куломье, продолжавшееся шесть месяцев, не ознаменовалось больше никакими другими приключениями. Наконец я получил приказание отправиться в Розеан Бри в качестве временного начальника с двадцатью пятью артиллеристами и тридцатью человеками пехоты под командой подчиненного мне лейтенанта. Там я оставался только три недели, пока меня сменила другая рота. Затем я вернулся в Париж, где мне пришлось принять участие в событии, которое заставило меня горько сожалеть о чине, который мне так приятно было принять. Я обязан рассказать это событие для сына моего как доказательство, что никогда не избегнешь судьбы своей.
Глава IX
Тюремные заговоры
Я приведу в свое время рассказ, о котором упоминает мой отец, но прежде мне необходимо продолжать историю этих времен с той эпохи, на которой остановился журнал Шарля Генриха Сансона.
Юридическая Сен Бартелеми достигла своей апогеи. Страшный способ спасения, называемый Террором, получил те усовершенствования, которых был достоин. Личный состав его доносчиков, судей, присяжных, обвинителей, палачей делал свое дело с невозмутимой регулярностью, и все шло как хорошо устроенная машина.
Те, которые сообщали ему это движение, сами подпали тому обаянию, которое хотели вдохнуть всей Франции. Ни телохранители, ни придворные не препятствовали новым тиранам входить в непосредственные отношения с народом; от них не могли укрыться чувства толпы, и поэтому они могли видеть, что недалеко то время, когда отвращение займет место жалости. Совесть их, вероятно, не осталась нема; быть может, она говорила им яснее их же шпионов; но кровь, подобно вину, производит опьянение и притом более ужасное. Люди 93 года не могли избегнуть того бреда, который побуждает убийцу колоть кинжалом тело, уже давно лишенное им жизни; тайный голос говорил им, что в тот день, когда они допустили пасть головам Дантона и Демулена, они пропустили час отступления. Раз, направившись по этому пути, они шли вперед ослепленные, смущенные, предвидя падение свое, предусматривая пропасть, но все еще под влиянием жажды истребления, которая давала место лишь одному чувству ужаса.
Для этих грозных конвенционистов, перед которыми Европа преклонила уже одно колено, была угроза гораздо более страшная, чем голос их совести, чем негодование общественного мнения; эта угроза заключалась в отсутствии Робеспьера.
Он покинул залы Комитета, не показывался более в Конвенте и только лишь изредка посещал своих друзей якобинцев, господство его было так сильно, что достаточно было ему отвернуться, чтобы возбудить трепет тех, которые избегали его взгляда, чтобы заставить их видеть во сне тени Дантона, Камилла, Фабра, д’Эбера, Шометта и многих других, погибших, потому что этого желал Робеспьер.
Чего хотел он? Что требовал он? По какому пути желал он, чтобы все направилось? Или еще раз требовалось поднести ему головы 73 жирондистов, переживших 31 Октября, и от которых он уже великодушно отказался? Разве нужно было, чтобы те, которые служили его политике в Горе, но которые в то же время думали сравниться с ним в патриотизме и перещеголять его строгостями, пошли, покорные, броситься под колеса колесницы этого Жатерна, где добыл бы он новую дань голов, ему должную? Будет ли это на правой стороне Конвента или на левой?
Подобное сомнение было ужасно и труднее было перенести его, чем немедленную поскрипцию.
На решениях и образе действий комитетов отозвалось волнение, производимое в умах этим сомнением; этому-то волнению, равно как и принципам нравственного порядка, о котором я говорил выше, и следует приписать учащение казней в течение месяцев мессидора и термидора.
Не успев проникнуть в тайны политики Робеспьера, они думали найти спасение в законе прериаля, – обоюдоострое оружие, которое триумвиры дали им в руки лишь в надежде, что они обрежут им пальцы: они стали преувеличивать строгости этого закона. Быть может некоторые, подобно Амару или Вадье в деле красных рубах предполагают, что пролитая кровь всегда падет на настоящих авторов убийственного кодекса; но другие, как Билло, Варенн, Коло и прочие, остаются убежденными, что у них нет помощника вернее смерти, что победа останется за теми, которые ранее других, поднимая кровавое знамя ужаса, дадут республике наибольшее число залогов, и они стараются удлинять списки, доставляемые им луврским комитетом, которому поручено избирать жертвы на другой день.
Со своей стороны партия Робеспьера, которой, конечно, он не сообщал своей сокровенной мысли, не соглашается уступить свое место. Те и другие соперничают страшными патриотическими истреблениями и за все это отвечают несчастные подозрительные; головами их отмечается число очков, выигранных каждой партией. Бессетрскому делу, подготовленному комитетом общественной безопасности, робеспьеристы отвечают делом люксембургским; цифре 74 они могут противопоставить число 154; людям, опозоренным прежними осуждениями – почтенных судей, дворян, священников, важных особ, одним словом, настоящих аристократов.
Это был сладкоречивый Герман, который взял на себя дело привести заговор к концу и выжать из него столько крови, сколько было возможно. Один из администраторов Люксембурга Вуильчерич, который был знаток в этом деле, устроив уже большой заговор Диллона и жены Демулен, значительно содействовал ему в настоящем случае. Вуильчерич приискал себе и помощников; некоего капитана Бойенваля, которого революционная армия признала недостойным оставаться в рядах ее; Басиро, памфлетиста, известного по печальной славе своей жены Оливы, процесса ожерелья; привратника по имени Верней; наконец, бывшего адъютанта Карта Амана, человека, готового на всякое злодеяние. Собравшись на совещание, эти четыре разбойника делают свой выбор; не только знатные имена или качества указывают им лиц для доноса, но тут также играют роль капризы, личная месть и любовные мечты. Этот считается заговорщиком, потому что отказал одному из них понюхать табаку из своей табакерки, тот – потому что не был щедр в отношении к привратнику; третий – потому что он муж женщины, которую Бойенваль удостаивал своим вниманием; все, наконец, потому, что питали сокровенное желание не сгнить в темнице и не погибнуть на гильотине.
И все это история, но когда пишешь ее, то невольно думаешь, что все это сон.
Когда число заговорщиков достигло число 154, то остановились; такой итог казался достаточным для первого опыта и умение Бойенваля и K° приберегли для другого раза. Составленный таким образом список, во имя комитета общественного спокойствия послан прямо из полицейского бюро, в котором председательствовал Герман к Фукье Тенвиллю, чтобы он был представлен Луврской комиссии и комитету общественной безопасности.
В это время твердый Фукье подвержен был обморокам, правда, чисто нервным; несколько дней перед тем он рассказывал одному из членов комитета, что по дороге в Тюльери ему показалось, что Сена течет кровавыми струями, и пока он говорил это, собеседник его увидел, что он стал бледнее смерти и волосы стали дыбом на голове его. Действительно ли он уступал болезненному расстройству мысли или хотел возобновить хитрость, употребленную им в дело при бессетрском процессе, но в заговоре Люксембурга он имел мысль судить одним разом всех 154 обвиненных и велел для этой цели построить в зале Свободы особую эстраду, ступени которой достигали до потолка. Комитет общественного спокойствия, в котором в отсутствие Робеспьера господствовал Кутон, во имя триумвирата призвал к себе Фукье и приказал ему отказаться от мысли об эстраде.
Люксембургские заговорщики разделены были Германом на три категории, которые должны были быть судимы в три заседания.
Первая категория предстала на суд 19 мессидора; или Фукье хотел искупить неудовольствие, причиненное им робеспьеристам, или же пример Германа увлек его, но никогда, даже перед революционным трибуналом, ни одно дело не было ведено с таким пренебрежением самой обыкновенной справедливостью. Выступает обвиненный по фамилии Морен, но имя, несхожее с тем, которое только что прочел Греффье; он протестует; Фукье читает обвинительный акт, исправляет имя и требует, чтобы осудили Морена, присутствующего на заседании; одного привратника по имени Лесенн он приказывает заключить в тюрьму за ложное свидетельство, так как он мужественно объявил, что заговор существовал лишь в воображении доносчиков. Призвали этих доносчиков; их показания тем более оказались точными, что будучи ложными, заблаговременно согласованы ими между собой во всех подробностях. На скамьях находилось 59 обвиняемых. И 59 отправлены на гильотину.
21 мессидора пришел черед второй категории, тут было 50 обвиненных. Заседание было тем замечательно, что двое были оправданы: один из них был, правда, мальчик 14 лет. В числе осужденных находилось семейство Малесси, состоявшее из отца, матери и дочери.
Третью категорию люксембургских заговорщиков судили на второй день, 22 мессидора. В этой категории находился Лекрер де-Бюффон, сын знаменитого естествоиспытателя; когда он взошел на эшафот, то остановился на платформе и воскликнул с тоном упрека: «Я сын Бюффона». Другой, Карадек де ла Шалоте, находился в признанном всеми состоянии умопомешательства.
Начиная с 15 мессидора, число ежедневных жертв никогда не падает ниже 30, а иногда даже достигает цифры 60. Все славные имена прежней монархии занимают свои места в мартирологе; но не без удивления замечают, и это характеризует страшное увлечение, господствовавшее при этих осуждениях, что имена простого народа, бедняков, солдат, земледельцев, почти постоянно составляют большинство смертного списка. Действительно ли эти люди дали законные поводы к строгостям революции в отношении к ним, которых она хотела освободить? Едва ли. Если элемент пролетариев и бедных достиг такой значительной пропорции в некрологе Террора, то это лишь доказывает, что личная ненависть при содействии доносов должна была давать эшафоту столько жертв, как и патриотические увлечения; революция предоставляла власть низшим классам общества; но как в этих, так и в верхних слоях власть эксплуатировалась теми же страстями. Донос служил верным и удобным способом избавить от врага, соперника, а нередко и от друга; между подозрением и гильотиной стояло одно лишь слово Фукье Тенвилля. Весьма многие не могли устоять против искушения безнаказанно удовлетворить своим неприязненным чувствам или своей зависти, и таким образом в эту горестную эпоху нельзя было даже рассчитывать на незначительность или низкое положение свое в обществе, чтобы избежать гильотины.
Способ, которым очистили люксембургскую тюрьму, довольно хорошо удался и не замедлили применить его и к другим местам заключения; число заключенных превышало цифру 8 тысяч. Снова бюро Германа приняло или скорее возбудило доносы и два новых представления комедии или вернее трагедии Люксембурга привели на скамьи трибунала 51 лицо из тюрьмы Кармской и 77 – из Сен-Лазарьской.
На другой день, 6 термидора, настала очередь сен-лазарских заключенных. Лепщик по имени Манини и слесарь Фокери были агентами-подстрекателями этого заговора. Они, впрочем, не обладали искусством Бойенваля и Босира. Они утверждали, что им обещали большие деньги за то, чтобы они согласились перепилить решетки одного окна первого этажа. Басня эта представлялась нелепой с первого же взгляда, ибо это было единственное окно, снабженное такими решетками, и потому предпочтение заключенных к этому именно окну было, по крайней мере, весьма неловким. Окно это, правда, находилось против террасы, с которой было легко спуститься в поле, но оно отделялось от нее открытым пространством в 25 футов, и часовой стоял день и ночь именно под решетчатым окном. Они старались облегчить несообразность своей басни удостоверением, что заключенные имели в виду не только выйти на свободу, но и намеревались перерезать всех членов комитетов, Конвент, национальную гвардию, а может быть и всех французов. Такое заверение избавляло их, конечно, от всяких вероятностей. В довершение своей неловкости они выставили главами заговора заключенных без всякого значения, что не избавляло трибунал от упрека, что он приносит в жертву простолюдинов, а оказывает снисхождение высшим классам – упрек, который ему сделали только что в Конвенте. Герман исправил такую оплошность, дал подстрекателям в помощь двух шпионов, которых правительство содержало в Сен-Лазаре. Этим способом получили список более приличный.
7 термидора снова заговор лазарской тюрьмы доставил жертв на эшафот. Уже не только знатные особы занимают скамьи осужденных: аристократия таланта имеет тут своих представителей в лице Андре Шенье и Руше. Первому было всего 31 год. Не на эшафоте, а входя в суд, Шенье воскликнул, ударив себя по лбу: «А между тем у меня тут что-то было». Он простился с жизнью гораздо ранее, чем произнесен был приговор. Он слишком хорошо знал тех, которых называл палачами-законописцами, чтобы считать их способными на великодушие, надеяться, что они простят поэту, стихи которого навеки их пригвоздили к позорному столбу. Вместе с Шенье и Руше, барон Тренн окончил на эшафоте 70-й год своей романической жизни, исполненной приключениями. Знаменитость другого рода, советник Гесман, герой памфлетов Бомарше, тоже принадлежал к этой категории. В числе 24 осужденных замечательны также маркизы Монталамбер и Рокилор, герцог Креки, граф Бурдель и др.
Другие, осужденные вторым отделением трибунала, вместе с 22 сен-лазарского заговора составляют цифру казненных 8 термидора – 53.
9 термидора оба отделения собрались на заседание; на скамье первого было 25 обвиненных, на скамье второго – 22. Как в том, так и в другом отделении толпа народа была значительно менее обыкновенного. Инстинкт сказал народу, что в Тюльери разыграется драма более ужасная, чем там, и толпа теснилась на Гревской площади, где было заседание коммуны и в Национальном саду, на улицах, прилегающих к залу Конвента. Судьи и присяжные казались мрачными и неспокойными, от времени ко времени им передавали бумаги, и, просматривая их, они становились еще более озабоченными. Несмотря на всеобщее невнимание, прения шли своим порядком. Присяжные удалились для совещания. Принадлежащие к первому отделу скоро вернулись, и Девез прочел решение, объявлявшее, что все обвиненные, за исключением Луи Жозефа Авиа-Тюро, земледельца, признаются виновными. Президент приготовил смертный приговор, когда внезапно дверь отворилась, вошел агент Конвента в сопровождении жандармов и прочел Дюма декрет о его аресте.
В то же время осужденные услышали распространившийся в публике слух, что Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон также арестованы, и заметно было, что судьи и присяжные также были все бледны, как будто им только что прочли смертный приговор.
Луч надежды несколько облегчил их волнение. Один из всех, тут находившихся, Фукье оставался бесстрастным; что ему было за дело до господина, лишь бы ежедневная жатва была обильна) Он подал знак; трое присяжных преодолели свое волнение и произнесли приговор; жандармы увели осужденных. В темных коридорах, ведущих к Консьержери, они догнали сплошную массу, из которой слышались сдержанные рыдания. Это были 22 осужденных второго отделения, приговоренных к смерти, кроме одного: обе толпы смешались и продолжали спускаться. Они шепотом говорили о том, что слышали и ждали с трепетом, что товарищи их подадут им надежду на спасение жизни.
Перед ними открылась дверь и их втолкнули в зал, где они увидели несколько человек, ожидавших их – это были палач и его помощники.







