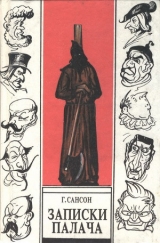
Текст книги "Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции, книга 2"
Автор книги: Анри Сансон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
Лакруа советовал Дантону растрогать народ, и народ был уже более чем растроган; все сердца трепетали и в зале и вне его, ибо мощный голос трибуна через открытые окна проникал дальше Сены. Судьи были ошеломлены; Герман напрасно приводил в движение свой колокольчик. «Разве ты не слышишь меня?» – сказал он Дантону.
«Голос человека, защищающего свою жизнь и честь, должен покрывать звуки твоего колокольчика», – отвечал Дантон.
Под предлогом, что он должен быть утомлен, ему не позволили продолжать. Герман допросил Геро де-Сешеля относительно переписки его с Демуленом, об участии, которое он принимал в отступлении пруссаков. Он возобновил старое дело о воровстве – орудие весьма уже ослабленное жирондистами, против которых оно служило.
Перейдя к Демулену, он обвинил его в попытке унизить своими статьями народное представительство.
Он сказал: «Я представлю образчик безжалостных насмешек, с которыми вы нападали на декреты самые благонамеренные». И он начал читать красноречивый памфлет, основанием которого служило негодование Камилла при издании закона о подозрительных.
«Приходилось высказывать радость при смерти друга или родственника, чтобы не подвергнуться опасности погибнуть самому. При Нероне многие из тех, родных которых он умертвил, благодарили богов и зажигали иллюминации. Приходилось, по крайней мере, иметь внешний вид открытый и спокойный и опасались, чтобы сама боязнь не сочлась за преступление».
«Все возбуждало подозрение тирана. Если кто из граждан становился популярен, – его считали соперником государя, могущим возбудить междоусобную войну. Если же, напротив того, вы стали бы избегать такой популярности, не отходя от своего домашнего очага, то эта уединенная жизнь обращала на вас внимание, и вы становились подозрительным».
«Если вы были богаты, то представлялась опасность, чтобы народ не был подкуплен вашей щедростью. Опять подозрение»
«Если вы были бедны, то тем более были причины непобедимому императору бдительно наблюдать за вами. Самые предприимчивые люди всегда те, которым нечего терять».
«Если у вас был характер мрачный и меланхолический, то утверждали, что именно вас беспокоит благополучное течение общественных дел».
«Один страдал из-за имени своего или своих предков, другой из-за красивого летнего жилища своего; Валерий азиатский из-за того, что сады его приглянулись императрице; Статиций из-за того, что лицо его не понравилось ей; наконец, многие пострадали без того, чтоб когда-либо узнали причину тому».
«…Каковы обвинители, таковы же были и судьи. Трибуналы – покровители жизни и собственности, превратились в бойни, где то, что носило название казни и конфискации, было только убийством и грабежом».
«Тот, который высказал столько смелости на бумаге, не имел ни того личного мужества, которым обладал Дантон, ни твердости Филиппо и Лакруа; он не отрекся от того, что писал, но не высказал великодушное чувство, руководившее им, – а в этом и заключалась вся слава его».
Герман ставил в вину как Лакруа, так и Сешелю знакомство их с Дюмурье; он привел объяснения, вырванные у Мячинского, надеждой продлить несколькими днями жизнь свою.
Лакруа потребовал вызова свидетелей, объяснив, что те, кого он выставит не возбудят подозрений, ибо он возьмет их из среды самого Конвента.
Фукье дал ему на это ответ, замечательный по бесстыдству софизма, на котором основано было возражение. Он сказал:
«Так как вы требуете от меня формального ответа, то я объявляю, что согласен на допрос ваших свидетелей, кроме тех, однако, которых вы бы призвали из среды Конвента; в этом отношении я должен заметить, что обвинение против вас, вытекая из всей массы Конвента, возбраняет каждому из членов его стать свидетелем с вашей стороны; ничего не было бы смешнее как предполагать, чтоб ваши же обвинители, и притом лица, облеченные вашей властью, стали содействовать оправданию вашему, тогда как они обязаны действовать лишь в пользу интересов народа и ему только обязаны отчетом в своих действиях».
Тем не менее, Фукье обещал представить это на разрешение Конвента, и затем стали продолжать допрос. Вестерман, подобно Лакруа, изобличенный показаниями Мячинского, весьма основательно заметил, что ему следовало дать очную ставку с его обвинителем тогда, когда тот еще был в живых.
Дело принимало оборот неблагоприятный для тех, которые решились погубить Дантона и приверженцев его; и на заседании 14 числа их беспокойство было очень сильным. Дантон говорил все с большей энергией, его известность, столь необыкновенная стойкость обвиняемого перед трибуналом, наводившим трепет на всех и каждого, – все это привлекло огромную толпу слушателей, и при каждом восклицании этого мощного голоса слышно было, как в плотной толпе пробегал ропот, верный предвестник народного волнения и тех неудержимых рукоплесканий, которые могли прервать заседание и сделать осуждение невозможным. Присяжные стали беспокоиться один из них, Ноден, сказал даже: «Невозможно, однако, отказать ему в допросе его свидетелей»
Заседание поторопились закрыть, Фукье поспешил в комитеты, Герман отправился к Робеспьеру этот, следуя всегдашней осмотрительности своей, запер свои двери; более раздраженные, оставшиеся Тьюлери одни, стали угрожать Фукье, который осмеливался сделать предложение, чтобы удовлетворили требование обвиненных.
Герман и Фукье составили письмо, которым при первом ропоте Дантона или его приверженцев должны были потребовать содействия Конвента; и в эту самую ночь пришла мысль превратить в заговор то глухое волнение, которое из города перешло и в тюрьмы.
Со своей стороны, обвиняемые ясно видели, что общественное мнение на их стороне, и что почва под их ногами становится тверже; мужество возвращалось к слабым, смелость необузданных приобретала еще большей силы, предвидя близость торжества. В начале заседания 15 числа требования их о вызове свидетелей стали более настоятельны и даже повелительны.
Раздались крики, брань, всеобщий шум – то есть все то, чего только и ожидал Фукье. Он вынул приготовленное письмо, громким голосом прочел его и тотчас отправил в комитеты.
Письмо было следующего содержания:
«Страшная буря разразилась с самого начала заседаний. Обвиняемые требуют, чтобы выслушали свидетелей в их пользу, депутатов: Симона, Куртуа, Леньело, Паниса, Фрирона, Ленде, Калона, Мерлена, Госсюэна, Лежандра, Робена, Групильо, де-Монтегю, Роберта Линде, Лекуентра, Бриваля и Мерлена Тионвилльского; они взывают к народу, полагая, что их требование не удовлетворяется; несмотря на твердость президента и всего трибунала, их настойчивые требования препятствуют заседанию, и они громко объявляют, что не замолкнут, пока не допросят их свидетелей или не издадут формальный декрет; – поэтому мы просим определенно указать нам, как действовать по такому требованию, так как судебный порядок не дает нам никакого повода к отказу».
Одновременно с этим письмом комитет получил известия из тюрем.
По этому предмету существует два мнения: одни полагают, что Люксембургский заговор был вполне делом агентов – подстрекателей, которых полиция содержала в тюрьмах. Другие же утверждают, что действительно существовала мысль о восстании и что мысль эта возбуждена была великодушной Люсиль. Бедная женщина, отвергнутая Робеспьером, отказавшим принять ее, обезумев от горя, составила план броситься в среду народа и потребовать от него спасения первых проповедников свободы. В тревожном состоянии своем, ревностно отыскивая заступников для своего Камилла, она сообщила о своем намерении Диллону, другу своего мужа, содержавшемуся в Люксембурге; она умоляла его оказать ей содействие; она возбудила опасения его за повторение сентябрьских событий; она подкрепила его мужество, спросив его: неужели он выкажет менее энергии, нежели женщина? Диллон же доверился одному негодяю по имени Лафлот, который на другой же день и донес на него.
Донос, переданный привратником Люксембурга полицейским чиновникам, отправлен был Вичеричем в комитет общественной безопасности.
Имея в руках эти два документа, Сен Жюст взошел на кафедру и чтоб легче добиться гибели врагов своих, он позволил себе даже бесстыдную ложь относительно письма Фукье. Он начинает так: «Публичный обвинитель революционного трибунала уведомил, что возмущение обвиняемых прервало заседание суда до тех пор, пока Конвент не примет надлежащие меры». Затем, предупреждая верховное решение присяжных, он продолжает: «Разве когда-либо невинный возмущался против закона? При такой дерзости их не требуется уже других доказательств их преступных деяний… Несчастные! Сопротивляясь закону, они тем самым сознаются в своих преступлениях». После того он изображает фантастическую картину опасностей, угрожающих отечеству; он вызывает тень Катилины; он называет обвиняемых коноводами тюремного заговора; письмо Вичерича прочитывается одним из секретарей, и Конвент принимает следующий декрет:
«Национальный Конвент, выслушав рапорты своих комитетов общественного спокойствия и общественной безопасности, постановляет, чтобы революционный трибунал продолжал следствие по предмету заговора Лакруа, Дантона, Шабо и других, чтобы президент употреблял представленные ему законом меры для внушения должного к нему и революционному трибуналу уважения, и для прекращения всякой со стороны обвиняемых попытки к нарушению общественного спокойствия и преграждению правильного течения правосудия.
Определяется, что каждый из обвиняемых в заговоре, который будет сопротивляться или оскорбит народное правосудие, немедленно будет изъят из прений».
Трое из членов комитетов: Амар, Вулан и Давид, в пылу ненависти своей к Дантону, вызвались передать этот бесчеловечный декрет революционному трибуналу. Луи Блан говорит, что Вулан, передавая декрет Фукье-Тенвиллю, воскликнул: «Они в наших руках, разбойники! Вот что облегчит ваше дело». А Фукье, родственник Камилла Демулена, которому был обязан местом своим в революционном трибунале, отвечал с улыбкой на устах: «Да, нам это было нужно!»
Мишле утверждает, что эти три члена Конвента, не могли воспротивиться желанию своему порадоваться отчаянию своих врагов; в то время когда Фукье читал декрет, они показали лица свои у окошка печатника Никола, комната которого помещалась за скамьями присяжных. Дантон узнал их и воскликнул, показывая их Демулену: «Посмотри на этих подлых убийц, они преследуют нас до самой смерти».
Чтение доноса Лафлота, присоединенного к декрету, еще усилило отчаяние несчастного Камилла. Доносчик объявлял, что жена Демулена предлагала Диллону тысячу экю, чтобы задобрить публику в революционном трибунале; несчастный понимал, что это был смертный приговор Люсиль, и при одной мысли об этом он воскликнул, ломая руки: «Чудовища! Им мало убить меня, они хотят умертвить и жену мою!»
Дантон вскакивает на скамью свою: резкими отрывистыми фразами, отличавшими его красноречие, он то взывает к совести судей и присяжных, то дает волю своему негодованию и предает проклятию тиранов; предрекая будущее, он восклицает: «Бесстыдный Робеспьер, эшафот ожидает тебя! Ты не останешься безнаказанным! Ты последуешь за мной!» Наконец, обращаясь к народу, он спрашивает, неужели народ допустит совершиться беззаконию, он убеждает его объявить, требовал ли он чего другого, кроме применения принадлежащего каждому обвиняемому права призывать свидетелей своей невиновности. Лакруа говорит: пусть нас ведут на эшафот; мы уже довольно жили, чтобы умереть со славой! Народ волнуется и ропщет. Герман угрожает. Камил высказывает ему оскорбительные дерзости и, разрывая бумагу, на которой приготовил свою защиту, бросает куски ее перед судилищем. Тогда Фукье-Тенвиль, поднявшись с места, требует исполнения декрета Конвента; судьи решают, чтобы обвиняемые были изъяты из прений и по приказанию президента жандармы входят, чтобы увести их в Консьержери.
Это совершилось не без труда. Дантон, стоя на скамье с разгоревшимся лицом, разражался в самых резких апострофах; Лакруа уничтожал Фукье своими сарказмами; Вестерман не переставал произносить самые страшные ругательства; Камилл Демулен, ухватившись за спинку скамьи обвиняемых, защищался против тех, которые хотели увлечь его; трем жандармам едва удалось справиться с ним. Фабр д'Еглантин, бывший больным с самого начала процесса, встал со своего места и воскликнул: «Смерть тиранам!» Наконец успели вывести их всех, и впечатление было столь сильно, что после выхода их в зале воцарилось на несколько минут мрачное молчание, которого никто не смел нарушить; президент, судьи, присяжные – все, бледнее смерти, – смотрели друг на друга, как ошеломленные. Наконец, по требованию Фукье, присяжные объявили, что они имеют достаточное понятие о деле; Герман сделал вывод из прений и присяжные удалились для совещания. Они вернулись в 3 часа утра и объявили решение свое, которым все обвиняемые, кроме Люллье, признавались виновными; трибунал приговорил их к смерти и Фукье потребовал, чтобы вследствие тех насильственных действий, в которых они оказались виновными, приговор этот объявлен был им в тюрьме.
Глава IV
Продолжение журнала Генриха Сансона
16 жерминаля. Согласно полученному от Фукье приказанию я оставался вчера до самого вечера в доме правосудия. Не имея возможности, как в предшествовавшие дни, войти в зал Свободы, где разбиралось дело граждан депутатов и где стечение народа было значительнее, чем когда-либо, я вернулся в 9 часов. Сегодня утром я пришел в Консьержери, и у самого входа один из жандармов, ударив меня по плечу, сказал: «Сегодня тебе крупная пожива!», а Ривьер прибавил: «Они все осуждены». Он ошибался, ибо Люллье был оправдан, но он был так ничтожен, что позволительно было забыть о нем. У Ришара уже было много народа, чтобы видеть, как будут выходить осужденные; это, вероятно, были зрители из важных особ, ибо тюремные ворота еще не были открыты, и они, вероятно, провели тут ночь. Войдя во двор, чтобы пройти в трибунал, я встретил Роберта Вольфа, который пригласил меня идти с ним. В его комнате занимались помощник его Дюкрей и еще другой чиновник; Фабриций Парис ходил взад и вперед по комнате. Глаза у него были красные, он весь был расстроен, бледен и губы его дрожали, как в лихорадке. Увидев меня входящим, он взял шапку и сказал: «Я ухожу». Дюкрей обернулся к нему и спросил: «Ты подпишешь?» «Нет, тысячу раз нет, – возразил Фабриций, – скорее дам отсечь себе руку». Он ушел со слезами на глазах. Это меня не удивило, ибо он был большой приятель Дантона, и мужество его весьма обрадовало меня. Фукье, двоюродный брат Демулена, оказавшего ему немалые услуги, смотрел на дело иначе. Скоро пришли Леско Флерио, помощник обвинителя и двое администраторов из департамента. Леско спросил меня, тут ли мои тележки, и я ответил ему, что сейчас будут; тогда он приказал мне сойти вниз и ждать, что я и исполнил.
Уже прошел добрый час, когда жандарм пришел за мной от имени обвинителя. В кабинете его я нашел многих граждан, в числе которых узнал представителя старика Вадье, и товарища его Амара, Коффингала, Артура, Германа и других, имена которых были мне неизвестны. Хотя Фукье находился налицо, но приказания отдавал мне Леско Флерио. Он объявил мне, что осужденные возмутились против трибунала, и должно предполагать, что возмутятся и против исполнений приговора, я не должен был забывать, что господство должно было оставаться на стороне народного правосудия; для предупреждения борьбы со всей массой осужденных, мне выдадут их поодиночке; я должен схватить их как только они покажутся и связать насильно или добровольно; для содействия же мне в случае надобности будет находиться отряд решительных жандармов. На вопрос гражданина Амура о том, крепки ли мои лошади, другой помощник обвинителя Лиендон отвечал утвердительно, а Леско Флерио добавил, что в случае, если бы осужденным удалось взволновать народ, тележки мои должны были ехать, рысью или в галоп вместе с конвоем, и что в случае нужды жандармы употребят в дело свое оружие для того, чтобы лошади бежали скорее. Он сказал еще, что на площади все должно быть исполнено быстро, и что республика будет спасена лишь тогда, когда падут головы осужденных. Потом зашла речь о числе нужных тележек. Я назначил три, Леско объявил, что достаточно было двух; Коффингал же полагал, что надо употребить только одну; ибо в случае, если толпа вздумает освободить осужденных, конвою легче будет защищать одну тележку, нежели несколько. Тут некстати было объяснять те мучения, которые терпят осужденные, стесненные на одной тележке, но я заметил, что если сбудутся опасения Леско Флерио и если придется ехать скорее, то помощники мои, которые идут пешком, не поспеют на свои места к гильотине; наконец решили использовать две тележки и мне позволили удалиться после того, как Лиендон повторил мне все наставления своего товарища.
У самого выхода я нашел множество жандармов и несколько канониров революционной армии. Они составили густую цепь вдоль решетки, разделявшей выход от первой комнаты. Спустя полчаса мимо их рядов прошел Табо; он казался совсем убитым и едва мог идти; причиной этому, вероятно, были, как страх, так и страдания, ибо он в Люксембурге принял яд, чтобы отравиться. Он как будто удивлялся и беспокоился, что видит себя одного среди нас, и несколько раз прошептал: «А другие?». Его связали и обрезали волосы; еще не закончили эту операцию, как явился Базир. Табо встал и побежал к нему, приближая лицо свое, чтобы поцеловать его. Он грустным голосом, в котором слышалось слез больше, чем видно было их на глазах, сказал: «Бедный Базир, из-за меня ты должен умереть». Базир прижал его к груди, не говоря ни слова.
После того привели обоих Фрей, народного представителя Делоне, бывшего аббата Эспаньяка и Дидериксена; их вызывали в приемный покой, не говоря для какой надобности, прочитывали им приговор и потом переводили в ту комнату, где мы их ожидали. После них один за другим явились Филиппо, Лакруа, Вестерман и Фабр д'Еглантин; два тюремщика поддерживали последнего, который, по-видимому, был болен. Во время приготовления к казни он объявил, что имеет еще сообщение самому Фукье или одному из помощников его; но ему ответили, что это невозможно. Тогда Фабр сердито топнул ногой, воскликнув: «Недостаточно зарезать меня, нужно еще и ограбить того, кого умерщвляют». Потом, возвышая голос, он прибавил: «Я торжественно протестую против действий негодяев, заседающих в комитетах, которые украли у меня и удерживают у себя комедию, совершенно непричастную к делу». Лакруа глядел на всех мрачным взором. Филиппо был совершенно спокоен.
Фабр еще говорил, когда мы услышали большой шум. Раздался голос Дантона и все смолкли, чтобы лучше слышать слова его. Живость, с которой он выражался, препятствовала пониманию всех слов его, и часто они походили на рычание. Но ясно было слышно следующее: «Я знать не хочу твоего приговора и не хочу слушать его; нас, революционеров, судит потомство, и оно поместит мое имя в Пантеон, а ваши имена в гемонии».
Когда Дюкрей возобновлял чтение, он опять прерывал его, горячась и все более и более разражаясь бранью против тиранства, против трибунала, который он называл местом непотребства, против народа, который обвинил в глупости. Его не могли заставить замолчать, и Дюкрей должен был закончить чтение без того, чтобы его слушали; наконец, Дантон тюремщиками и жандармами выведен был к нам. Как только он увидел нас и других осужденных уже связанных, лицо его вдруг совершенно изменилось, и нельзя было вообразить, что это тот самый человек, если бы он не был запыхавшийся от только что вынесенной схватки. Он принял вид совершенно равнодушный, почти холодный; спокойными шагами приблизился ко мне, опустился на стул и сорвал ворот своей рубашки, сказав мне: «Делай свое дело, гражданин Сансон». Я сам приготовил его; волосы у него были жесткие и крепкие, как щетина. В это время он продолжал говорить, обращаясь к своим друзьям; он сказал: «Это начало конца; они теперь станут казнить представителей кучами; но в этом не заключается сила. Комитеты, управляемые безногим Кутоном и Робеспьером… если б я еще мог оставить им свои ноги, они бы еще некоторое время продержались… но нет… и Франция проснется в потоках крови и…» – спустя некоторое время он еще воскликнул: «Мы сделали наше дело, пойдем спать».
Геро де-Сешеля и Камилла Демулена привели вместе. Первый казался совершенно равнодушным, второй плакал и говорил о своей жене и ребенке такими словами, которые невольно вызывали слезы; но как только увидал он нас, он так же быстро преобразился, как и Дантон, но совершенно в другом смысле; он бросился на прислужников, как будто он был палач, а они осужденные; он оттолкнул и стал бить их; одежда его разорвалась во время схватки, для прекращения которой пришлось принять участие жандармам. Он был невысокого роста, не особенно силен, но, тем не менее, сопротивлялся так же долго, как самый сильный мужчина. Правда, это была одна из таких минут, когда душа человек переходит в мускулы его. В одну минуту вся одежда его была разорвана в клочья. Чтобы обрезать ему волосы, пришлось держать его силой на стуле четверым; то он кидался вперед, то бросался назад, толкая державших его, из которых двух или трех свалил на землю. В борьбе он бранил нас, не переставая: друзья пытались успокоить его; Фабр словами весьма нежными, Дантон повелительным голосом; последний сказал ему: «Оставь этих людей, зачем трогать служителей гильотины? Они исполняют свое ремесло, исполняй и ты свой долг». Тогда слезы градом полились из глаз Демулена и он воскликнул: «Люсиль, ко мне, Люсиль!» Как будто несчастная жена могла услышать его. Видя, что она не идет к нему, он как бы хотел сам идти к ней и усилия его, а с ними и борьба, возобновлялись с новой силой.
Наконец все было готово. Дюкрей, остававшийся все время тут, подал сигнал к отправлению. Каждого осужденного поместили между двумя жандармами, а остальные жандармы составили цепь. В таком порядке мы вышли из тюрьмы.
Представители и Вестерман поместились на первой повозке; я сел на передок; Генрих и один из помощников сзади; на вторую повозку сели четыре помощника с остальными осужденными. Конвой был такой же многочисленный, как у королевы и жирондистов. Дантон стоял в первом ряду позади меня; рядом стоял Геро де Сешель; потом Фабр, Камилл и Филиппо; один Шабо сел, и, по-видимому, он очень дурно себя чувствовал, ибо его рвало несколько раз во время пути. Базир наклонился к нему, помогая поддерживать его и стараясь подкрепить его мужество.
В ту самую минуту, когда двинулись в путь, Дантон воскликнул: «Дурачье, на нашем пути они будут кричать: „Да здравствует республика!“, а между тем через два часа у нее уже не будет головы».
Когда въехали на бульвар, Камилл Демулен предался отчаянию. «Разве вы не узнаете меня, – восклицал он, высовываясь из повозки, – меня, пред голосом которого пала Бастилия? Не узнаете вы меня? Я первый проповедник свободы: статуя ее скоро будет обагрена кровью одного из ее сынов. Ко мне, народ 14 Июля, не допусти, чтобы меня умертвили».
Ему отвечали ругательствами; тогда он пришел в еще большее ожесточение и я опасался, чтобы он не бросился под колеса повозки. Помощник должен был приблизиться к нему, чтобы обуздать его; ему угрожали, что прикуют его к повозке, но напрасно. Дантон, ясно видя, что народ, который окружал их, даже не тронется, нагнулся через Филиппо и сказал Камиллу: «Замолчи, неужели ты надеешься растрогать всю эту сволочь?», а Лакруа говорил: «Успокойся, старайся, лучше внушить им уважение, чем возбуждать их сострадание».
Дантон был прав; выезжая из Консьержери, мы были окружены тем народом, который ожидал нас тут по приказу; толпа окружила конвой плотной массой и все время издавала такие громкие восклицания, что для граждан, стоявших вдоль домов или у окон, не было никакой возможности расслышать слова осужденных.
Проезжая перед кофейной, мы увидели сидящим на подоконнике одного гражданина, который срисовывал осужденных. Эти все подняли головы и прошептали: «Давид!». И действительно, я узнал его по кривому рту. Дантон возвысил голос и воскликнул. «Вот и ты, лакей; поди, скажи своему господину, как умирают воины свободы!» Лакруа также крикнул ему и назвал его негодяем, но Давид продолжал рисовать.
В доме Дюплея все было заперто, двери, окна и ставни. Осужденные давно уж искали дом этот и, подъехав к нему, разразились насмешками перед этими немыми и мрачными стенами. «Низкий тартюф!» – говорил Фабр; Лакруа кричал: «Негодяй! Он прячется, как прятался и 10 августа!» Камилл говорил: «Чудовище, почувствуешь ли ты еще жажду, напившись моей крови; чтобы опьянеть, понадобится тебе еще кровь жены моей?» Голос Дантона покрывал все эти голоса; лицо его, обыкновенно красное, делалось фиолетовым, пена показывалась у рта, и глаза сверкали как уголья. «Робеспьер! – восклицал он, – ты напрасно прячешься; придет твой черед и тень Дантона возрадуется в могиле, когда ты будешь на этом месте». Ко всему этому он прибавлял страшнейшие ругательства.
До самой гильотины Дантон был все тот же. Переходя от сильнейшей горячности к спокойствию самому тихому; то раздраженный, то насмешливый он все время был до того тверд, что тот, кто бы взглянул только на него, мог бы подумать, что печальная повозка, на которой я вез его – это колесница триумфатора. Когда мы въехали на площадь, он увидел эшафот; краска с лица его исчезла, и глаза наполнились слезами. Внимание, с которым я смотрел на него, по-видимому, ему не понравилось; он грубо толкнул меня локтем и сказал мне с досадой: «Разве у тебя нет жены и детей?» На утвердительный же ответ мой он возразил: «И у меня есть! Думая о них, я снова делаюсь человеком». Он опустил голову, и мы услышали, как он прошептал: «Добрая жена моя, так я тебя и не увижу». Повозка остановилась и привела его в себя; он судорожно встряхнул головой как бы желая освободиться от неуместной мысли и сошел на землю, говоря: «Дантон, прочь всякое малодушие».
Делоне, Шабо, Базир, оба Фрея, Гуинак, Дидерихсен, Эспаньяк казнены были первыми.
Когда вошел на платформу Камил, то остановился предо мной и спросил, хочу ли я оказать ему последнюю услугу: я не имел времени ответить ему, но по лицу моему он понял, что мог на меня рассчитывать; он просил меня взять из руки его локон волос и отнести матери жены его, госпоже Дюплесси. Он плакал, говоря эти слова, и я чувствовал, что и у меня навертывались слезы. В это время подымали нож, поразивший Шабо; он взглянул на окровавленное железо и сказал вполголоса: «Моя награда, моя награда».
Взглянув на небо, он дал отвести себя на скамью, повторил несколько раз имя Люсиль, потом я подал знак, и нож опустился.
Фабр, Лакруа, Вестерман и Филиппо казнены были после Камилла, Вестерман крикнул несколько раз: «Да здравствует республика!» Фабр говорил самому себе: «Сумеем умереть», но волнение его было весьма сильно, и с трудом мог он обуздать его. Лакруа хотел говорить народу, но мы имели приказание препятствовать этому, и помощники мои увлекли его.
Потом взошел Геро де-Сешель, а с ним и Дантон, не ожидая, чтобы его позвали и без того, чтобы кто-либо посмел воспрепятствовать ему. Помощники уже схватили Геро, когда Дантон подошел, чтобы обнять его, и Геро не мог уже проститься с ним. Тогда Дантон воскликнул: «Глупцы! Разве вы помешаете нашим головам поцеловаться в мешке».
Он со свойственным людям его закала хладнокровием присутствовал при казни своего друга; ни один мускул лица его не дрогнул. Еще нож не был очищен, как он уже приблизился; я удержал его, приглашая отвернуться, пока уберут труп, но он пожал плечами с презрительным выражением, говоря: «Немного больше или меньше крови на твоей машине, что за важность; не забудь только показать мою голову народу; такие головы ему не всякий день удается видеть».
Когда, согласно желанию Дантона, обнесли голову его вокруг эшафота, то послышались крики: «Да здравствует республика!», но они издавались собственно из ближних к гильотине рядов.
Так как кладбище Мадлены, где погребены король, королева и жирондисты, закрыто было по приказанию департамента, то пятнадцать трупов дантонистов отвезли ночью на вновь устроенное для казненных кладбище близ заставы Монсо.
Я вернулся в шесть часов в дом правосудия за приказаниями на завтрашний день. Переходя мост на обратном пути, я встретил присяжных Дебуфссо и Виллата, шедших с членами коммуны Воканню и Ланглуа; они спросили меня, как умирал Дантон и я рассказал им то, что видел. Ланглуа прервал меня словами: «Еще бы, он совсем был пьян». Я заверил, что он пьян вовсе не был, и тогда они назвали меня негодяем, так что уходя я долго еще слышал ругательства, которыми они меня осыпали.
17 жерминаля. Я исполнил поручение, возложенное на меня несчастным Камиллом Демуленом. В квартире его привратник дал мне адрес гражданина и гражданки Дюплесси. Я не вошел в дом, а вызвал служанку. Не объясняя ей своего звания, я сказал, что присутствовал при смерти Демулена и что он просил меня передать медальон матери жены его. Я отдал медальон служанке и удалился. Не успел я сделать сто шагов, как услышал, что за мной бегут и зовут меня; это была та же служанка, сказавшая мне, что гражданин Дюплесси желает меня видеть. Я отвечал, что мне некогда, что я приду в другой раз; но в это самое время явился и сам Дюплесси; это был старик, с виду весьма почтенный. Я повторил ему то, что рассказал служанке; он отвечал мне, что вероятно я имею ему передать еще что-нибудь, и что он обязан мне благодарностью. Я продолжал отказываться, извиняясь моими занятиями, но он настаивал, прохожие останавливались и прислушивались к нашему разговору. Они могли узнать меня и потому я счел за лучшее уступить и пошел за Дюплесси. Он хотел взять меня под руку, но я уклонился и под видом того, что в узкой улице нам нельзя было идти рядом, я держался все время позади. Он жил на втором этаже; меня ввели в хорошо убранную комнату, он указал мне на стул и, опустившись сам в кресло, стоявшее перед столом, заваленном бумагами, закрыл лицо руками. Услышав крик ребенка, я увидал в углу колыбель с закрытыми занавесами. Дюплесси подбежал к ней и достал из нее маленького мальчика, который казался больным и продолжал стонать. Показывая мне его, он сказал: «Это сын их».
Голос его дрожал от слез, но глаза были сухи. Он повторил: «Это сын их», и поцеловал ребенка с видом отчаяния. Потом, уложив его обратно в колыбель, он сказал мне: «Вы были там, вы видели?» Я сделал утвердительный знак. «Он умер мужественно, как республиканец, не правда ли?» Я отвечал, что последние слова его были о тех, кто были ему дороги. После довольно продолжительного молчания, ломая себе руки и побледнев, как полотно, он воскликнул: «А она? А дочь моя, бедная моя Люсиль? Неужели они будут и к ней также безжалостны, как были к нему? Разве для двух несчастных стариков не слишком уже будет оплакивать двоих? Считаешь себя философом, и огражденным разумом от этой идеи уничтожения… Но разве есть место для философии и для благоразумия, когда угроза касается родного сына или дочери! Когда видишь, что бессилен защитить его, сразиться и пролить за него кровь… Боже! И думать, что нам не суждено принять ее последний вздох; что она будет мучиться два часа, тогда как мы в безопасности в этом доме, где она родилась, посреди этой мебели, на которой она резвилась, у этого камина, который согревал ее! И сказать, что, быть может, менее счастливая, нежели Камилл, она не будет иметь для передачи нам своего последнего прощания другого посланца, кроме гнусного палача, который поразит ее».







