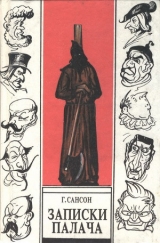
Текст книги "Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции, книга 2"
Автор книги: Анри Сансон
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
Глава III
Процесс Дантона, Камилла Демулена, Геро-де-Сешеля, Филиппо, Базира, Шабо и др
Процесс Дантона, Камила Демулена, Геро-де-Семеля, Филиппо, Базира Шабо и др.
Мемуары Шарля-Генриха Сансона не дают мне почти никаких данных относительно процесса дантонистов. Между тем этот процесс имел огромное значение для моего деда. По нескольким фразам его дневника нам уже стало ясно, что в недрах Конвента начиналась страшная борьба, от которой неминуемо должны были зависеть увеличение или уменьшение деятельности гильотины. В самом деле деда моего сильно должна была интересовать судьба тех, которые хотели сделать из исполнителя не истребителя побежденных, как это было до сих пор, а только законного мстителя за общество. Из рассказов отца моего мне хорошо известно, что Шарль-Генрих присутствовал на каждом заседании трибунала, и ежедневно вечером за семейным столом сообщал семейству подробности процесса с необыкновенным воодушевлением. Быть может, что то особенное усердие, с которым он следил за делом, и было причиной пробела в его журнале. Как бы там ни было, но важность обстоятельства, как мне кажется, возлагает на меня обязанность рассказать об этом событии, по крайней мере, настолько подробно, насколько рассказаны дедом даже второстепенные обстоятельства. Надо согласиться, что как ни резко обвиняли Дантона за его политическую деятельность, как ни мало высказалось симпатий к личности знаменитого трибуна, все-таки его процесс остается одним из важнейших процессов революционного периода. До сих пор революция губила только тех, кто давал хотя бы какое-нибудь право считать себя в числе врагов ее, но с этого времени она уже поднимает руку сама на себя и начинает губить собственных сподвижников. Общество людей даровитых, энергичных с сильной волей, образовавшееся с целью ниспровергнуть старое, в настоящее время вследствие самой победы своей начало разлагаться. Самые твердые опоры нового здания, воздвигнутые на развалинах старого порядка вещей, теперь, в свою очередь, начали падать, и само здание начинает колебаться на своем основании, так что недалеко уже то время, когда достаточно будет малейшего толчка, чтобы обрушить его. Поэтому я считаю необходимым передать главные подробности процесса и затем снова обращусь к запискам Шарля Генриха Сансона, из которых узнаем последние минуты знаменитых подсудимых.
Я уже сказал выше, что Дантон, Камилл Демулен, Филиппо и Лакруа были арестованы в ночь с 10 на 11 жерминаля. Мера эта возбудила оживленные прения в комитетах. Некоторые историки утверждают, что Робеспьер вовсе не желал подобной меры и только после горячих споров уступил настоятельным требованиям своих товарищей, доказывавших, что мера эта необходима для безопасности республики.
Если это и действительно было так, то все это не что иное, как очень ловкий маневр Робеспьера. Очень вероятно, что настоящие террористы Амор, Вуллан, Вадье, Бильо и другие взяли на себя инициативу при аресте Дантона; но как бы то ни было, подчинялся ли Робеспьер чувству личного честолюбия, действовал ли он только как беспристрастный защитник известной политической системы, во всяком случае ненависть и озлобление к Дантону были так кстати при том положении, в котором находился Робеспьер, что трудно допустить, чтобы возражения его были совершенно непритворны. Впрочем, он сам взял на себя труд показать, насколько в самом деле он принимает близко к сердцу участь осужденных. Когда на заседании 11 числа Лежандр во имя правосудия потребовал для своих друзей права подвергнуть суду своих товарищей, кто первым воспротивился этому? Робеспьер и его речь, отрывки из которой я приведу ниже, была первым резким обвинением и по духу своему совершенно справедливо может назваться предшественницею неумолимого обвинительного акта Сен-Жюста.
Дантон держал себя все время с достоинством, и благодаря тогдашнему его поведению, быть может, современное потомство сотрет кровавые пятна, которые легли на имя Дантона после сентябрьских убийств. Действительно, в это время Дантон был истинным защитником начал великодушия и умеренности. Если в этой сильной личности мы замечаем громадные недостатки, то они искупаются и великими достоинствами. У Дантона достало духу хладнокровно смотреть, как реками лилась кровь разгар борьбы, но ряд юридических убийств последнего времени возбудил в нем отвращение, близкое к негодованию. При всем том он не был даже настолько зол, чтобы от души ненавидеть своих врагов. Что касается Камилла Демулена, то недаром же общественное мнение с таким воодушевлением встретило те превосходные страницы, в которых Демулен развивал чувства истинного патриотизма и возмущался современным ходом дел. После этого нет ничего странного, что комитетам так захотелось стереть с лица земли этих двух людей, желавших положить конец кровавому царству ужаса, которое революционеры-фанатики сделали нормальным порядком дел во Франции. Стремления Робеспьера, как мне кажется, были еще дальновиднее, жестокость была только прямым следствием их и была необходимой принадлежностью его политики. Робеспьер настолько умен, что сам хорошо понимал, какой огромной популярностью будет пользоваться тот, кто избавит страну от царства ужаса, этой страшной химеры, равно давившей всех, как правых, так и виноватых. Роль избавителя Робеспьер приберегал для себя и только выжидал удобного времени; Дантон вздумал предупредить Робеспьера, и это вменилось ему в преступление.
Дантон без всякого сопротивления отдался агентам Герона, арестовавшим его и отправившим в Люксембург Камилл Демулен, наоборот, в минуту ареста отворил окна и стал громко звать к себе на помощь против насилий тирании. Убедившись, что никто не является к нему на помощь, он решился отдаться агентам и попросил позволения взять с собой несколько книг. Вслед за тем он достал из своей библиотеки «Юнговы ночи» и «Размышления Гервея», обнял жену и сына, спавшего в колыбели, и отправился. Арест Филиппо и Лакруа совершился без всяких затруднений. В тот же день обычные формальности были соблюдены, и заключенные получили разрешение выходить на большой двор внутри тюрьмы. Состояние духа каждого из арестованных было совершенно различно. Камилл Демулен был грустен, задумчив и как бы убит горем; Лакруа также потерял присутствие духа, Филиппо казался спокойным и готовым на самопожертвование; Дантон, быть может, с целью поддержать мужество своих друзей, проявлял стоицизм и отличался неестественной веселостью.
Весть о прибытии этих людей, еще недавно столь могущественных, быстро разнеслась по тюрьме, и все сбегались, чтобы посмотреть на них. Геро-де-Сешель, находившийся в то время на тюремном дворе, узнал Дантона и поспешил заключить его в свои объятия. Некоторые из заключенных, забыв, что эти противники их арестованы за то, что во имя человеколюбия защищали интересы побежденных, позволили себе издеваться над их несчастьем. Один из них, указывая на рослого и широкоплечего Лакруа, выразился так: «Вот славный был кучер».
На такую насмешку Дантон презрительно усмехнулся и, обращаясь к окружающим, сказал: «Когда уже сделал глупость, то надо подчиниться ее последствиям, и всего лучше смеяться над ней. Я сожалею о вас всех; если благоразумие не одержит верх, то вас ожидает нечто еще худшее». Когда же кто-то спросил его, как он, Дантон, мог дать себя обмануть Робеспьеру, то он отвечал: «Я не думал, чтоб этот негодяй так легко захватил меня, но, во всяком случае, предпочитаю умереть на гильотине, чем самому быть палачом». Американец Томас Пайн заключен был в Люксембурге; Дантон, встретившись с ним, пожал ему руку и сказал: «То, что ты сделал для счастья и свободы твоей родины, то же старался и я сделать для своей, но безуспешно; мне не было удачи, но я не стал поэтому более виновным. Меня обрекли на казнь, и я взойду на эшафот без трепета».
Между тем в Конвенте Лежандр, один из друзей Дантона, дерзнул принять на себя защиту осужденных. Он взошел на кафедру и голосом, полным волнения, которое он и не старался скрывать, воскликнул: «Граждане, четыре члена нашего собрания сегодня ночью арестованы. Я знаю, что Дантон в числе их; имена других мне неизвестны. Да и какое дело до имен, если они виновны? Но я требую, чтобы арестованные члены наши предстали перед нами, мы их выслушаем и оправдаем или осудим… Сознаюсь, что не могу верить в виновность Дантона, и повторяю, он столь же непорочен, как и я. Его заковали в кандалы и вероятно опасаются, чтобы ответы его не разрушили всех возведенных на него обвинений».
Лежандру отвечал один из представителей Горы, Файо, возразивший против его предложения; но собрание было взволновано, и необходим был голос более могущественный, чтобы победить волнение, которое могло решить дело в пользу обвиненных. Робеспьер взошел на кафедру. Сперва выразил он удивление тому волнению, которое обнаружилось в Конвенте; потом спросил, следует ли заключить из такого волнения, что несколько личностей, по его мнению интриганов, одержат верх над родиной их; наконец, обратившись к Лежандру, сказал:
«Лежандр как будто не знает имен тех, которые арестованы: имена эти известны всему Конвенту: друг его Лакруа находится в числе их. Почему же делает он вид, что не знает этого? Потому что он очень хорошо знает, что только бесстыдный человек может защищать Лакруа. Дантона же назвал он вероятно потому, что считает имя это связанным с особым преимуществом; но мы не признаем никаких преимуществ, не желаем иметь никаких идолов. Мы увидим сегодня, сумеет ли Конвент разрушить идола, давно уже сгнившего, или же идол этот при своем падении раздавит сам Конвент и весь французский народ».
«…Но какое же мог бы он иметь преимущество? Чем Дантон выше своих сотоварищей? Чем он выше своих сограждан? Разве тем, что несколько личностей, отчасти им обманутых, стали его последователями, чтобы достигнуть богатства и власти?»
Далее он говорил, что не думал пожертвовать Дантоном: «Я получил несколько писем от друзей Дантона, выслушал от них много словесных объяснений. Они вообразили себе, что старинная дружба моя с ним, что верование в лживые добродетели побудят меня умерить мое рвение и мою страстную преданность свободе. Но я торжественно объявляю, что ни один из этих поводов не имел на меня ни малейшего влияния».
В заключение он потребовал предварительного вопроса по предложению Лежандра. Эта маккиавелическая речь имела сильное действие. Робеспьер весьма удачно связал Конвент с решениями комитетов; он возбудил всех жарких патриотов, успокоил боязливых, объявив им, что число виновных незначительно, и дал им понять, что после них не потребуется уже новых казней. Сен-Жюст окончил то, что начато было Робеспьером.
Между речью Робеспьера и рапортом Сен-Жюста было то расстояние, которое отделяет холодное и рассчитанное честолюбие от фанатизма. Тот, который выразился, что «республика есть не сенат, а добродетель», был вполне искренен в ненависти своей к Дантону, который и не заботился о том, чтобы скрыть свои слабости и пороки. С дикой яростью кинулся он на жертву, которую предоставляли ему; это очевидно было из каждой строки его рапорта, где сталкивались и перемешивались правда и ложь, нелепое и правдоподобное: это была смесь суровых убеждений, страшных нетерпимостей, низкой лести, безумных обвинений; и в этой смеси, чтобы быть еще больше уверенным, что никто не примет на себя защиту его жертвы, он окончательно смешивает ее с грязью, упоминая о воровстве, слово, останавливающее всякие симпатии. Рапорт свой Сен-Жюст представил с холодным и резким красноречием, которое отличало его от других ораторов того времени. Представители слушали его, опустив головы, подобно школьникам. Смущение было общее; это новое вторжение террора в Конвент охлаждало всякое мужество, и ни один голос не поднялся в защиту обвиненных; даже Лежандр более трех раз отрекся от того, учеником которого был, и декрет был принят с энтузиазмом ужаса.
На другой день, 12 жерминаля, обвинительный акт Фукье Тенвилля, многословный список с обвинениями Сен-Жюста, передан был обвиняемым, и второй том записок о тюрьмах говорит следующее о том впечатлении, которое произвело чтение означенного акта:
«Когда заключенные получили обвинительный акт, Камилл стал с яростью и негодованием ходить взад и вперед по комнате; Филиппо, взволнованный, сложил руки и обратил взоры к небу, Дантон же улыбался и насмехался над Камиллом Демуленом. Потом он пошел к Лакруа и спросил его мнение.
– Я скорей обрежу себе волосы, чтобы Сансон не прикасался к ним, – сказал тот.
– Будет еще интереснее, когда Сансон займется нашими горловыми венами.
– Я думаю, нам следует отвечать только перед комитетами.
– Да, ты прав, надо постараться растрогать народ».
Но волнение, на которое рассчитывал Дантон, уже проявилось. Весть об аресте, о заключении Камилла, ставшего в последнее время весьма популярным, произвела глубокое впечатление. В продолжение дней, 11 и 12 жерминаля, множество народа прогуливалось в садах Люксембурга, и отец говорил мне, что многие останавливались перед этими гранитными стенами, безмолвно взирая на них и как бы ожидая, что при одном звуке голоса Дантона стены этого нового Иерихона разрушатся и рассыплются.
Мысли Камилла, с душой более нежной, заняты были только теми, кто был ему дорог; он думал о любимой им Люсиль, о маленьком своем Горасе, воспоминание о котором разбивало все его мужество. Жена его в отчаянии бродила по аллеям Люксембурга, держа на руках своего ребенка, а он, прильнув лицом к оконным решеткам, проводил дни в том, что старался увидеть ее в толпе. Одно время к нему возвратилось вдохновение, и в ночь с 11 на 12 он начал писать последнее воззвание патриотизма и негодования к тиранам; он прервал свою работу, чтобы уснуть, но, проснувшись, уже не продолжал ее, а написал письмо жене. История сохранила это письмо. «Никогда, говорит Луи Блан, не вырывались более раздирающие вопли из глубины души, за которую смерть боролась с любовью». Вот это письмо.
«Декади, 12 жерминаля, 5 часов утра. Благодетельный сон прекратил на время мои мучения; когда спишь, то чувствуешь себя свободным и не чувствуешь своего заключения. Небо сжалилось надо мной. Несколько минут тому назад я видел тебя во сне, я обнимал по очереди тебя, Гораса и Даронну, которая была у нас; но наш малютка лишился одного глаза через попавшую на него мокроту и этот случай разбудил меня. Я снова увидел себя в своей темнице. Начинало светать; так как я не мог уже видеть тебя и слышать твои ответы (ибо во сне ты и мать твоя говорили со мной), я встал, чтобы поговорить с тобой письменно. Но когда я открыл окно, то мысль о моем одиночестве, страшные решетки, запоры, разделяющие нас – все это уничтожило твердость духа моего; я залился слезами, или, вернее, я стал громко рыдать, восклицая в глубине моей темницы: „Люсиль! дорогая Люсиль! Где ты?“ (здесь видны следы слез). Вчера вечером у меня была подобная минута, и сердце мое сжалось, когда я увидел в саду матушку твою; невольно упал я на колени у самой решетки, сложил руки, как бы умоляя ее о сожалении, ее, которая, как я убежден, стонет и горюет не менее нас. Вчера видел я ее горесть (опять следы слез) по ее платку и по вуали, спущенной ею, чтобы не видеть тягостного для нее зрелища. Когда вы придете, то пусть она сядет ближе к тебе, чтоб мне вас лучше было видно; я думаю, в этом не может быть ничего опасного. Дорогая моя Люсиль! Вот я и вернулся ко времени нашей первой любви, где меня интересовал каждый, кто только выходил из вашего дома. Вчера, когда вернулся гражданин, носивший тебе письмо мое, то я сказал ему: ну что, видели вы ее? – то же что я говорил и аббату Ландревилю, – и я останавливал на нем взгляд свой как будто на платье его, на всей его личности оставались какие-либо следы твоего присутствия… Я открыл в своей каморке щелочку, приложил к ней ухо и услышал стоны; я попытался заговорить и в ответе услышал голос страждущего больного. Он спросил, как меня зовут, и я ответил ему. – О Боже, воскликнул он, услыхав мое имя, и снова упал на кровать, с которой было привстал; и я явственно услышал голос Фабра д’Еглантина. „Да, – сказал он, – я Фабр; но ты, как же ты здесь? Разве совершилась контрреволюция?“ Но мы не смеем разговаривать из опасения, чтоб ненависть не отняла у нас и это слабое утешение, и чтоб, если нас услышат, не разлучили и не усилили за нами надзор. Пусть бы так жестоко поступали со мной Питт или Кобург, но мои сотоварищи, но Робеспьер, подписавший приказ о моем аресте, но сама республика, наконец, после всего, что я для нее сделал… Я предвижу ожидающую меня участь. Прощай, моя дорогая Люсиль, и простись за меня с отцом моим! Во мне ты видишь пример человеческого варварства и людской неблагодарности; мои последние минуты тебя не обесславят. Ты видишь, что мои опасения были основательны, что я верно все предвидел! О, дорогая моя Люсиль! Я рожден был, чтоб быть поэтом, чтобы защищать несчастных, чтобы сделать тебя счастливой! Я мечтал о республике, которую все обожали бы! Я не мог думать, чтобы люди были так жестоки и несправедливы! Да и как вообразить себе, чтобы несколько шуток в рассказах моих против сотоварищей, вызывавших меня на это, изгладили бы совершенно воспоминание о моих заслугах? Я не скрываю, что умираю жертвой этих шуток и моего расположения к Дантону. Я благодарю моих палачей за то, что они дают мне умереть с ним и Филиппо… Прости, милый друг, настоящая жизнь моя, которую я утратил с той минуты, когда нас разлучили; я забочусь о своей памяти, хотя скорее следовало бы мне позаботиться, чтобы о ней забыли. Дорогая Люсиль, умоляю тебя, не призывай меня твоими воплями, они проникли бы даже в гробницу мою и раздирали бы сердце мое. Живи для Гораса, говори ему обо мне! Ты скажешь ему то, что он теперь не может услышать, что я горячо любил бы его! Несмотря на горькую судьбу мою, я все-таки верю в Бога! Кровь моя омоет мои ошибки, слабости человечества; а то, что во мне было хорошего: добродетели мои, любовь к человечеству – за это Бог вознаградит нас. Придет день, когда я увижусь с тобой, Люсиль! При моей чувствительности разве такое большое несчастье смерть, избавляющая меня от зрелища стольких преступлений. Прощай, дорогая Люсиль! Прощайте, Горас, Аниста! Прости, отец мой! Я чувствую, как жизнь убегает от меня; я вижу опять тебя, Люсиль! Руки мои обнимают и прижимают тебя к сердцу и голова моя, отделенная от туловища, покоится на груди твоей! Я умираю!»
В ночь с 12 на 13 обвиненные переведены были из Люксембурга в Консьержери. Проходя под сводом, который уже суждено было ему пройти только на казнь, Дантон сказал окружавшим его: «В такое же время основал я революционный трибунал, и прошу в этом прощения у Бога и людей. Я взойду на эшафот за то, что пролил несколько слез о судьбе несчастных. Перед смертью единственное мое сожаление будет о том, что в жизни ничем не мог быть полезным».
13 жерминаля они предстали перед судом. Состав трибунала был предметом особой заботливости комитетов. Присяжные были тщательно избраны; взяли тех, которые уже доказали на деле рвение свое при расстреливании несчастных, приводимых перед их судом. Это были Треншар, Реноден – правая рука Робеспьера, Виллат, Люмиер, Дебуасси, Субербиель, Ганней, который, по словам Мишле, был идиотом, и не понимая ни вопросов, ни ответов, осуждал на смерть всех без разбора; наконец крепчайший из крепких бывший маркиз Леруа де Монфламбер, гражданин 10 августа. Председательствовал Герман; судьями же были Массон, Денизо, Фуко и Бравэ.
Чтобы оправдать обвинения Сен-Жюста, включили в процесс Дантона тех представителей, которые обвинялись в лихоимстве: Шабо, Делоне, Базира, почти уличенных в том, что первые двое из жадности, третий – из слабости торговали своим влиянием в деле акций индийской компании; Фабр д’Еглантин, сообщничество которого в этом деле осталось недоказанным, но пера, которого Робеспьер боялся почти столько же, как пера Демулена. Приняв за основу лихоимство, в котором обвиняли Лакруа и Дантона за время командировки их в Бельгию, легко было установить подобие сообщничества между ними и вышеназванными лихоимцами. Не так легко было приобщить к этому же делу Геро де-Сешеля, арестованного по неопределенным обвинениям комитета общественной безопасности и преимущественно за то, что он дал у себя убежище изгнаннику; а также Филиппо, виновного в том, что Робеспьер называл филиппотиками резкие статьи, которыми он клеймил образ действий агентов республики во время Вандеи; но решили обойтись без правдоподобия и, прибавив к кучке обвиненных одного датчанина, одного испанца и двух немцев, составили такое целое, которое вполне оправдывало данный ему громкий титул: заговор иностранцев.
Их было тринадцать. После допроса Фукье заметил, что забыли двоих обвиненных: Люилье, генерального адвоката в Парижском департаменте и Вестермана, 40 лет, бригадного генерала; за ними послали в Консьержери, и таким образом число обвиненных возросло до пятнадцати.
Камилл имел ссору с Реноденом у якобинцев, которая окончилась схваткой; увидев его на скамье присяжных, он предъявил отвод. Но Реноден нужен был своим товарищам и, несмотря на правильность отвода, трибунал не принял его и решил приступить к прениям.
На обычные вопросы об имени и месте жительства Дантон отвечал: «Я Дантон, достаточно известный в период революции; жилище мое скоро будет вечность, имя же мое сохранится в пантеоне истории».
Камилл же, в свою очередь, сказал: «Мне тридцать три года, критический возраст для революционеров, Геро де-Сешель: меня зовут Иоанн-Мария, я заседал в этом зале, где пользовался ненавистью парламентских».
Фукье Тенкилль приступил к чтению своих комментариев на рапорт Сен Жюста. Обвиненные потребовали сообщения им самого рапорта, и их требование было удовлетворено. Несколько выписок дадут понятие об этом оригинальном документе.
«Дантон, ты объявлял себя сторонником умеренных принципов, и твоя мужественная наружность, по-видимому, скрывала слабость твоих советов. Ты утверждаешь, что строгость правил возбудит слишком много вражды против республики. Пустой примиритель, все твои выступления на кафедре начинались с грома, а ты старался примирять ложь с истиной… Тебе все было с руки; Бриссо и сообщники его выходили всегда довольные тобой. С кафедры ты давал им благие советы, чтобы они долее скрывали свой образ действий. Ты угрожал им без негодования, но с родительской добротой и ты скорее давал им советы, чтобы повредить свободе, чтобы спасти себя и лучше обмануть нас, вместо того чтобы дать республиканской партии совет на их погибель. Ты говорил, что ненависть невыносима для твоего сердца, а нам ты говорил, что не любишь Марата. Но разве ты не преступник уже потому, что ненавидел врагов своей родины? Разве человек личными своими наклонностями определяет равнодушие или ненависть, а не любовь к родине, которой ты никогда не чувствовал? Ты старался быть примирителем подобно Сиксту пятому, который представлялся простачком, чтобы достигнуть цели. Разразись же теперь перед правосудием народа, ты, который никогда не решался громить врагов отчизны».
«Ты с ужасом видел революцию 31 мая. Геро, Лакруа и ты потребовал головы Генрио, который служил свободе, и вы поставили ему в вину одно движение, сделанное им, чтобы избегнуть ваших притеснений… Разве ты с того времени не отправлял посланника к Петиону? Разве ты не противился наказанию депутатов Жиронды? Разве ты не защищал Штейнгеля, который допустил убийство патриотов на аванпостах армии, у Э-ла Шапель? Став защитником всех преступников, ты никогда не был таким же для патриота. Ты обвинял Ролана, но скорее как желчного безумца, нежели как предателя; у жены его ты находил только претензии на остроумие. Ты накинул плащ на все преступные действия твои, чтоб лучше их скрыть».
«Как дурной гражданин, ты принимал участие в заговорах; как дурной друг, ты два дня тому назад дурно отзывался о Демулене, твоем орудии, которое ты же и погубил; злой человек – ты сравнил общественное мнение с блудницей, ты выразился, что благородство смешно, что потомство и слава не более как глупости».
Далее, нападая на Камилла и Фабра, рапорт говорит: «Камилл Демулен, бывший сначала обманутым, а потом ставший сообщником, был, как и Филиппо, орудием Фабра и Дантона. Последний рассказал как пример благодушия Фабра, что, находясь у Демулена в то время, когда тот читал бумагу, в которой предлагалось устроить комитет милосердия для аристократов, а Конвент называл судилищем Тиверия, Фабр начал плакать – крокодилы также умеют плакать! Так как у Камилла недоставало характера, то воспользовались его гордостью. Он нападал на революционное правление и его последствия. Он дерзко говорил в пользу врагов революции, предложил учредить для них комитет милосердия и высказался весьма немилосердным к народной партии».
«Царство преступления миновало, и горе тому, кто бы стал принимать его сторону! Политика его обнаружена в настоящем ее свете. Да погибнет все, что преступно! Республика создается не умеренностью, а жестокой строгостью, непреклонной в отношении ко всем изменникам и предателям… Можно отнять жизнь у таких людей, которые, как мы, решались на все из-за истины, но нельзя вырвать сердца их, нельзя уничтожить гостеприимный кров, под которым они находят убежище от рабства и стыда увидеть, что перевес на стороне зла».
Как уже сказано выше, соединив в один процесс три категории обвиненных, которых проступки были разнородны, Фукье следовал обычной тактике революционного трибунала, заключавшейся в том, чтобы заглушить у публики всякое чувство сострадания через сопоставление таких обвиненных, популярности которых можно было опасаться, с такими, к которым сострадание невозможно. Камилл, Филиппо и Лакруа, увидев себя поставленными на одну скамью с негодяями, энергично протестовали против этого; Дантон молчал, и только презрительная улыбка виделась на его полных губах. Когда Камилл продолжал настаивать на своем протесте, Дантон убеждал его сесть, говоря: «Пусть они делают свое ремесло; все, что они могут сделать, это убить нас; обесславить же нас не в их власти».
Начались допросы. Фабр д’Еглантин объяснил подделку декрета, в которой обвиняли его; он объявил, что бумага, о которой говорили, но которую ему не показывали, была не более как проект, составленный по рассуждениям комитета и в котором заключались те изменения, какие могли быть следствием тех рассуждений. Шабо объявил, что он вступил в это дело только с целью узнать все нити его для подробного о нем доноса; Делоне и Бази объявили, что не имели даже и понятия о деле.
В отношении к Лакруа, Филиппо и Сешелю дело было чисто процессом направления и наклонностей; обвинялись их мнения и даже голоса, поданные ими как народными представителями. Они были не только самые преданные, но и самые замечательные из друзей Дантона; они, конечно, не могли заменить его, но могли сделаться вождями той части Конвента, которая не расположена была к суровым формам, к правам последователей Робеспьера, к кровавой политике террора, считавшей, что если Франции следует быть республикой, то такая республика должна принять за образец скорее Афины, чем Спарту. Подобно всем второстепенным деятелям известной партии, они высказали наибольшее рвение в нападении; Филиппо в своих статьях, в речах своих на Конвенте и у якобинцев восставал против образа действий представителей, отправленных в разные местности с поручениями; один из первых он заклеймил их прозвищем проконсулов. Фукье поставил и это ему в вину.
– Если, – возразил Филиппо, – заявить правительству о нарушениях, совершающихся его именем, есть преступление, то я действительно виновен. Но разве мы до того уже испорчены, чтобы принимать действия добродетельные за преступления? Я доставил правительству важные сведения о возмутительных поступках, совершавшихся в Вандее, и я горжусь этим. Настояния мои в комитете не имели успеха и, желая исполнить свое назначение, я написал всю правду Конвенту, я донес на комитет общественного спокойствия. Я раскрыл планы интриганов и тем исполнил свой долг. Я не унизил народное представительство и горжусь тем, что писал.
Дошла, наконец, очередь до Дантона. Герман основательно опасался той минуты, когда он начнет говорить. Действительно, не успел этот титан революции сказать слово, как все изменилось: при звуках его голоса судьи становились обвиняемыми, обвиняемый становился судьей, присяжные Германа склоняли голову перед львиной наружностью того, кому они не смели смотреть в глаза.
«Голос мой, который столько раз имел случай раздаваться в защиту прав народа, легко опровергнет клевету. Низкие люди, которые клевещут на меня – разве они посмели бы напасть на меня лицом к лицу? Пусть они назовут себя, и я в ту же минуту предам их унижению, которое должно быть их уделом… Голова моя отвечает за все: жизнь мне уже в тягость и я спешу избавиться от нее».
Герман, проникнутый ужасом, прерывает его словами «что смелость есть признак виновности, спокойствие же – необходимое качество невиновного».
«Конечно, возразил Дантон на такое замечание президента, личная смелость подлежит осуждению, но в такой никогда не обвинить меня; смелость же народная, которой я столько уже представлял примеров, которую я применял для пользы общественного дела, – эта смелость позволительна, необходима и ею я горжусь! Когда я вижу, что меня так тяжко и несправедливо обвиняют, разве я могу укротить осаждающее меня чувство негодования? Разве от такого революционера, как я, можно ожидать ответа хладнокровного? В революции люди, подобные мне, неоценимы: на их челе неизгладимыми буквами наложил гений республики печать свободы… А ты, Сен Жюст, ты дашь ответ потомству за клевету, которую ты пустил в ходе против лучшего друга народа. Пробегая этот страшный рапорт, я чувствую, что все мое существо содрогается».
Герман снова остановил его; он, быть может, опасался, что, покончив с Сен Жюстом, Дантон стал бы нападать на Робеспьера и что глава их партии не был уничтожен при таком нападении. Он пригласил обвиняемого высказывать более умеренности для своей же пользы и выставил ему примером образ действий Марата в подобном же случае, желая, вероятно, дать этим понять, что подобно Марату, он мог выйти оправданным, а быть может, и торжествующим.
Можно предполагать, что Дантон в некоторой степени попался в расставленные ему таким образом сети, ибо он начал обсуждать одно за другим те обвинения, которые возводил на него рапорт Сен Жюста, но скоро горячность его натуры взяла верх: «Когда я бросаю вызов моим обвинителям, – воскликнул он снова, – я действую с полным сознанием. Пусть мне назовут их, и я уничтожу их. Низкие клеветники! Выходите, и я сорву с вас маску, которая скрывает вас от общественной мести».







