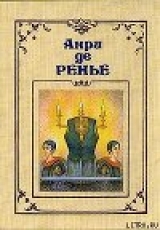
Текст книги "Провинциальное развлечение"
Автор книги: Анри де Ренье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Рассказы старухи Мариэты о «веселой жизни», которую ведут в Виллуане, предстали в моем воображении в форме странной грезы, когда я потерял власть над возникавшими у меня ассоциациями. Передаю их здесь лишь приблизительно. Я вижу большой зал, торжественно и ярко освещенный канделябрами со множеством свечей, разливающих свой свет по огромному столу, сервированному серебром и украшенному цветами и фруктами. Зал насыщен пряными и пьянящими ароматами яств, вин, женщин: за столом сидят женщины. Они обнажены; их золотистые или розовые тела обрисовываются на фоне драпировок. Свет струится по их затылкам, плечам, спинам, грудям. Волосы заплетены или распущены, и на них играют рыжеватые или темные отблески. Я различаю также белоснежные руки, бедра, пол. Среди всех этих женщин нет ни одного мужчины. Вдруг в тишине раздается смех; головы оборачиваются; я вижу лица, но ни одного из них не узнаю. Лица эти красивы, ноздри у них трепещут, губы раскрываются, глаза смотрят. Все в этом пышном зале: огни, яства, вина, фрукты, цветы, женщины, – все говорит о радости жизни, все возглашает о наслаждениях плоти. Разве существуют другие цели, кроме схватывания, сжимания, пожирания? Для чего еще созданы рты, как не для того, чтобы кусать и целовать? Руки – чтобы брать, глаза – чтоб наслаждаться красивым зрелищем? Разве пол не есть то место тела, к которому устремляются все силы наших чувств? Тут находит успокоение всякий жизненный порыв. Тут смысл нашего существования. Стоит ли жить без чувственных наслаждений? Зачем нам сила, богатство, если они не дают нам, вместе с иллюзией любви, обладания женщиною? Зачем тогда все? Разве для завоевания этого «руна» не годятся все средства? Оно все движет, все оправдывает. Что значат воровство, убийство, насилие, если их «движущею силою» является обладание любимым телом! Разве все нравственные законы не бледнеют перед любовью? Хитрость, обман, ложь, насилие образуют ее обычную свиту. Не исключается ни кровь, ни смерть. Безумец, кто не делается рабом бога любви! Не правда ли, это он предлагает мне последний шанс выйти из моей скуки, из моего небытия? Мне нужно только приблизиться, схватить одно из этих тел, сидящих вон там, передо мною. Мне нужно только поцеловать один из этих ртов. Если он будет сопротивляться… но разве немощны твои творящие насилие руки? Женщины любят, чтобы их насиловали! Ступай же, бери самую красивую! Пусть она бьется и сопротивляется – обуздай ее. Ее длинные волосы развеваются, грудь ее колышется, ее дыхание обжигает тебя, она кричит, глаза ее сверкают. Она яростно отбивается от твоих объятий. Она бранит тебя, оскорбляет, царапает, кусает. Возьми ее, она полюбит тебя. Вот тело ее уже слабеет, зубы ее разжимаются, улыбка расплывается по ее лицу. Схвати ее, унеси ее, открой дверь. На дворе ожидает большой красный автомобиль, вздрагивающий и яростный, как эта женщина. Человек, который должен отвезти тебя, положил руки на руль. Вдруг он оборачивает голову. О ужас! Да это он, я узнаю его на этот раз, – да, это человек, напавший на меня ночью в Булонском лесу, бродяга из валленского сада…
В этот момент я вдруг очнулся от своей грезы. Автомобиль обитателей Виллуана, должно быть, проезжал по Большой улице: я услышал звук сирены. Никогда еще крик ее не был столь пронзительным, столь раздирающим. Он сверкнул, как лезвие ножа в струе крови. Его острие пронзило меня до самой глубины моего существа.
Мне кажется, я почти угадываю тему длинных разговоров тетушки Шальтрэ с г-ном де Блиньелем. Тетушка принимает «меры», чтобы в случае, если она умрет раньше меня, надо мною была учреждена своего рода денежная опека. Мне будет уплачиваться г-ном де Блиньелем более чем скромная пенсия, так что мне невозможно будет покинуть П. и поселиться где-нибудь в другом месте. Значит, до конца дней моих я буду заточен в П., а на г-на де Блиньеля будет возложена обязанность моего тюремщика. Это наполняет его злорадством, разливающимся по всей его маленькой гнусной фигурке. Он «держит меня в своих руках». Его превосходство распространяется и на этого «парижанина»: огромное удовлетворение для его тщеславия. Заметьте, что он уже стар и что, согласно естественному ходу вещей, я, вероятно, переживу его, но г-н де Блиньель не хочет считаться с этою возможностью. Г-н де Блиньель в своем бедном уродливом мозгу решил, что он будет жить вечно. Отчего может прерваться такая правильная, такая пунктуальная жизнь, как жизнь г-на де Блиньеля? Какие причины могут остановить ее движение и испортить ее механизм? Г-н де Блиньель считает себя непрерывным, необходимым, и сознание своей необходимости, своей вечности сообщает ему исключительную уверенность. Его маленькая фигурка выпрямляется от этого. Глаза блестят сквозь очки. Когда он встречается со мною, он принимает лукавый и снисходительный вид. Он «держит меня в своих руках».
С тех пор как, благодаря Мариэте, очень опытной в искусстве подслушивания у дверей, я открыл замыслы и план принудительных мер моей почтенной тетушки, скука моя приобрела еще более тяжелую густоту. Последние просветы в ней окончательно заволоклись туманом; теперь она плотно окружает меня непроницаемою атмосферою, которая давит на меня всею своею тяжестью. П. действительно начинает казаться мне могилою, в которой я буду заживо погребен. Ни один проблеск не озаряет серой тьмы, против которой возмущается весь мой дух и вся моя плоть. Однако я хорошо чувствую, что никогда я не буду в силах разорвать эти клейкие путы, обвивающие меня. Моя мертвая воля не способна ни к какому усилию. Один только случай…
О таинственное и чудесное Непредвиденное, открывающее двери и пробуждающее могилы! О Непредвиденное, страшный и хитрый враг тяжелой и приторной скуки, молю тебя, взываю к тебе из глубины моего мрачного отчаянья! Ты неутомимо обегаешь землю, чтобы вдруг появиться где-нибудь! Лицо твое закрыто маскою, а из-под грубого шерстяного платья виднеются золотые одежды и сказочные драгоценности! Ах, мне хорошо известно, что богатства твои часто лишь блестки и мишура, лишь обман и иллюзия, что, при попытке прикоснуться к ним или схватить их, они превращаются в пар или рассыпаются, как пепел, но что нужды: они на миг сверкнули перед нашими глазами и осветили помраченные образы наших надежд! О Непредвиденное! Что нужды, что ты лишь ложь, лишь быстро рассеивающийся призрак нашего желания! Я взываю к тебе и хочу тебя. Приди, приди, о Желанное, о Вожделенное! Я страстно жду тебя, истомленный отчаянием. Я слышу ночью трепетание твоих крыльев, твои шаги, может быть, слышу в потемках твое дуновение. Приди, я жду тебя. Ах! ты здесь. Сними свою маску. У тебя обличие случая, смерти и любви, все маски и все личины – те, что выглядят, как живые, и те, что выглядят мертвецами.
Ты ли это? Как лихорадочно, как нетерпеливо ожидаю я тебя в тишине! Но я знаю, что ты не дойдешь до меня. Из всех уголков необъятного мира тебя заклинают и тебя домогаются. Сколько повелительных и умоляющих голосов торопят тебя, упрекают тебя! Повсюду ты желанно, потому что повсюду Скука протягивает свою несносную пелену. Она окутывает саваном пустынность деревень, она окружает шумное оживление городов. Она покрывает сушу и моря. Путешественник уносит с собою ее волокна. Даже ты дало бы захватить себя врагу, если бы не противопоставляло его снотворной сети свою непрестанную и беспокойную деятельность, столь непрерывную, столь энергичную, что она под конец оглушает и одуряет тебя. Тогда ты не обращаешь больше внимания, кому ты раздаешь свои милости и свои дары. Ты рассыпаешь их без разбора, заваливаешь ими тех, кто не знает, куда их девать, и обделяешь изнывающих от ожидания. Ты каприз и несправедливость, прихоть и расточительность. Ты помогаешь случайностям судьбы. Где же находишься ты сегодня, когда я снова тщетно взываю к тебе? На каких берегах, в какой стране? Входишь в пышный чертог или переступаешь порог хижины? Откликнешься ли ты, наконец, на мою мольбу или повернешь свои стопы и пойдешь на зов другого голоса? Что же делать? Одна лишь прихоть руководит тобою, и очень мало шансов, чтобы она привела тебя ко мне. Необъятный мир у твоих ног; зачем же, из всех стран, выберешь ты ту, где, среди стольких горделивых и кипучих городов, копошится жалкий городишка, в котором я умираю от уныния, праздности и скуки? Что может привлечь тебя сюда? Старые дома, церковь, пустынные улицы? В этот час городок погружен в сон; одна лишь моя лампа горит в нем, но чем может прельстить тебя одинокий огонь? Сколько других существ томится в ожидании в различных местах, на которые простирается твоя власть, – существ, исполненных энергии, твердой воли, героизма и таланта, которым достаточно, о Непредвиденное, получить один лишь знак от тебя, чтобы устремиться на самые высокие вершины жизни, откуда видна занимающаяся заря и восходящие на горизонте путеводительные светила. Но что тебе делать у такого жалкого человека, как я, о напрасный Гость? Что тебе делать в этом угрюмом доме, в этой уединенной комнате? И все же, о милосердный, о своенравный Демон, я не в силах думать, что ты навсегда отказываешься от меня, и мне кажется, будто я слышу в мертвой тишине, окружающей меня, далекое и нежное трепетание твоего невидимого божественного крыла.
Я перечитал написанное мною вчера вечером и остолбенел. Я обратился в «литератора»! Честное слово, можно подумать, что я схожу с ума.
Исследование г-на де ла Ривельри по поводу преступления советника Сориньи действительно очень любопытно. Г-н де ла Ривельри научился прекрасно восстанавливать физиономию Валлена в XVII столетии. Получается очень живая и в то же время очень точная картина. Он весьма полно излагает ход процесса, следствие, увещательные письма, аресты, вызванные им, – словом, весь механизм судебной машины того времени. Рассказ о публичной казни Сориньи великолепен; но в своих суждениях относительно происхождения преступления и мотивов, толкнувших Сориньи совершить его, г-н де ла Ривельри обнаруживает большую слабость и неуверенность. Создается такое впечатление, что почтенный г-н де ла Ривельри страшится проникнуть в глубину этой обагренной кровью и черной души. Наш ла Ривельри кажется не слишком смелым психологом. Он наивен, честен, и тем не менее его считают замечательным следователем, очень искусно разбирающимся в преступлении. Он распутал несколько достаточно сложных дел, но я убежден, что удача его обусловлена простой случайностью, а не проницательностью его ума. Вряд ли он обладает тою необходимою для всякого настоящего уголовного судьи способностью, которая заключается в уменье влезть «в шкуру убийцы», возможно более отожествиться с ним, – словом, вряд ли он обладает этим наилучшим средством увидеть игру мотивов убийцы и добраться до самых тайных побуждений, определивших его поступок. Г-н де ла Ривельри не кажется мне одаренным в этом отношении. Любопытно было бы увидеть его ведущим следствие. Как он брел бы ощупью, как сбивался бы, какие промахи делал бы, с каким чистосердечием, с какою добросовестностью!
Я сказал как-то тетушке Шальтрэ об исследовании г-на де ла Ривельри; она изъявила желание прочесть его. Возвращая мне книгу, она заметила мне, что «на памяти людей» в П. никогда не было совершено ни одного преступления, что укрепляет ее в мнении, что П.– город единственный, исключительный, нравственность которого вне всяких сравнений, как она говорит. Констатировав это, она произнесла похвальное слово в честь главных представителей местного общества и закончила его панегириком г-ну де Блиньелю, так что я подумал даже, не собирается ли тетушка вступить в законный брак с ним. Такого рода старческие супружества можно иногда наблюдать в провинции…
Тетушка снова настаивала на исключительной добродетельности обитателей П. Послушать ее, между ними никогда не могло бы произойти ничего, достойного порицания. Подобные разговоры раздражают меня, и я возразил, что не нужно слишком доверяться внешности, что П. – такой же город, как и все другие, что обитатели его нисколько не лучше обитателей других городов, что все они лицемеры, что нет никаких доказательств, что в П. не совершается преступлений и злодеяний, – совершение их лишь бывает облечено тайною и остается нераскрытым. Впрочем, эта безнаказанность, прибавил я, едва ли может продолжаться вечно: рано или поздно какой-нибудь здоровый скандал положит ей конец. Пока я говорил это, тетушка посматривала на меня с недоверием, точно я как раз и был способен на предсказываемое мною преступление.
Хорошие осенние дни сообщают мне потребность движения, желание ходить и перемещаться. Я хотел бы, чтобы перед моими глазами мелькали пейзажи в их последовательном разнообразии. Те, мимо которых я иду со скоростью пешехода, сменяются недостаточно быстро. Изменение их совершается медленно, едва-едва, в мелких подробностях. Я слишком долго принадлежу им, и они успевают утомить меня, прежде чем примут другие очертания. Я хотел бы, чтобы, едва только показавшись мне, они исчезали в исступленном беге, в головокружительной скорости, как фантасмагория. Ходьба бессильна дать это ощущение пешеходу, лишь автомобиль может доставить нам его. С каждым толчком машины едва только открывшийся пейзаж раздробляется, крошится на кусочки, чтобы со сказочной быстротой вновь восстановиться и предстать перед глазами в своем новом эфемерном очаровании. Едучи в автомобиле, вы непрерывно наблюдаете разрушение и восстановление. Закройте глаза. Подождите минуточку. Откройте их. Все стало другим: линии, краски. И с какою жадностью вы поглощаете предметы! Не кажется ли вам, что этот ветер, который то резко, то нежно дует вам в лицо, – не кажется ли вам, что он уносит с собою все ваше прошлое и оставляет мгновение в его девственной наготе?… Но к чему мечтать об этом – у меня нет автомобиля! Дорога простирает передо мною однообразную кайму золотимых осенью тополей. В последние дни шли дожди. Небо покрыто тяжелыми тучами. Я иду, чтобы идти. Механизм ходьбы заключает в себе что-то притупляющее мысль, и мне хорошо от этого. Передо мною тянется дорога, и я в заключение начинаю испытывать интерес к отдельным ее подробностям. Некоторые колеи, некоторые камешки особенно привлекают мое внимание. Я чувствителен к различиям ее твердости и ее неровностям. Не я иду, дорога увлекает меня. Я завишу от ее движущейся поверхности. Если бы я шел по ней таким образом бесконечно, куда привела бы меня она? Может быть, так далеко от меня самого, что я утратил бы представление о себе? Вдруг ощущение моей личности застигает меня врасплох. К какому же забвению приводила меня эта дорога? Шаги мои останавливаются, как перед непреодолимым препятствием. Какая-то сила тащит меня назад. Где я? Ах, я узнаю этот поворот, этот кустик, этот межевой камень! Как долго я шел! День склоняется к вечеру, нужно возвращаться, снова проходить только что пройденный путь. Когда я буду приближаться к первым домам П., наступят уже глубокие сумерки. Начнут зажигаться огни. Старая Мариэта будет ожидать меня у порога. Благодаря моему опозданию на обед, я буду видеть перед собой за столом нахмуренное лицо тетушки Шальтрэ.
Эти прогулки доставляют мне большое успокоение. Когда-нибудь я дойду до самого Виллуана…
Г-н де ла Ривельри должен прийти завтра к завтраку и привести с собой фотографа, который сделает снимок с портрета президента д'Артэна.
Я облокотился на подоконник. Мне виден весь двор, и я замечаю, как старая Мариэта направляется к курятнику. Ее появление производит там большой переполох. Я слышу испуганное хлопанье крыльев, отчаянное кудахтанье. Мариэта выходит, держа за лапки пару цыплят. В своем белом чепчике и белом переднике она усаживается на закраине колодца. У нее типично французское старое лицо: настоящая ключница Шардена. Связав ноги одному из цыплят и бросив его на землю, она зажимает другого между колен. Вдруг она схватывает его за крылья, берет висящие у передника ножницы и засовывает их в открытый клюв птицы, которая отчаянно отбивается; но ее судорожные подергивания мало-помалу замирают; тогда Мариэта опускает ее головой вниз, и из клюва начинает струиться кровь. Мариэта невозмутимо ожидает. Когда бывает нужно убить утку, Мариэта перерезывает ей шею большим кухонным ножом. Изуродованное таким образом животное беспомощно мечется и иногда даже пускается бежать на своих перепончатых лапках.
Итак, г-н де ла Ривельри приехал к завтраку. Фотографирование портрета прошло очень удачно. Когда мы вышли из-за стола, все было уже кончено и портрет повешен на место. Почтенный г-н де ла Ривельри рассказывает нам об этом увлекающем его старинном процессе. Он любит его героев, как убийцу, так и жертву. Оба они ему одинаково симпатичны. Оба выигрывают в его глазах от уходящей вглубь перспективы времени. То, что один из этих господ убил и изрезал на куски другого, кажется г-ну де ла Ривельри чисто живописною потребностью. Для него эта кровавая трагедия, эта гнусная бойня утратила всю свою патетическую реальность. Она стала простою историческою диковинкою, доставляющею большое удовольствие г-ну де ла Ривельри. Этот почтенный судебный чиновник оживляется, только изучая процессы прошлого. «Современные» преступления оставляют его равнодушным. Я уверен, что, будь он свободен, он не стал бы беспокоиться из-за этих глупостей.
Вчера я возвращался домой через общественный сад. Передо мною шел г-н Реквизада. Я рассматривал его. На своих маленьких и кривых ножках, поддерживающих его коренастое туловище, он подвигался вперед, размахивая длинными руками и покачивая большою желтою головою, покрытою седою шевелюрою. В таком виде он был похож на какого-нибудь карлика Веласкеса или уродливого карапузика Гойи, совещающегося с колдуньями из «Каприччио» или добивающего раненых в «Бедствиях войны». Идя все время на близком расстоянии за Реквизадой, я слышал, как он бормочет и мямлит вполголоса какие-то испанские слова. Вдруг он остановился, приложил свою палку к щеке, как ружье, и залился громким смехом. Ему, несомненно, вспомнился какой-нибудь эпизод из карлистской войны; привиделась казнь шпиона или расстрел пленных или заложников. Воспоминания этого рода, очевидно, не лишены приятности для г-на Реквизада. Они чередуются у него с его религиозными упражнениями. Это образует довольно богатый фон для его теперешней жизни. Г-н Реквизада не скучает. У него есть о чем мечтать.
Вот уже несколько дней, как не слышно сирены красного автомобиля. Не уехали ли обитатели Виллуана? Мне не хватает этого крика, похожего на голос моей тоски и моей скуки; он разрывает мне нервы, когда рассекает и пробивает воздух своими пронзительными нотами. Впрочем, я ужасно нервен в это последнее время, и мне следует хорошенько посоветоваться с врачом, вернее, следует попросить у него средства покончить с жалкою жизнью, которую я веду, попросить быстродействующего яда, который освободил бы меня от меня самого. Разве нет благодетельных снадобий, которые облегчают расставание с жизнью, делают его верным и безболезненным? Да, но, чтобы принять их, нужно своего рода мужество, которого у меня, может быть, и недостанет. Смерть! Хватит ли у меня силы умертвить самого себя, хватит ли у меня силы умертвить другого? Обладаю ли я тою холодною, взвешивающею и рассудительною энергию, которая необходима для самоубийства? Способен ли я на те приступы гнева, припадки ярости, которые обращают людей в убийц? Посягательство на жизнь кажется мне вещью в достаточной степени страшною и почти отвратительною. Уничтожение жизни, даже своей собственной, всегда представлялось мне значительным актом. Чтобы совершить этот акт, нужно быть сильною натурою, а я натура слабая. Я нерешителен, переменчив. Вид крови тягостен для меня. Когда я вижу, как старуха Мариэта режет птицу, я чувствую, что у меня подступает к сердцу. Я никогда не любил охоты. Что же нужно для того, чтобы сделать из меня то, чем я являюсь в такой малой степени? Какое чувство, какое событие могло бы зажечь в душе моей огни гнева, ярости, могло бы заставить меня ринуться на самого себя или на другого?
Чтение процесса Сориньи, а также рассказы г-на де ла Ривельри подействовали на воображение моей тетушки. Ей только и снятся, что грабежи, взломы, убийства и тому подобные вещи. Она ведет счет и комментирует преступления, о которых печатается в газете. Словом, она в страхе. Она велела приделать запор у двери в ее комнату. Она боится не только живых. Ей внушают страх также призраки. Однажды я застал ее в тот момент, как она окропляла святою водою портрет несчастного президента д'Артэна. О провинция, ты превосходишь все, чего можно ожидать от тебя!
Я положил его у себя на столе раскрытым в том виде, как я нашел его… Какая тишина вокруг него, вокруг меня, повсюду; над всем уснувшим городом, надо всей окружающей местностью! Какая тишина во мне, так что я слышу биения моего сердца!.. Мариэта забыла оправить лампу, и мне пришлось зажечь свечу. Свет ее падает на длинный острый клинок, изогнутый и заостренный. Он прочно вделан в роговую рукоятку, снабженную кольцом и очень удобно сидящую в руке. Этот клинок вместе с рукояткою образует мощное и опасное оружие для нападения. Зажатое в сильный кулак, оно должно быть страшным. Я воображаю его ударяющим в грудь, проникающим в тело, разрывающим легкое, прободающим сердце. Я воображаю его разрезывающим горло, вспарывающим нежную кожу живота. И брызнувшую кровь, и крик пораженного человека! Повторяю, это страшное оружие. Таким оружием советник Сориньи изрубил на куски президента д'Артэна. Тяжелое и мощное, оно похоже на испанскую наваху и на нож апаша. Даже когда оно сложено, у него какой-то вызывающий и недобрый вид, вид живого и злобного существа. Когда г-н де Блиньель говорил мне что-то своим тоскливым фальцетом, я чувствовал, как этот нож шевелится, содрогается, точно хочет раскрыться. Он как будто жил какою-то неприязненною и таинственною жизнью.
Эта таинственная жизнь продолжает наполнять необыкновенный нож и теперь, когда он лежит раскрытый на моем столе, освещенный слабым светом свечи. Клинок отливает кровавым блеском, хотя совершенно чист. Никакого пятнышка, никакого следа ржавчины, никакой пыли дороги, на которой я подобрал его… Было поздно, почти уже наступала ночь; я возвращался домой по берегу канала. Я шел в своей наиболее обычной позе, опустив голову, потому что скука – тяжелый груз, и для того, чтобы выдержать ее, нужны плечи более сильные, чем мои. Я заметил нож. Он лежал около камня, который слегка приподымал его. Клинок был обращен своим острием ко мне. Если бы я услышал, что он шипит, как змея, или увидел, что он ползет по земле, я бы не удивился. Но он лежал неподвижно. Я приблизился, немного наклонился, но не прикоснулся к нему. Клинок блестел. Исподтишка рукоятка притягивала мою руку. Кто мог уронить этот предмет? Однако я нагнулся, я подобрал его. Инстинктивно я размахнулся им с таким движением, точно я хотел поразить кого-то невидимого. Вдруг клинок сверкнул в пучке яркого света, и в то же время я быстро отпрянул назад… Стремительный, бесшумный, звероподобный, со своими ослепительными фонарями, большой красный автомобиль совсем почти налетел на меня, а я и не слышал приближения этой свирепой, массивной машины, мчащейся на меня и меня задевшей. Автомобиль проехал. У руля я различил огромные руки шофера, его глаза. Все это длилось одно лишь мгновенье. Автомобиль исчез во мраке… Возвращаясь обратно, я встретил г-на де Блиньеля. Совсем не помню, что он мне говорил и что я отвечал ему.
Я знаю, каково происхождение этого таинственного ножа, найденного мною на дороге в Виллуан, я знаю, что это тот самый нож, который был занесен надо мною в осенний вечер на дорожке, огибающей озеро в Булонском лесу. Рука, угрожавшая мне, – та самая рука, которую я увидел на руле красного автомобиля. Я узнал нож, узнал руку. Я узнал человека. О клинок, удастся ли тебе рассечь путы, которыми обвивает меня скука? Не непредвиденное ли послало тебя ко мне? Не…
К тетушке Шальтрэ приезжал по делам фермер, папаша Бюенэн. Я воспользовался этим случаем и попросил его подвезти меня в своей одноколке полдороги до Виллуана. Какая-то неведомая сила влекла меня туда. Покинув папашу Бюенэна, я пошел напрямик. Я люблю эти проселочные дороги, где трава пробивается в колеях, где местами зеленеют целые участки, дороги, крадущиеся между живыми изгородями, плохо обрезанные ветви которых задевают вас, когда вы проходите. Оставляя в стороне большой проспект замка, этот проселок привел меня к углу парка. Наполовину засыпанный ров не составляет препятствия для проникновения в парк. Миновав его, я оказался в виллуанском парке. Были большие основания предположить, что он пустынен в этот час. Действительно, едва только я вошел, как раздался колокол, приглашавший к завтраку. Звуки этого треснувшего колокола неслись в мягком и почти теплом полуденном воздухе. Небо было пасмурное; аллеи и лужайки начинали усеиваться палыми листьями. Вся осенняя декорация гармонировала с меланхолическим звоном колокола. Значит, поселившиеся в Виллуане аргентинцы уважали обычаи барской жизни прежних владельцев замка. Впрочем, именно эта атмосфера прошлого нравится им в наших старых французских жилищах. Разве у аргентинцев Виллуана это пристрастие не доходило до желания приобрести землю и замок у г-на де Буакло? В конце концов, это, может быть, не так уж плохо. Может быть, в аргентинских руках своих покупателей Виллуан возродится из запустения, в которое он впал в руках у теперешнего разорившегося владельца.
Погруженный в такие размышления, я приближался к замку. В бесцветном воздухе вздымалась его архитектурная громада, торжественная и печальная. Поддерживаемый террасою, на которую вела двойная лестница в форме подковы, замок все еще был грандиозен и производил внушительное впечатление. Если у этих аргентинцев есть хоть немного вкуса, они могли бы сделать нечто из Виллуана! А что, если я нечаянно столкнусь с кем-нибудь из них? Какой вид втируши в их глазах! Ба! я отрекомендуюсь, извинюсь, и в заключение все уладится. Тем временем я поднялся на террасу и бесшумно приблизился к большим окнам нижнего этажа. То, перед которым я очутился, выходило в столовую, где был накрыт стол.
Их было семеро, четверо мужчин и трое женщин; их обходили лакеи. Стол был сервирован просто. Элегантные мужчины и женщины. Я не слышал их голосов, но я различал их позы, и я видел жесты оживленного разговора. Двое сидящих лицом ко мне мужчин показались мне очень юными жгучими брюнетами. На обоих концах стола сидело по одной женщине, и та и другая были красивы. Направо – крупная брюнетка, налево – особа поменьше. Два других сотрапезника, мужчины, сидели спиною ко мне. Прильнув к оконному стеклу, я с любопытством разглядывал эту своеобразную живую картину. Мне казалось, что действие происходит где-то далеко, очень далеко, на самом дне моей жизни, моей прежней жизни. Оно представлялось мне, скорее, как какой-то старый сон, а не как реальность. Когда-то я жил, как живут эти люди. А теперь какое расстояние отделяло меня от них! Такое расстояние, что они даже не замечали, как я стою, прижавшись к оконному стеклу! Я не был для них даже призраком, тенью. Однако один из мужчин вдруг устремил свой взор в окно. В то же мгновение женщина, сидевшая рядом с ним, наклонилась, чтобы закурить папироску. Я испустил возглас изумления: Клара Дервенез, моя прежняя любовница, та самая, которую я видел в последний раз у Лапласа, в день моего отъезда из Парижа!
Да, это была она, и я узнавал в ее соседе за столом человека, сопровождавшего ее в тот вечер у Лапласа. Связь их не была, следовательно, мимолетным капризом, ибо она продолжалась и до сих пор и аргентинец привез с собою Клару в этот замок, который он предполагал купить. В один прекрасный день Клара Дервенез, может быть, станет владетельницею виллуанского замка. Зная ее хитрость и алчность, я считал ее вполне способной женить на себе аргентинца. Эта перспектива заставила меня улыбнуться. Практический и расчетливый ум Клары делал это предположение весьма правдоподобным. О, она умела устраивать свою жизнь и извлекать выгоду из людей и обстоятельств! Она была богата. Большой красный автомобиль, пронзительный крик которого так часто разрушал мои мечтания и разрывал мое оцепенение, наверное, принадлежал ей. И что лежало в основе этого неслыханного богатства? Тело женщины, лицо, взгляд, улыбка, волосы, при отсутствии какой-либо выдающейся красоты и выдающихся талантов. Что же, в таком случае, было причиною возвышения Клары Дервенез, как не участие того чудесного споспешника наших судеб, который называется удачею, случаем, непредвиденным? И разве не эти таинственные помощники научили ее пользоваться тем, что выпадало на ее долю? Конечно, она не была лишена ни ума, ни приятности, но она руководилась главным образом несколько плоскою основательностью своего адравого смысла. Она была обязана этим сыпавшимся на нее богатством также своему личному искусству. Выжидая удачного случая, Клара Дервенез не пренебрегала и маленькими выгодами. Я помню, как талантливо умела она попрошайничать, старалась не упустить ни малейшего заработка, «откладывая в копилку» все, что не было необходимо для показной стороны ее ремесла. Ее расчетливую алчность я заметил по своим расходам. Она обглодала меня с тем же умеренным аппетитом, тою же непринужденностью и естественностью, какую вносила в курение папиросы, так деликатно сжимаемой ею в губах!
Я разглядывал ее. Она была видна мне в профиль, один из ее локтей опирался на стол, вид у нее был одновременно властный и небрежный. Со времени нашей последней встречи Клара Дервенез сделалась более солидною. За этим столом она, наверное, исполняла обязанности хозяйки дома. Две другие женщины выглядели простыми статистками. Чувствовалось, что Клара Дервенез все решала и всем заправляла. Это она, вероятно, ведала расходами, устанавливала расписание порядка дня, устраивала прогулки. Поистине она имела такой вид в этом виллуанском замке, точно она была у себя дома, и, клянусь, я смотрел на нее с некоторым восхищением, на нее и на колье из больших жемчужин, которое обвивало ее шею и блестящие шарики которого она ласкала пальцем, в то время как maitre d'hotel, наклонившись, выслушивал приказание, которое она ему давала. Лакей выпрямился, сделал знак по направлению к двери, и я увидел, как в ней появился, со своею кепкою в руке, шофер красного автомобиля.







