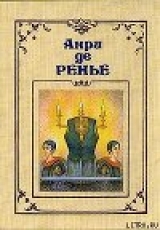
Текст книги "Провинциальное развлечение"
Автор книги: Анри де Ренье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Эта общая похвала П. подразумевала в устах тетушки похвалу ей самой. Она рассматривала себя как особу совершенную во всех отношениях, у которой тонкость ума соединяется с отменною добродетельностью. Она считала себя бесспорно первою в городе как по происхождению, так по умственным дарованиям и по нежности сердца. Ее общественное, нравственное и умственное превосходство казалось ей столь очевидным, несмотря на скромность, с которой она носила его, что она не выражала никакого удивления, когда его признавали за нею, хотя она обладала очень посредственным состоянием, о чем свидетельствовала простота ее жилища. Разве это не было лишним доказательством ее личных достоинств? Поэтому она ничего не предпринимала для отделки своего дома и даже просто для его ремонта. Зачем? Пусть ножка дверного колокольчика основательно облезла, разве каждый дергающий за нее не был счастлив прийти и засвидетельствовать свое почтение г-же Шальтрэ, т. е. наиболее видному лицу в городе? И не думайте, что она сколько-нибудь гордилась этим. Она лишь уступала общему чувству. Это было так, что она могла поделать? Она просто принимала это главенство, так льстившее ее эгоизму.
Эгоизм тетушки Шальтрэ принимал очень разнообразные формы, к которым я еще возвращусь. Главнейшим его выражением было то, что моя тетушка никогда не соглашалась ни на какое беспокойство по отношению к другим людям. У моей тетушки были привычки, и ни за что на свете она не отказалась бы от них. Жизнь ее была обставлена всевозможными удобствами, и удовлетворению их было безоговорочно принесено в жертву все остальное. Это служило причиною крайней черствости, выказываемой ею по отношению к людям, зависящим от нее. Ее черствость особенно ярко обнаруживалась по отношению к прислуге, состоявшей из кухарки и горничной. Кухарка, по имени Мариэта, была несменяемой. Она поступила к моей тетке тотчас после ее свадьбы с г-ном Шальтрэ, и чувствовалось, что она состарится в этом доме у плиты. Ее странная верность не имела никаких разумных оснований. Самое любопытное было то, что моя тетка и Мариэта от души ненавидели друг друга, но объединялись, чтобы мучить сменявшихся горничных. Несмотря на это, горничные, которые, казалось бы, должны были убегать по прошествии недели, оставались на месте иногда довольно долго. Моя тетка внушала этим несчастным совершенно необъяснимую преданность и терпеливость, хотя они подвергались одним только упрекам, грубым выговорам, презрению и обидам. С таким обращением соединялся самый скудный стол и нищенское жалованье, за которые нужно было работать не разгибая спины, причем моя тетушка всегда оставалась недовольною этою работою, какую бы заботливость и прилежание они не вносили в нее. Вдобавок эти девушки, плохо оплачиваемые, еще более были обижены по части помещения. Они занимали в углу чердака клетушку без воздуха и света, в которой они мерзли зимою и задыхались летом. Тем не менее, благодаря какому-то колдовству, они аккуратно несли службу, в которой им нечего было рассчитывать ни на подарки, ни на отпуска и в которой особенно возбранялись всякие болезни и недомогания, между тем как моя тетушка, когда ей самой случалось заболевать, требовала от них самых унизительных услуг. Моя тетушка мало трогалась болезнями других.
Между тем ее собственные были для нее предметом самых неусыпных забот. Обладая железным здоровьем и способная прожить сотню лет, она тщательно наблюдала за своими малейшими недомоганиями, так что самое незначительное и самое мимолетное из них приобретало для нее крайнюю важность. Она без конца рассуждала о нем. Достаточно было маленького расстройства желудка, простой тяжести в голове, чтобы по всему дому разнеслась весть об этом и все в нем были поставлены на ноги. Весь город немедленно оповещался о болезни. Известие распространялось из дома в дом, и скоро знакомые начинали прибегать за новостями. Все сколько-нибудь уважаемые обыватели П. сменяли друг друга у двери. В эти дни колокольчик не переставал дребезжать. В таких случаях Мариэта оставляла свою плиту и никому не уступила бы обязанности повергать в тревогу или обнадеживать посетителей, что она исполняла соответственно настроению момента, то пожимая плечами, словно речь шла о какой-нибудь причуде ее госпожи, то, напротив, корча самую жалостливую рожу и вытирая глаза углом передника. После каждого звонка нужно было подняться к тетушке и сообщить ей имя звонившего или звонившей. Она получала огромное удовлетворение от числа посетителей и проявляемого ими рвения. Она видела в этом доказательство значительности места, которое она занимала в городе. Но если простое недомогание вызывало такой живой отклик, то что будет, если случится настоящая болезнь? Что касается смерти, то моя тетушка не сомневалась, что она будет целой катастрофой и, несомненно, повлечет за собою общественный траур. Но об этом печальном событии тетушка предпочитала не думать. К тому же оно казалось ей столь же невероятным и столь же отдаленным, как конец мира.
Напротив, она охотно выслушивала вести о смерти кого-нибудь из ее знакомых. Это казалось ей столь естественным, что она принимала новость с безразличием, которое граничило с бесчувствием и способно было даже внушить мысль, будто она испытывает от этого некоторое удовольствие. Смерть бывала для нее, скорее, предметом любопытства, чем сочувствия и сожаления. Она требовала, чтобы ей докладывали с самыми малейшими подробностями все обстоятельства каждой такой смерти, и долго рассуждала на эту тему. Как бы ни были эти обстоятельства мучительны, неожиданны, прискорбны, тетушка всегда находила их своевременными и справедливыми. Разве мы пребываем в этом мире не для того, чтобы страдать в нем и из него исчезнуть? Это закон природы, и ей казалось правильным, чтобы другие подчинялись ему. Эта удобная философия освобождала ее от всякого сокрушения. Она держала речи о покорности провидению и о почтении к божественным предначертаниям. Закончив их, она не пренебрегала воздать покойному почести в тех именно размерах, какие были им заслужены. Кстати говоря, отец часто пересказывал мне, смеясь до слез, надгробные речи, которые с таким искусством произносила моя добрейшая тетушка Шальтрэ. Они отличались у нее отменным красноречием и еще более отменным знанием странностей, смешных сторон, недостатков, пороков и других особенностей покойного. Было необычайно занятно слушать, как обнажается его характер и его поступки с изумительною мелочностью и изумительною беспощадностью. В таких случаях моя тетушка вознаграждала себя за сдержанность, которую необходимо выказывать в обществе и которую ей приходилось соблюдать, но теперь безнаказанность развязывала ей язык. Вот почему эти лица, которых при жизни она не осмелилась бы подвергнуть никакой критике и которых на том основании, что они были жителями П., она наделяла всеми добродетелями и всеми положительными качествами, – эти лица, ставши покойниками, приобретали свой истинный облик. Благодаря моей тетушке, они подвергались чудесному превращению. Они вдруг появлялись в своем истинном виде. Едва только они окоченевали, как моя тетушка делала им похоронный туалет, стирая с них румяна и всякие прикрасы, удаляя разные безделки и пустячки и выставляя их перед глазами всех в их ничтожестве и их наготе.
Эти панегирики наизнанку очень ценились в П. и пользовались всюду самым благосклонным приемом. Если имела место чья-нибудь кончина, то, по воздании первого долга покойнику и его семье, представители местного общества собирались у тетушки Шальтрэ, чтобы побеседовать о событии и выслушать мнение тетушки о покойнике. Это было угощение, которым никто не пренебрегал. Тетушку находили в салоне сидящей в вольтеровском кресле с вязаньем в руках. Образовывался кружок. Не прерывая своей работы, тетушка руководила разговором, который понемногу организовывался и приобретал определенность. Это разделывание покойника по косточкам составляло род похоронного ритуала, который совершался неукоснительно и в котором священнодействовала по всем правилам моя тетушка Шальтрэ. Каждый уходил очень довольный ею и собою, с чувством, что город П. имеет в лице моей тетушки человека во всех отношениях замечательного, отличающегося удивительною правильностью суждений. Эта столь сурово критическая оценка поступков и характера покойника или покойницы не препятствовала моей тетушке благочестиво присутствовать на похоронах, церемониал которых был в некотором роде открыт ею накануне.
Присутствие на церемониалах было главным занятием г-жи де Шальтрэ наряду с ее благочестивыми упражнениями. В самом деле, моя тетушка отдавала визит только Богу. Это было единственное отношение, заставлявшее ее выходить из дому. Ее видели на улице, только когда она шла в церковь, в которой она не пропускала ни мессы, ни вечерни, ни молебна. Эта пунктуальность была поводом для многочисленных приветствий, которыми сопровождался ее путь. Особенно торжественными бывали выходы моей тетки от большой мессы. Ее ожидали на паперти нескончаемые приветствия с поклонами и целованием руки. Иногда вся группа провожала ее до самой двери ее дома, у которой частенько раздавался звонок колокольчика, потому что, если моя тетка никого не посещала, она почти каждый час принимала какого-нибудь посетителя, являвшегося засвидетельствовать ей свое почтение. Такое поведение моей тетушки было обусловлено одним твердо усвоенным ею после смерти ее мужа принципом. Но если г-жа де Шальтрэ ни при каких обстоятельствах не делала визитов, она не отказывалась от записок, которые отправляла адресатам через Мариэту. Эти записки были знамениты в П., и получатели обменивались ими, как некогда посланиями г-жи де Севинье. С них снимали копии. Я сказал уже, что моя тетушка была местного знаменитостью, что не мешало ей быть очень доступной. Дверь ее оставалась всегда открытой, за исключением дней болезни и лечения, да, впрочем, и в эти дни некоторым привилегированным был открыт доступ к тетушке. Все, кто обладал в П. каким-либо значением, по меньшей мере, один раз в неделю бывали в салоне тетушки и дергали за оленью ножку. Небольшое число избранных пользовалось правом ежедневного визита. Люди, на долю которых выпадала эта честь, исполнились справедливой гордости, но не дай Бог им пренебречь этой честью – они боялись даже подумать об этом: моя тетушка ревниво наблюдала за ними, и эта короткость рассматривалась ею как знак величайшего внимания.
Я мог бы прибавить еще много штрихов к этому портрету тетушки Шальтрэ, заимствуя их из повествований моего отца и рассказов матери. Есть и такие, которые были подмечены мною самим во время моих детских посещений П. Дети умеют наблюдать, хотя не производят впечатления наблюдательных существ. Уже в ту пору моя тетка вела описываемый мною образ жизни, о котором отец мой, после ссоры, происшедшей между ним и его сестрою, продолжал получать известия. Я думаю, что у него осталось несколько знакомых в П., с которыми он состоял в переписке. Как бы там ни было, он частенько говорил о тетушке Шальтрэ то с моею матерью, то со мною. Ссора с сестрой огорчала его, и он сожалел о ней, потому что, несмотря на серьезную, вероятно, обиду, лежавшую в ее основе, он сохранял привязанность к своей сестре. Эта привязанность бывала даже иногда поводом разногласий между отцом и матерью. Мать недолюбливала своей золовки, подсмеивалась над нею и называла ее «старой эгоисткой», «старой психопаткой» или, в лучшем случае, «старой оригиналкой». Отец протестовал против этих названий, впрочем, без особой настойчивости. Он признавал за своею сестрою «некоторые качества», но не мог точно определить, какие именно. Тогда мать пожимала плечами, отец же, в свою очередь, упрекал ее в легкомыслии, в нежелании понять уродливостей существования, обусловливаемых жизнью в провинции со всей ее узостью. Матери моей, родившейся и воспитанной в Париже, в среде очень живой, очень подвижной, где все изменяется и непрестанно обновляется, были очень чужды все эти нравы и привычки маленького провинциального городка, и она не могла не находить их вздорными. Но если атмосфера таких городков для некоторых является удушливою, то других, напротив, она, так сказать, консервирует и, слепивши их на свой лад, навсегда сохраняет их такими. Моя тетушка Шальтрэ была одним из примеров такого мумифицирования. На нее нужно было смотреть как на причудливый семейный фетиш. Нужно обладать незаурядною индивидуальностью, чтобы не дать этой среде засосать себя, и мой отец признавался, что сам он, будучи окружен ею, не сумел бы защитить себя от ее обезличивающего и нивелирующего действия.
Это признание раздражало маму. Она ни за что не соглашалась поверить, что, даже живя в П., она и отец обратились бы в ограниченных маньяков, комизм которых помогал ей переносить скуку ее вынужденных пребываний в П. Несмотря на свою снисходительность и мягкость, она находила чрезвычайно резкие и язвительные штрихи, описывая маленький мирок П. Обычное ее равнодушие к людям и к предметам сменялось сарказмом, и она употребляла тогда такие забавные выражения, что отец забывал все свое негодование и принимался звонко хохотать. Все же он иногда упрекал себя за то, что не исполнял своих обязанностей по отношению к сестре и продолжал оставаться вдали от нее… Признаюсь, что эта разлука была для меня совершенно безразлична. Тетушка Шальтрэ занимала мало места в моих мыслях. Я был в том возрасте, когда старые люди не интересуют нас. Мои пребывания в П. редко всплывали в моей памяти. Воспоминания детства были еще слишком близкими для того, чтобы казаться мне сколько-нибудь заманчивыми. Как раз в конце одного из разговоров, темой которого служила тетушка Шальтрэ и который заканчивался обыкновенно дружескою перебранкою между матерью и отцом, у отца моего обнаружились первые симптомы болезни, которая очень скоро после этого унесла его. В этом маленьком споре отец, обыкновенно очень учтивый, проявил необычайную раздражительность. Вскоре мы узнали, увы! что это изменение характера означало начало болезни. С этого момента состояние моего отца стало быстро ухудшаться, и роковая развязка не заставила долго ждать себя. Мать мужественно перенесла утрату, но здоровье ее, и без того слабое, было подорвано, и два года спустя она умерла от острого воспаления легких. В двадцать семь лет я оказался сиротою и мог строить жизнь по собственному усмотрению. У иных людей такое положение служит живым стимулом к работе, к деятельности. Ставят паруса и поспешно устремляются к избранному роду деятельности, к намеченной цели. У меня, однако, не появилось этого напряжения воли, этого чувства желанных реальностей. Я остался в состоянии ожидания, нерешительности, о которой я уже говорил и которое помешало мне попробовать свои силы в какой-нибудь карьере, какой-нибудь профессии, избрать себе какое-нибудь занятие. Это отвращение не было поколеблено настояниями моего отца. Я прибегал к тысяче уловок, чтобы оставаться праздным. Когда отец умер, ничто в моей жизни не изменилось.
Смерть отца послужила для меня поводом вступить в переписку с тетушкою Шальтрэ. Я сообщил ей печальную новость и, лишившись матери, равным образом известил ее о большом горе, постигшем меня. На эти уведомления тетка ответила чрезвычайно любезными письмами. Она не свидетельствовала в них никаких нежных чувств ко мне, но она выказывала по отношению ко мне много вежливости; она не обнаруживала, впрочем, никакого желания видеть меня или возобновить отношения со мною. Я сам не чувствовал никакого желания делать это. Когда я возвратился из предпринятого мною тогда довольно продолжительного путешествия, жизнь моя понемногу организовалась и стала тем, чем она была. Я не раскаивался, что избрал эту жизнь, хотя и предвидел ее последствия, которые лишены были всякого блеска. Когда мне минуло сорок лет, я был, что называется, «выжатым лимоном». Разорен, дом продан, обстановка разошлась по магазинам, без профессии, без проектов – вот каким был я в тот вечер, когда поезд уносил меня в П. И через несколько часов я окажусь перед лицом моей тетушки Шальтрэ…
Когда поезд остановился на валленском вокзале, я приложил лицо к окну. Занимавшийся день был печальным и серым осенним днем. Вокзал почти в неприкосновенности сохранял свой прежний вид, и я легко узнал его, несмотря на значительное расширение, которому он подвергался и которое было вызвано промышленным развитием города Валлена. Зал ожидания и буфет занимали прежнее место – тот самый зал ожидания, где мы усаживались когда-то и где я дремал на старых креслах, обитых зеленым бархатом; тот самый буфет, где я глотал, обжигаясь, чашку черного кофе… Ничто из этого не изменилось, но рядом построили обширную товарную станцию. Валлен был важным торговым центром, его заводы работали полным ходом. Валлен! При мысли о нем внезапное искушение появилось у меня. Выскочить из вагона, оставить в покое П. и тетушку Шальтрэ, остаться в Валлене, найти себе место, приняться за работу, начать сначала свою жизнь, с энергиею, с волевым напряжением, с упорством, умом! Я был еще полон сил, не стар, не идиот и не дурак. Мне, наверное, удастся вывернуться. Будет тяжело, но я, по крайней мере, буду жить среди живых, тогда как в П. я похороню себя среди теней в призрачном кукольном существовании. В Валлене у меня будут невзгоды, я буду бороться, страдать, но я буду жить… Остаться в Валлене – значит поступить разумно, мудро. Спасение было передо мною: неужели же я упущу его? К тому же разве в Валлене не было г-на де ла Ривельри, с которым когда-то был близок мой отец, г-на де ла Ривельри, который занимал там пост в судебном ведомстве? Отец восхвалял достоинства своего друга, человека умного и обязательного. Он поймет меня, поможет мне. Картина возможной жизни вставала передо мною, жизни, полной деятельности и энергии. В моем распоряжении было несколько минут, чтобы решиться. Если я дам поезду тронуться, тогда все кончено, отрезана эта последняя возможность…
Еще и теперь я плохо отдаю себе отчет в том, что остановило меня: какая-то тайная и могущественная сила, какая-то боязнь, робость, какой-то недостаток энергии, паралич воли. Я видел, как я схватываю свои чемоданы, выскакиваю из вагона; я видел, как поезд трогается, удаляется, исчезает; я ощущал под своими подошвами асфальт платформы; я вдыхал холодный осенний воздух, насыщающий его запах утра и угля. Я представлял себе улицы Валлена, группы рабочих, направляющихся на заводы, служащих, идущих в свои конторы. Я смешивался с ними, я становился одним из них, и все же я не трогался с места. Время проходило, я чувствовал, как драгоценные минуты протекают, и я чувствовал в то же время свою слабость, точно каждая из них вытекала из моих открытых жил. Итак, никто не придет ко мне на помощь; никто не возьмет меня за руку! Вдруг мне показалось, что что-то развязывается во мне, что ко мне возвращается способность движения. Слишком поздно. Поезд трогался: я видел, как перемешиваются предметы. Когда мы миновали вокзал, передо мною вдруг предстал Валлен, с его старыми валами, трубами его заводов, его дымами. Задыхаясь от волнения, я упал обратно на скамейку.
Я принялся медленно вытирать пот, который смачивал мой лоб. Великое спокойствие нисходило на меня. Огромная пропасть разверзалась между тем, что было моим прошлым, и тем, что должно было стать моим будущим. Валлен казался мне более далеким, чем Пекин или Тимбукту. Что же касается Парижа, то он был расположен точно на другой планете. Отныне я принадлежал какому-то неясному миру, которого я совершенно не представлял себе. Я оставлял далеко позади себя то, что было моим я. Я чувствовал себя оторванным от него, как если бы нож человека из Булонского леса перерезал все нити, привязывавшие меня к моему прошлому, как если бы прежнее мое я лежало бездыханным трупом на дорожке у озера. Я действительно представлял себя мертвецом. Мне казалось, что я равнодушно склоняюсь над этим трупом, который был раньше моим живым телом. Я был точно в оцепенении. Какое мне было теперь дело до того, что может случиться со мною? Я хотел бы навсегда остаться в этом вагоне, все равно в каком положении, уносимый им все равно куда.
Я довольно долго пребывал в этом состоянии одеревенелости. Может быть, даже я задремал. Я закрыл глаза. Однако понемногу ко мне вернулось чувство действительности, а вместе с тем приторное ощущение скуки. Сейчас мне нужно будет встать с этой скамейки, снять свои чемоданы с сетки, покинуть вагон, делать телодвижения, говорить. Сейчас я буду в П. и вслед за тем предстану перед моею тетушкою, после того как дерну оленью ножку колокольчика. Мысль об этом вызвала в моем уме воспоминание, которое я сохранил о ней. Я увидел высокую, костлявую особу, ее жиденькие седые волосы, услышал сухой шум ее вязальных спиц. Вряд ли она очень изменилась. Впрочем, она говорила о своих недугах в письмах, которыми мы обменялись во время переговоров, закончившихся нашим странным соглашением и нашим удивительным сожительством.
Каким образом я решился несколько месяцев тому назад изложить тетушке Шальтрэ плачевное положение, в котором я находился? Как я дошел до того, чтобы обратиться к ней со своей просьбою? Я знаю лишь, то, что ответ тетушки отсекал всякую надежду на денежную помощь. Тетушка писала мне, что я становлюсь на ложный путь, если считаю, что она способна выручить меня из беды финансового поддержкою. Она не скрывала от меня, что интерес ее ко мне был не настолько велик, чтобы согласиться ради меня на какую-нибудь жертву. Правда, я был ее племянником, но племянником, которого она не знала и которого она не видела в течение многих лет. Она довольно резко упрекала меня за это невнимание и присоединяла к этим упрекам ядовитые намеки на неприязнь, которую она питала к моим родителям. Она злопамятно возвращалась к ссоре, разъединившей их. Тем не менее она соглашалась не гневаться на меня лично. Несмотря ни на что, я оставался ее племянником, и у нее были слишком сильные чувства по отношению к семье, чтобы пренебречь мною в своем завещании, которое, впрочем, принесет мне большое разочарование. Это замечание давало моей тетке повод представить мне картину своего материального положения. Она уведомляла меня, что большая часть ее состояния была вложена ею в пожизненную ренту. Она сохранила только две фермы, приносящие весьма ограниченный доход, который однажды достанется от нее мне. Что же касается средств, вложенных ею в поддерживаемые ею предприятия, то она ничего не могла заимствовать из них, чтобы дать мне возможность продолжать «блестящую» парижскую жизнь.
За этим следовало несколько замечаний моей тетушки по поводу парижской жизни. Она составила себе самые фантастические представления насчет возможностей роскошной жизни, заключающихся в нескольких жалких сотнях тысяч франков. Суммы, промотанные мною, позволяли мне, на ее взгляд, вести образ жизни сатрапа. Она воображала меня каким-то Сарданапалом или вавилонянином. Она чуть ли не думала, что я живу во дворце, со скипетром в руке и короною на голове, окруженный толпою разодетых в золото рабов и нагих куртизанок, лакомящийся необыкновенными яствами, пьющий дивные вина, – что мои кареты не переставая бороздят город, и прочие фантасмагории в таком же роде. Поэтому я был немало удивлен заключением тетушкина письма.
Моя тетушка говорила мне там, что если ей не по силам давать мне денежные субсидии на продолжение моей роскошной и достойной сожаления жизни, коей я обязан своим разорением, то она все же не считает удобным совершенно отвернуться от меня. Ей запрещали это ее семейные чувства, этому противился также долг милосердия. Кроме того, она не могла помешать себе видеть в случившемся со мною руку Божью и хотела оказать содействие видам, которые явно имело на мой счет провидение, сокрушая мою гордость, и карая мою расточительность. Раз на мою долю выпал случай раскаяться и исправиться, то ее совесть не может позволить ей отказаться от содействия моему нравственному возрождению. И вот что она предлагала мне.
Я получу в ее доме самое полное гостеприимство. Я буду жить под ее кровлею, и она будет удовлетворять мои потребности. Если я приму ее предложение, то, естественно, я должен буду отказаться от всякой мысли о роскоши и удовольствиях. Я должен буду удовлетвориться тем, что она сочтет возможным уделить мне. Ее средства позволяли ей обеспечить мне лишь скромное существование, подобное тому, которое ведет она сама. О, я не буду кушать каждый день ортоланов, но я буду иметь все необходимое: стол, помещение, одежду. Благодаря спокойствию П. и ограниченному числу развлечений, которые я там найду, я буду в состоянии погрузиться в себя самого и поразмыслить над неверностью человеческих судеб. Может быть, я даже приобрету вкус к этой уединенной и безмятежной жизни, каковою является провинциальная жизнь, когда я познаю тщету той, которую вел. Если все устроится таким образом, прибавляла тетушка, то она будет очень счастлива тем, что она сделает для меня. После ее смерти я унаследую ее дом и две ее фермы. Это даст мне маленький доход, достаточный для поддержания моего существования, а позже я тихо угасну в этом дорогом П., где я создам себе привычки и не буду больше помышлять о том, чтобы покинуть его.
Вы скажете мне и будете правы, что у меня, наверное, была парализована всякая энергия и иссякло всякое мужество, что я достиг состояния полной прострации, если согласился принять подобное предложение, скажете, что любой выход был лучше этого унизительного, зависимого и бесцельного превращения в провинциала. Добро бы я был человеком борьбы и усилий, на время побежденным и обессилевшим, человеком, потерпевшим крушение, но сохраняющим в себе еще довольно сил, – тогда эта провинциальная атмосфера была бы для меня периодом покоя, за которым последовал бы новый прилив энергии. Другой бы мог вылечить в П. свою боль. Но это ни в каком случае не распространялось на меня. Мое заточение в П. было трусливым отступлением перед трудом, проявлением инициативы, отказом от всякого будущего. Ничто больше не извлечет мена из этого небытия – разве только меня отыщет то непредвиденное событие, на которое, как мне смутно казалось, имеет право каждый человек и неопределенное ожидание которого всегда держало меня в состоянии неверной надежды, – то событие, отсутствие которого я заменил мелкими волнениями моего бесполезного существования. Как ни ничтожны были шансы на то, что такое событие произойдет, оно, однако, было единственным выходом из положения, в которое я попал. Вся моя ставка была положена на эту последнюю карту. Какое значение, в конце концов, имело, буду ли я вести в Париже полное борьбы существование или же изленюсь в трусливой безопасности, которую мне предстояло найти в П.? Мысль, что сейчас только, проезжая через Вал-лен, я чуть было не отказался от принятого мною решения, взволновала меня. Зачем эти бессильные желания мятежника? Если приключению суждено когда-нибудь позвониться у моей двери, оно сумеет отыскать меня, куда бы я ни укрылся, и дернуть, из тьмы случайного, за оленью ножку тетушки Шальтрэ!
Однако, прежде чем самому решиться дернуть за нее, я испытал некоторое колебание. Соглашение, заключенное между моею тетушкою и мною, потребовало целой переписки, и я, в заключение, довольно хорошо разгадал мотивы, побуждавшие ее принять свое решение, и понял, что главным из этих мотивов было тщеславие. Мой приезд и мое водворение в П. будут настоящим событием, и обо мне пойдут разговоры. Моя тетушка будет играть в них роль покровительницы несчастного, и от этого еще более возрастет уважение, которым она окружена в П. Станут восхвалять ее доброту, ее благородство, ее отзывчивое сердце. Сочувственно отзовутся о ее бесстрашии. Подумайте только: приютить у себя бездельника-племянника, племянника, который совершил, как говорится, «четыреста преступлений», который проводил все свое время за игорными столами и в постелях девчонок, – протянуть ему спасительную руку, когда он потерпел крушение, остался без гроша! Какое самоотвержение, какое милосердие и в то же время какое торжество добродетели! Ах, мы хотели жить большим барином, сибаритом, искателем приключений, мы пренебрежительно относились к семье, и вот, эта семья, так долго презираемая нами, в один прекрасный день становится нашею пристанью и нашим убежищем… Тетушка готовилась привлечь ко мне всеобщее внимание как к феномену, к блудному сыну. Я буду своего рода илотом, обреченным наглядно представить все преимущества жизни в провинции и все неудобства парижской жизни. Я буду служить чучелом и в то же время пугалом и должен буду выслушивать притворные сожаления и кудахтанье провинциальной публики.
Однако часы проходили, и поезд начинал замедлять ход. Я посмотрел в окно. Железнодорожный путь пересекал длинный канал, берега которого были обсажены желтеющими тополями. В небольшой долине я замечал шпиль колокольни. Это был П. Через несколько минут я выйду на платформу его маленького вокзала. И это будет началом моей новой жизни. Раздался свисток паровоза. Я приготовил свои чемоданы. Стоя, я посмотрел в маленькое зеркало купе. Да я ли это? Вдруг остановка вагона заставила меня пошатнуться. Голос железнодорожника неразборчиво выкрикнул какое-то название. Машинально я повиновался его зову и оказался на платформе между двух моих Чемоданов. Сошло несколько пассажиров: один или два крестьянина, какие-то люди неопределенной профессии, три женщины, которые внимательно посмотрели на мои чемоданы. Так как никто не подходил ко мне на помощь, я схватил один чемодан в одну руку, другой в другую и направился к выходу. Перед вокзалом ожидал омнибус гостиницы, древняя колымага, запряженная древнею лошадью. Когда я спросил кучера, толстого человека с красным носом, возьмется ли он довезти меня к г-же де Шальтрэ, он окинул меня взглядом, выражавшим смесь любопытства и такого неподдельного изумления, что мне ясно стало, насколько редко моя тетушка баловала себя радостями гостеприимства. Человек с красным носом согласился исполнить мою просьбу, но предупредил меня, что омнибус ожидает прихода поезда на Валлен и Париж, чтобы не делать лишнего конца в город и обратно. «Вам придется подождать полчаса», – и, схвативши в свою большую грязную лапу мою багажную квитанцию, он указал мне на маленький садик у вокзала как на наиболее подходящее место для моего ожидания.







