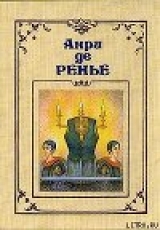
Текст книги "Провинциальное развлечение"
Автор книги: Анри де Ренье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Этот садик состоял из тощей лужайки, извилистой дорожки, нескольких кустов бересклета и небольшого цементированного бассейна в углу, над которым возвышалась искусственная скала с бившею из нее слабенькою струйкою фонтана. Перед фонтаном стояла выкрашенная в зеленый цвет скамейка. Я сел на нее. Погода была мягкая. На запасных путях маневрировал невидимый мне паровоз. С моей скамейки я различал верх омнибуса и оба своих чемодана, один из которых был плохо поставлен и, казалось, сейчас упадет. Дальше тянулось пустопорожнее пространство, которое пересекал бульвар, усаженный низкорослыми деревьями; бульвар этот шел по направлению к городу, и у начала его был расположен трактир, обслуживавший железнодорожников. Дальше, через другие деревья, я различал колокольню. Слабая струйка фонтана, казалось, совсем прекратила свое еле слышное журчание. Наступила глубокая тишина. Пела птица.
Сидя в саду, я отчетливо представлял себе отца, мать и себя самого. Во время наших приездов на каникулы в П. вокзал служил одной из целей наших прогулок. Отец покупал там газету; мать иногда выбирала книгу. Я видел своего отца с его любезным выражением, видел свою мать с ее нежным лицом. Как все родители, они строили планы моего будущего. Они выдумывали мне жизнь. Они заранее гордились моею карьерою и моею судьбою. Они верили в меня. Я не был ни тупицею, ни дураком. Как и всякий другой, я мог бы достичь чего-нибудь, стать кем-нибудь, завоевать себе место в мире. Что сказали бы они, если бы увидели меня сейчас, на пятом десятке, промотавшим оставленное ими мне состояние, покончившим с надеждами, которые они лелеяли, и лишенным даже всяких красивых воспоминаний о любви, приключениях, борьбе, усилиях, – воспоминаний, согревающих пепел унылых часов? Что сделал я с немногими талантами, полученными от них, ребенок, которого они любили, которого они водили во время своих приездов в П. поиграть в маленький садик у вокзала на тощем газоне, на извилистой дорожке, около слабенького, однообразно журчащего фонтана?
Внезапный приход валленского поезда вывел меня из задумчивости. Когда я подошел к омнибусу гостиницы «Белый голубь», кучер уже взгромоздился на свое сиденье. Поезд не доставил ни одного пассажира в П. Можно было отправляться. Дверца захлопнулась, кляча затрусила. Пришедшие в движение оконные стекла дребезжали. Проехав вокзальный бульвар, мы достигли первых домов П. Они были низенькие и жалкие. На окнах роняли листья несколько цветочных горшков. На мосту кляча споткнулась. Щелкнул бич; потом мы выехали на улицу Двух Башен, узкую, плохо вымощенную, с узенькими тротуарами. Проехали мимо жандармской казармы, у которой висело жесткое цинковое знамя. Дальше была лавочка оружейника. На витрине несколько охотничьих ружей, ящики с патронами, гильзы, револьверы, ножи. Парикмахер, как и прежде, продавал рыболовные принадлежности. В портновском магазине красовался уродливый манекен в черном сюртуке. Ох, взять бы одно из этих ружей и пристрелить это чучело! В провинции забавляются как умеют, не правда ли? Да, но есть жандармы.
Улица Двух Башен делает колено, перед тем как выйти на Рыночную площадь, которая имеет треугольную форму и выходит другою стороною на Большую улицу. Вдруг передо мною предстал дом тетушки Шальтрэ с его серым фасадом, окнами с решетчатыми ставнями, красною черепичною крышею, между домом Буайе с его кафе и домом Вердей. Я приехал. Пока кучер возился с моим багажом, двое мальчишек, засунув пальцы в нос, с любопытством разглядывали меня. По тротуару прошла старуха. Кляча била своим истоптанным копытом о грубую мостовую. Я сделал шаг, затем другой. Приблизился к двери. Рука моя поднялась. Я смотрел, как она движется – белая, сильная, мускулистая, рука мужчины, рука, созданная, чтобы хватать, держать, ласкать, сжимать, ударять, убивать, может быть, – вдруг я увидел, как эта рука, моя собственная, трусливая, бесполезная и уже как бы мертвая, приближается к оленьей ножке, висящей на железной цепочке, и дергает за нее.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Полдень. В течение всего предстоящего дня у меня будет только два занятия: следить за движением стрелок по циферблату моих часов, лежащих на столе, перед которым я сижу, или же, опрокинувшись на спинку своего кресла, наблюдать, как желтеет преждевременно позолоченный осенью листок на одном из деревьев общественного сада, который я вижу из окна. Оба эти занятия попеременно наполняли мой вчерашний день; я снова примусь за них сегодня, и я буду продолжать их завтра. Ничто не нарушит моего покоя. Никто не постучится в дверь моей комнаты. Комнату во втором этаже, в которой тетушка временно поместила меня, я покинул. До меня доносился туда каждый звонок, и через кирпичную перегородку я слышал все разговоры в гостиной, но после моего уединения в этой более обширной комнате третьего этажа я наслаждаюсь самым невозмутимым покоем и глубочайшею тишиною. Двор отделяет меня от общественного сада, где прохожие более чем редки. Этаж, в котором я поселился, пустой. Ничто, следовательно, не отвлечет меня здесь от созерцания стрелок моих часов. Когда я немного устану от этого зрелища, я могу вволю наблюдать за желтеющим листком, который я облюбовал за его красивую окраску. Я буду видеть, как он понемногу переходит через все оттенки золотистости, и, если мне повезет, я буду, может быть, присутствовать при его падении. Чисто провинциальное развлечение, не правда ли? Прибавлю, что, если Бог даст мне дожить, я буду иметь случай видеть воскресение его ближайшею весною. Вот сейчас он заколыхался, кажется, будто он готов оторваться. Он тихонько закружится, полетает некоторое время и ляжет на камень старого подъезда. Но нет, он перестает колыхаться. Значит, это произойдет не сегодня! Что мне за дело, в конце концов! Разве я водворился здесь не навсегда?
Часы, лежащие передо мною, отметят последнюю минуту моей жизни. В этом глиняном горшочке я возьму щепотку табаку для моей последней папиросы, последний пепел которой упадет в эту пепельницу, где мне случается считать обгоревшие спички, так как старушка Мариэта частенько забывает вытряхнуть ее. Милая старушка Мариэта, вероятно, сделает мне мой последний туалет, когда меня положат на эту постель, на отличной белой простыне, правда, уже стиранной, потому что моя тетушка не станет без надобности разрознивать одну из новых пар. Конечно, моя тетушка и Мариэта стары, но я чувствую, что в них заключено что-то вечное. Они составляют часть П., как улицы, дома, деревья. Может быть, когда-нибудь покажется, что они умерли, но в П. всегда будут некая г-жа де Шальтрэ и некая Мариэта, в точности похожие на тех, что живут сегодня. В них воплощена Провинция, а Провинция вечна. Все преходяще, но она не преходяща!
Я замечтался, и папироса моя потухла. Придется затратить лишнюю спичку! Положительно, я никогда не буду настоящим провинциалом. У меня нет необходимых добродетелей. Однако вот уже два года, как я здесь, два года, как эти часы продолжают свое тиканье, и два года, как бегут их стрелки! Когда же, наконец, я отучусь смотреть на их кружок и справляться с календарем, как будто час и дата имеют какое-нибудь значение для меня и как будто завтра может внести какое-либо изменение в то, что произошло сегодня? Нет, я не дошел еще до того состояния, до какого мне нужно дойти. Но это наступит, это наступает. В один прекрасный день часы остановятся, и я даже не замечу этого. Листок оторвется от дерева, и я не буду следить глазами за его падением, и так будет лучше, так будет лучше.
Неправда. Я уже не нахожусь в комнате, которую занимал в верхнем этаже дома тетушки Шальтрэ. Вы хотите знать, где я? Я скажу вам об этом позже, и, кроме того, вы и сами увидите это из рассказа, к которому я собираюсь приступить. Я избрал форму дневника, заметок, потому что она мне удобна и является очень подходящей для того, чтобы дать вам точную, до мельчайших подробностей картину существования, которое я вел в П. Кроме того, я значительно сокращу таким образом мой рассказ. Я не писатель-профессионал; вы, вероятно, уже заметили это из предшествующих страниц. Примиритесь же с его искусственным приемом, который я применяю. События, которые я собираюсь рассказать вам, приобретут от этого большую живость. Из прошлого я переношу их в настоящее. Я предлагаю вам, значит, ряд разрозненных страниц. Одни заполнены; другие же содержат лишь несколько строчек, несколько слов. Больше того: я не буду датировать их. Зачем? Монотонность моей жизни в П. станет от этого более ощутимою. Вот что: предположим, что, роясь на чердаке, я нашел тетрадку старых бумаг, и, чтобы рассеять свою скуку, я стал разбирать эту пачкотню. Вот условность, которую я предлагаю вам. Вы согласны? Да? Так покончим с этим, я продолжаю. Вот я снова в своей комнате, перед столом. Стрелки бегут по циферблату; желтеющий листок все еще висит на своей ветке…
В течение нескольких дней я не написал ни строчки.
Я знаю теперь, что такое скука. Я окружен зыбкою и текучею средою, которая то сжимается, то разжимается, то растягивается, то снова стягивается, которая как будто дает мне возможность совершать движения, готова раздвинуться для Них, но которая ни на миг не перестает обволакивать их. Она создает иллюзию выхода, который никуда, однако, не приводит. Внутри этой среды есть воздух. Вы думаете, что дышите им, на самом же деле он вбирает вас в себя. Он проникает в вас своими тончайшими частицами и незаметно окружает ими. Цвет его вы не можете определить, но он покрывает все предметы каким-то липким лаком. У него есть также запах. Запах этот пропитывает вашу одежду, ваше тело, ваше дыхание. Он обладает способностью навевать сон, так что вы даже не чувствуете себя несчастным. Вы не страдаете – вы скучаете. Это неопределимое состояние. Вы в плену у самого себя, и вы не ищете освободиться от этого плена! У вас нет для этого ни силы, ни мужества, пожалуй, нет даже желания. Скука довлеет себе. Раз вы вошли в ее зыбкое царство, вы уже не можете больше вырваться из него, хотя бы вас призывали самые лучшие ваши воспоминания, самые могущественные силы, самые ненасытные потребности. Скука есть скука.
Я прочитал вчера эти несколько строк и, перечитывая, говорил себе: «Славно, нечего сказать!» Затем я довольно долго ходил взад и вперед по своей комнате. В заключение я вытянулся на кровати, но тотчас вскочил и отправился посмотреть на себя в зеркало. Я констатировал, что толстею. Виновата старушка Мариэта, которая кормит меня разными лакомствами тайком от моей тетушки. Она делает это не столько ради меня, сколько ради удовольствия причинить ущерб скаредной бдительности своей госпожи. В скромной и маленькой жизни Мариэты я стал риском, тайною. Я являюсь ее секретом, тайным преступлением, если можно так сказать, и я спрашиваю себя, не обладает ли большинство обывателей П. каким-нибудь скрытым интересом, какою-нибудь немою страстью, которая питает и оживляет их унылое существование. Я спрашиваю себя, нет ли у каждого из них, как говорится, своего «конька». Так, я, например, являюсь таким «коньком» Мариэты, и вот, благодаря ее маленьким заботам и моему сидячему образу жизни, я толстею… В первое время моего пребывания в П. этого не было, Мариэта еще не носила ко мне в комнату вкусных печений, и я пользовался лишь официальною кухнею моей тетушки. Впрочем, я оказывал этой кухне честь, потому что в первые месяцы и даже в первый год моей жизни у тетушки я был охвачен настоящею страстью к физической деятельности. Оказав необходимое внимание тетушке, я ускользал из дому… Только меня и можно было видеть на улицах П. идущим торопливым шагом, точно меня призывало какое-нибудь неотложное дело. Я избороздил буквально весь город, не стесняясь никакою погодою! Но это не удовлетворяло меня. Я бродил по дорогам, как нищий.
К городку П, выходят четыре дороги, но две из них были особенно излюблены мною: дорога «вдоль канала» и дорога на «гору Сюрваль».
Целыми часами мне случалось идти вдоль зеркальной глади прямолинейного канала. Эта длинная водяная линия оказывала на меня какое-то гипнотизирующее действие. Она тянулась между высокими зелеными берегами, пересекаемая на известных расстояниях крутыми каменными мостами. Часто я останавливался на них, облокотившись о парапет. Иногда под мостом проходила шаланда. Эти массивные и пузатые суда занимали почти всю ширину канала, который кое-где расширялся, чтобы дать им возможность разойтись. Шаланды тянулись бечевою. Прохождение их оставляло в воде медленную борозду. Так двигались эти тяжелые барки, медленно, грузно. Они перевозили различный товар: доски, известь, посуду. Некоторые из них шли порожняком, и виден был весь их распертый корпус, как будто совсем готовый вылезти из воды; другие же, перегруженные, сидели в воде до самых бортов, и, казалось, вода сейчас потечет в них. Я наклонялся, чтобы видеть, как они будут проходить под сводами моста. Рулевой поднимал глаза ко мне. По выходе шаланды из-под моста я снова видел его, и я наблюдал, как удаляется грузное судно, мягко и медленно, а за его кормою вода снова делается цельною, компактною и гладкою.
С горы Сюрваль открывается довольно красивый, широкий и залитый воздухом вид. Внизу городок П. с его крышами, наполовину черепичными, наполовину шиферными. Река пересекает его, проходя недалеко от красивой старинной церкви. У П. два предместья, одно тянется по направлению к вокзалу, другое по направлению к Сюрваль. С вершины горы видно, что П. расположен среди обширной равнины, покрытой пашнями и пастбищами, где поля перемежаются с лугами. Эти луга обрамляют течение реки. Их сочная зелень служит кормом для крупного и породистого скота. Вся эта изобильная и плодородная равнина, под обширным куполом неба, открывается с горы Сюрваль, со своими холмиками, рощицами, фермами, дорогами, дорожками, тропинками, которые очень скоро были изучены мною. Мне кажется, нет ни одной, по которой я не прошелся бы. Я знаю, куда они ведут, как они переплетаются между собою. Мои непрерывные хождения познакомили с ними всеми; часто также я покидал их, чтобы идти наудачу через поля.
Я исходил таким образом вспаханные поля, которые осень делает тяжелыми для ног, а зимний мороз и летняя жара твердыми для подошв; я дробил пятками комья засеянных полей и топтал острую солому жнивья; я мял длинную, пригнувшуюся к земле траву лугов; я перелезал через плетни и пробирался сквозь живые изгороди, старался не поцарапаться о колючки; открывал деревенские запоры, отодвигал их деревянные засовы и поднимал их щеколды. Иногда запорами служили простые, плетенные из ивовых прутьев кольца. Когда я проходил по дворам хуторов, на меня бросались собаки. Не раз на лугах мне приходилось укрываться от нападения подозрительных коров и воинственных быков.
Эти маленькие сельские приключения совсем не страшили меня. Я с удовольствием констатировал, что я еще достаточно проворно убегаю от опасности, и не был недоволен ловкостью, с какою я взбираюсь на высокий забор или отодвигаю тяжелый засов. Сила моих рук и быстрота моих ног удовлетворяли меня. После совершения каких-нибудь длинных рейсов по полям или лугам я не испытывал усталости; это наполняло меня чувством довольства, которое было тем более странным, что я никогда не питал особого пристрастия к физическим упражнениям. Но с тех пор как я жил в П., мною овладело честолюбие поддерживать себя в состоянии, так сказать, физической тренировки. Тут я повиновался какому-то темному инстинкту: я как будто хотел встретить во всеоружии непредвиденное событие. Я готовился к нему, не будучи, впрочем, особенно убежден в том, что оно действительно наступит. Все же эти прогулки поддерживали меня в состоянии возбуждения и деятельности, увы! искусственных, потому что медленно и незаметно в меня уже начинал просачиваться яд скуки, скуки, которая расслабляет мускулы тела и парализует энергию духа. По мере того как дни проходили, я все явственнее ощущал ее незаметный рост. Конечно, принимая предложение моей тетушки Шальтрэ, я предвидел, что скука будет моим неизменным спутником в П. Я хорошо знал, чего мне будет стоить право уклониться от тягостей будничной работы, от всего, чего требует тяжелая обязанность зарабатывать свой хлеб. Я хорошо знал, что Скука будет тою ценою, которою я куплю свободно избранную мною праздность, добровольную бесполезность, но я не знал, что такое скука! Я думал, что буду иметь в лице ее противника, от которого можно обороняться. Я не знал, что от ее неощутимого и клейкого просачивания нет ни защиты, ни лекарства.
В день, когда я понял это, я проникся сознанием неизлечимости моей болезни и почувствовал, что во мне потухают всякие остатки моей мнимой жизненной энергии. Начиная с этого дня, я отказался от своих прогулок, еще поддерживавших у меня состояние призрачного возбуждения. Начиная с этого дня, я стал покидать свою комнату только в самых необходимых случаях… «Откровение» осенило меня прошлою осенью, в один из прекрасных осенних дней! Завтрак в обществе моей тетушки Шальтрэ был самый будничный; тетушка говорила о различных неинтересных вещах и задала мне несколько незначительных вопросов, на которые я давал первые пришедшие мне в голову ответы. Видя мое явное невнимание, почтенная дама закусила губы и замолчала. Вставая из-за стола, я извинился за свою рассеянность (тетушка и я в своих отношениях друг к другу проявляем самую изысканную вежливость), сославшись на мигрень, которая освобождала меня от обязанности сопровождать тетушку в гостиную и дала мне право выразить желание пройтись по свежему воздуху. Едва выйдя на улицу, я заметил, что меня осенило то, что называют счастливым вдохновением, ибо по Рыночной площади к нашему дому направлялся г-н Виктор де Блиньель. А из всех гостей тетушки этот господин был, пожалуй, самым ненавистным мне или, по крайней мере, наиболее раздражавшим меня. Для меня было невыносимо присутствие этого маленького ничтожного человечка с большими претензиями, напичканного всеми буржуазными предрассудками, крошечного, кичливого и напыщенного, с птичьей головкой в очках, очень богатого и невероятно скупого, – словом, совершенного провинциала, совершенное воплощение Провинции в ее самой серой посредственности. Какое счастье, что мне удалось таким образом избежать его общества! Я поклонился ему и торопливо зашагал по Большой улице с видом человека, идущего по неотложному делу.
В конце этой улицы начинается аллея старых платанов. Их огромные стволы теряли свою кору и показывались в своей осенней пестроте. Листва их благоухала в мягком и прозрачном воздухе. Было приятно шагать по мягкому грунту дороги, так что я не заметил даже, как миновал самую отдаленную точку, до которой я доходил в своих предыдущих прогулках. Когда я отдал себе отчет в этом, я вдруг почувствовал себя немного усталым и стал искать глазами место, где я мог бы немного посидеть, перед тем как идти обратно в П. Дорога шла здесь у опушки небольшого леска, в который вела тропинка, загороженная большим подъемным камнем, служившим непритязательною скамейкою. Все было как нельзя более естественно. Воздух был мягок, напоен запахом палых листьев и мха, глубокая тишина царила кругом. Я сел на камень, ни о чем не думая. Почему вышло так, что именно в этот момент я вдруг отдал себе отчет в скуке, одолевавшей меня? Почему именно в эту минуту я осознал ее давящую меня тяжесть? И по мере того как эта тяжесть росла, мне казалось, что у меня не хватает силы выдерживать ее. Я испытывал во всем своем теле гнетущее ощущение слабости. Мне казалось, что мои члены не принадлежат мне больше. Я оказался вдруг как будто окруженным поглощающею и обессиливающею атмосферою, как будто вдохнул яд, который заживо привел меня в состояние окоченения.
Утром я был разбужен сиреною автомобиля. Ее звук, сначала тяжелый и как бы вздутый, понемногу превратился в улюлюканье, все более пронзительное, все более отчаянное. Вся тишина унылого городка была как бы разорвана им, и понадобилось некоторое время, пока бескровные пауки скуки восстановили поврежденную пряжу. Кто этот смелый шофер, кто эти бесстрашные туристы, отважившиеся проникнуть в наши места? За все мое пребывание в П. в первый раз нас посещал автомобиль. П. расположен в стороне от всех маршрутов путешествий, от всякой любознательности туристов. Мы не лежали ни на чьем пути. Я даже спрашиваю себя иногда, нанесен ли П. на карту Франции. И однако П., как и всякий другой городок, имеет достаточные основания для своего существования. В нем обитает известное количество рантье, чиновников, торговцев, рабочих. У него есть даже своя знаменитость, историк Барго, истории которого больше никто не читает и имя которого известно теперь только обитателям места, отведенного для увековечения этого славного сына Франции…
П. не имеет, следовательно, решительно ничего замечательного. Он составляет часть департамента, округа, железнодорожной сети. В нем есть вокзал, где, правда, движение грузов и пассажиров почти равно нулю. П. живет самим собою и в себе самом, в состоянии блаженного эгоизма и равнодушия к чему бы то ни было. Кто, в самом деле, вздумай бы прийти смущать его ленивый покой? В нем нет ничего привлекательного, но он удерживает; удерживает парализующею силою скуки, которую он выделяет из своих пор… В П. родятся, живут, умирают… Количество его жителей остается почти неизменным. П. неподвижен. Эта неподвижность позволила ему сохранить несколько любопытных памятников прошлого: несколько старых домов, ратушу эпохи Возрождения, обширную романскую церковь, красивыми пропорциями которой не приходил восхищаться еще ни один иностранец. Иностранцы! На памяти местных жителей ни один иностранец не останавливался в почтенной гостинице «Белый голубь». Развитие автомобилизма ничего не изменило в этом положении вещей. Автомобиль почти не известен в П. Никто из его обитателей не имеет этого инструмента быстроты и свободы. В П. не пошли дальше велосипеда, даже дальше трехколесного велосипеда. Некоторые из «этих господ» не брезгуют усердно трудиться ногами на своем сиденье, водруженном на трех колесах. У нескольких семей есть собственные выезды. Но ими пользуются только в торжественных случаях, которые выпадают сравнительно редко. На улицах П. можно встретить только несколько одноколок, несколько возов, запряженных волами, и омнибус отеля, который с грохотом тащит кляча по острым камням уличной мостовой… Каково же должно было быть мое удивление, когда однажды утром раздался пронзительный звук автомобильной сирены, подобно шуточному приглашению насмешливо брошенный в наш городок, чтобы нарушить его тусклую провинциальную апатию. Этот проезд автомобиля через П. послужил для тетушки Шальтрэ темою разговора в течение всего завтрака. Она жалела, что ей не удалось увидеть «чудовище». Нечего и говорить, что она осуждала применение этих дьявольских машин, что не помешало ей высказать множество предположений относительно причин, вызвавших утренний визит в П. одной из таких машин. Вероятнее всего, по мнению тетушки, автомобиль приезжал из замка Виллуан, где маркиз де Буакло, по слухам, должен был провести сезон охоты.
Мне снилось эту ночь, что автомобиль остановился у дверей нашего дома. Это была большая и мощная машина, окрашенная в темно-красный цвет, вся отсвечивающая лакированной и полированной медью. Она была пуста. Я подошел к ней; сердце мое лихорадочно билось. Повращать рукоятку, схватить руль – и я свободен, свободен отправиться в неизвестность! Вдруг автомобиль исчез, и я остался стоять на пороге дома. На меня смотрел через очки маленький г-н де Блиньель. Он смеялся своим резким смехом, необычайно похожим на звук сирены. Нервы мои были крайне возбуждены. Я охотно убил бы его!
Мне вспоминается одна детская прогулка в Виллуан. В те времена замок был необитаем. Его владельцы Буакло приезжали туда очень редко. Из всех замков нашей области Виллуан наиболее значителен и расположен ровно на полпути между П. и Валленом, но он поддерживает сношения с Валленом; в Валлене для него закупается все необходимое. То же можно сказать и относительно других окрестных замков, которые почти все были построены парламентскими фамилиями Валлена. Буакло принадлежали к их числу. Виллуан был отделан во вкусе времени президентом де Буакло. От этой переделки, произведенной в конце XVII века, Виллуан сохранил свои старые угловые башни, увенчанные куполами, между которыми развертывается величественный фасад в стиле Людовика XIV, украшенный колоннами, лепными масками и вазами для потешных огней. Все это очень благородного вида, как и три больших аллеи, которые ведут к замку и каждая из которых усажена двойным рядом деревьев. Однако виллуанские сады недостойны подступов к замку и его построек. Первоначально они были разбиты во французском вкусе, но покойный маркиз де Буакло переделал их на английский лад и превратил в парк. Прямые аллеи были изогнуты, чтобы охватить кривые лужайки, или переплелись в лабиринт. Бассейны, освобожденные от своей каменной облицовки, превратились в претенциозно и беспорядочно живописные озера, у берегов которых покойный маркиз понасадил плакучих ив. Его пристрастие к романтическим пейзажам побудило его соорудить грот с каскадом. К счастью, он не успел разрушить украшенную вазами и статуями террасу, примыкающую к замку со стороны парка, и не успел также прикоснуться к замковому двору, вымощенному серым и розовым камнем.
Внутри же замка ужасный маркиз дал своему вкусу погулять вволю. Из-за этого маркиза сейчас в Виллуане не осталось ни декоративных панелей, ни шпалер, ни обоев, ни старой мебели. Вся мебель и всякая вещица, которая хоть немного отдавала стариною, были безжалостно изгнаны из Виллуана и заменены самыми новейшими предметами в стиле Второй Империи. Г-н де Буакло, принадлежавший ко двору Наполеона III, несомненно думал, что, строго согласуясь со вкусами времени, он поступает как добрый придворный. Это подчинение стоило Виллуану самого роскошного, какое только можно вообразить, собрания пуфов. Отданный во власть обойщиков и поставщиков Тюильри и Компьеня, Виллуан вышел из их рук лишенным всех элегантных нарядов времени. В таком именно состоянии я видел его во время своего детского посещения. Из этого посещения я сохранил воспоминание о множестве картин шоколадного тона, а также о существовании маленького зрительного зала со сценою, о его декорациях, его ложах… Г-н де Буакло не очень попортил эту изящную безделушку, я и помню еще впечатление, которое она произвела на меня. Что сталось теперь с этим миниатюрным и прелестным театром, который освещавшие его сумерки делали столь таинственным? Так же ли можно подняться к его ложам по маленькой лесенке, на которой я чуть не сломал себе шею? По-прежнему ли на сцене стоит декорация с сельским видом и по-прежнему ли вдыхаешь на ней запах пыли, картона, клея и крысиной мочи, который я и до сих пор продолжаю ощущать в ноздрях? Но как все это далеко теперь! Что касается ныне живущего маркиза де Буакло, то я видел его однажды в Париже, когда мой друг де Марэ пригласил меня завтракать в свой клуб. Это толстяк с седыми бакенами, с самым заурядным лицом и самыми шаблонными манерами. Я слышал его речи из-за стола, за которым мы сидели. Его мнения были пресными, а голос произносил их с сильным крестьянским акцентом. Тетушка Шальтрэ очень беспокоится, сделает ли ей г-н де Буакло соседский визит. Я чувствую, что, если бы она посмела, она попросила бы меня исполнить свои обязанности по отношению к этому лицу, но она не посмеет, потому что я совершенно отучил ее рассчитывать на меня как на светского человека.
Никогда еще скука не давила на меня таким тяжелым, таким однообразным, таким монотонным бременем. Я потерял даже тот род покорности и равнодушия, в который я укрывался, когда отчетливо видел свое положение. Временами я не являюсь больше господином своих мыслей, и, украдкою, коварно, у меня проскальзывают искорки надежды и вспыхивает пламя мятежа. Я погружаюсь в те мечтания, которые я раз навсегда запретил себе. Сознание мое прорезывают бурные и бесформенные вспышки, словно молнии, которые на миг озаряют непрозрачную, вязкую и глубокую тьму.
Вчера, в воскресенье, войдя в гостиную тетушки в то время, как она была у вечерен, я был приятно изумлен встречею с г-ном де ла Ривельри, дожидавшимся возвращения тетушки. Г-н де ла Ривельри был связан с моим отцом симпатией. Когда мои родители бывали в П., он никогда не забывал приехать из Валлена и сделать визит моей матушке. Г-н де ла Ривельри любезный и умный человек. Обладая этими качествами и будучи весьма образованным юристом, он мог бы сделать прекрасную судебную карьеру, если бы не отказался от всех предлагаемых ему выгодных должностей из нежелания покинуть Валлен, где его удерживала связь с женою кондитера. Г-н де ла Ривельри остался верен любви своей юности. Над этим смеются в Валлене, что не мешает, однако, г-ну де ла Ривельри пользоваться всеобщим уважением. Он занимает должность судебного следователя и обнаружил на этой должности большую прозорливость и тонкое искусство. С истинным мастерством он провел следствие, закончившееся арестом убийц жены Валло. Дело это несколько лет тому назад произвело немало шуму. Страшный для воров и убийц, г-н де ла Ривельри является лучшим из людей по отношению ко всем другим. Когда он узнал, что я собираюсь поселиться в П. у тетушки Шальтрэ, он осведомился о мотивах, толкнувших меня на это провинциальное затворничество. На участие, которое он проявил ко мне, я ответил холодною сдержанностью. Я постыдился бы признаться ему в своем малодушии и предпочел бы, чтобы он приписал мое удаление от мира какой-нибудь не столь серенькой причине. Мое скрытничанье привело к некоторой натянутости наших отношений и затруднило установление между нами близости, но мое уважение и симпатия к г-ну де ла Ривельри нисколько не уменьшились от этого. Эта симпатия и это уважение являются в достаточной степени обоюдными, потому что, увидя, как я вхожу в гостиную, г-н де ла Ривельри сделал жест приятного изумления. Г-н де ла Ривельри – человек небольшого роста, слабого сложения, с изящными манерами, с улыбкою на тщательно выбритом лице, с видом обязательным и внимательным. Его костюм, галстук и перчатки были черные, все очень впору и даже не без кокетливости. Он извинился, что позволил себе войти в гостиную в отсутствие г-жи де Шальтрэ, но он заехал в П. лишь на несколько часов и у него была к моей тетушке просьба позволить ему снять и напечатать фотографию с принадлежащего ей портрета известного президента д'Артэна, что был убит своим коллегою, советником Сориньи. Г-н де ла Ривельри рассказывает об этом знаменитом в свое время преступлении в «Истории валленского парламента», второй том которого он заканчивает. Он открыл любопытные документы по этому темному и громкому делу, которое проливает интересный свет на судебные и парламентские нравы XVII века. Упомянутый президент д'Артэн был родственником Шальтрэ. Вот почему его портрет оказался собственностью моей тетки, которая не придает ему, впрочем, большого значения и повесила его в самом темном углу гостиной. Продолжая разговаривать со мною, г-н де ла Ривельри подошел к интересующей его картине. Это законченное полотно в довольно красивой старой раме. На почерневшем фоне выделяется полное и правильное лицо с энергичным носом, большим ртом, живыми глазами. На голове большой парик. Президент д'Артэн изображен в судебном костюме, с горностаем на плечах и с рукою, положенною на президентскую шапочку.







