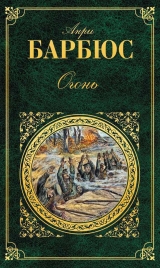
Текст книги "Огонь. Ясность. Правдивые повести"
Автор книги: Анри Барбюс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
На краю лагеря выделяется чистотой и опрятностью белый фургон. Можно подумать, что это роскошный ярмарочный балаган на колесах, где берут дороже, чем в других.
Это знаменитый стоматологический фургон, который искал Блер.
А вот и сам Блер; он его разглядывает. Он, наверно, уже давно вертится здесь и не сводит с фургона глаз. Дивизионный санитар Самбремез возвращается из деревни и поднимается по откидной раскрашенной лестнице к дверце фургона. Он держит в руках большую коробку бисквитов, булку и бутылку шампанского. Блер его окликает:
– Эй, толстозадый, эта колымага – зубоврачебная?
– Здесь написано, – отвечает Самбремез, дородный коротышка, чистый, выбритый, с тяжелым белым подбородком. – Если не видишь, обратись не к зубному врачу, а к ветеринару, чтоб он протер тебе буркалы.
Блер подходит и разглядывает это учреждение.
– Ишь штуковина! – говорит он.
Он подходит еще раз, отходит, колеблется, прежде чем доверить свою челюсть врачу. Наконец решается, ставит ногу на ступеньку и исчезает за дверью.
* * *
Мы идем дальше… Сворачиваем на тропинку, где высокие кустарники обсыпаны пылью. Шумы затихают. Солнце парит, жарит и печет дорогу, расстилает ослепительные жгуче-белые полосы и трепещет в безоблачном синем небе.
На первом повороте слышится легкий скрип шагов, и прямо перед нами Эдокси!
Ламюз испускает глухое восклицание. Может быть, он опять воображает, что она ищет именно его, он еще верит в какую-то милость судьбы. Всей своей громадой он направляется к Эдокси.
Она останавливается среди боярышника и смотрит на Ламюза. Ее до странности худое, бледное лицо выражает тревогу; веки великолепных глаз бьются. Она стоит с непокрытой головой; полотняный корсаж вырезан на груди. Увенчанная золотом, эта женщина вблизи в самом деле обольстительна. Лунная белизна ее кожи привлекает и поражает. Глаза блестят, зубы сверкают между приоткрытых губ, красных, как сердце.
– Скажите!.. Я хочу вам сказать!.. – задыхаясь, говорит Ламюз. – Вы мне так нравитесь!..
Он протягивает руку к желанной женщине.
Она с отвращением отшатывается.
– Оставьте меня в покое! Вы мне противны!
Ламюз хватает своей лапой ручку Эдокси. Эдокси пытается ее вырвать. Яркие волосы распустились и трепещут, как пламя. Ламюз тянется к ней, вытягивает шею. Он хочет поцеловать Эдокси. Он хочет этого всем телом, всем существом. Он готов умереть, лишь бы коснуться ее губами.
Но она отбивается, испускает приглушенный крик; ее шея вздрагивает; прекрасное лицо обезображено злобой.
Я подхожу и кладу руку на плечо Ламюза, но мое вмешательство уже не требуется; Ламюз что-то бормочет и отступает; он побежден.
– Вы с ума сошли! – кричит ему Эдокси.
– Нет! – стонет несчастный Ламюз, ошеломленный, подавленный, обезумевший.
– Чтоб это больше не повторялось, слышите! – кричит она.
Она уходит, все трепеща; он даже не смотрит ей вслед; он опустил руки, разинул рот и стоит там, где стояла она; он уязвлен в своей плоти, очнулся и уже не смеет молить.
Я веду его с собой. Он плетется молча, сопит, тяжело дышит, словно долго бежал.
Он опускает большую голову. В безжалостном свете вечной весны он напоминает бедного циклопа, который когда-то бродил на древних берегах Сицилии, похожий на чудовищную игрушку, осмеянный и покоренный сияющей девушкой-ребенком…
Проходит бродячий виноторговец, подталкивая тачку, на которой горбом торчит бочка; он продал несколько литров часовым. Лицо у него желтое, плоское, как сыр камамбер; редкие волосы превратились в пыльные волокна; он так худ, что его ноги болтаются в штанах, словно привязанные к туловищу веревками. Он исчезает за поворотом дороги. На краю деревни, под крылом покачивающейся скрипучей дощечки, на которой написано ее название, праздные солдаты в карауле говорят об этом бродячем полишинеле.
– Поганая морда! – восклицает Бигорно. – И знаешь, что я тебе скажу? Столько «шпаков» как ни в чем не бывало болтается на фронте! Не надо их сюда пускать, и особенно неизвестных молодчиков!
– Ты загибаешь, вошь летучая! – отвечает Корне.
– Помалкивай, старая подметка! – настаивает Бигорно. – Напрасно им доверяют. Уж я знаю, что говорю.
– А Пепер отправляется в тыл, – говорит Канар.
– Здешние бабы все – рожи, – бормочет Ла Моллет.
Остальные солдаты глядят по сторонам и наблюдают за петлями и поворотами двух неприятельских аэропланов. От игры лучей эти механические жесткие птицы кажутся то черными, как вороны, то белыми, как чайки; вокруг них в лазури взрывается шрапнель, словно хлопья снега неожиданно посыпались в жаркий день.
* * *
Мы возвращаемся. К нам подходят два солдата. Это Карасюс и Шейсье.
Они сообщают, что повар Пепер отправляется в тыл, по закону Дальбьеза, и зачисляется в ополчение.
– Вот теплое местечко для Блера! – говорит Карасюс, у которого забавный большой нос совсем не соответствует лицу.
По деревне кучками или парами проходят солдаты; их соединяет переплетенными нитями беседа.
Отдельные солдаты подходят друг к другу, расходятся, потом сходятся опять, словно их притягивает друг к другу магнит.
Вдруг бешеная толкотня: в толпе взлетают белые листки. Это газетчик продает по два су газеты, которые стоят одно су. Фуйяд остановился посреди дороги; он худ, как заячья лапка. На солнце сияет розовое, как ветчина, лицо Паради.
К нам подходит Бике; одет не по форме: в куртке и суконной шапке. Он облизывает губы.
– Я встретил ребят. Мы выпили. Ведь завтра придется опять приниматься за работу, и первым делом надо будет почистить свое барахло и винтовку. С одной только шинелью сколько будет возни! Это уже не шинель, а какая-то бронированная подкладка.
Появляется канцелярист Монтрей; он зовет Бике:
– Эй, стрекулист! Письмо! Я ищу тебя уже целый час! Никогда не усидит на месте. Юла!
– Не могу ж я поспеть всюду зараз, толстый мешок! Давай-ка сюда!
Он рассматривает конверт, взвешивает письмо в руке и, распечатывая его, сообщает:
– Это от моей старушки!
Мы замедляем шаг. Бике читает, водит пальцем по строчкам, убежденно покачивает головой и шевелит губами, как молящаяся женщина.
Мы подходим к центру деревни; толпа увеличивается. Мы козыряем майору и черному священнику, который идет рядом с ним, как прогуливающаяся дама. Нас окликают Пижон, Генон, молодой Эскютнер и стрелок Клодор. Ламюз кажется слепым и глухим; он способен только двигаться.
Подходят Бизуарн, Шанрион, Рокет и громко сообщают великую новость:
– Знаешь, Пепер отправляется в тыл!
– Забавно, как они там ничего не знают! – говорит Бике, отрываясь от письма. – Старуха обо мне беспокоится.
Он показывает мне строки материнского послания. «Когда ты получишь мое письмо, – читает он по складам, – ты, наверно, будешь сидеть в грязи и холоде, без еды, без питья, мой бедный Эжен!..»
Он смеется.
– Она написала это десять дней тому назад. Вот уж попала пальцем в небо! Теперь не холодно: сегодня отличная погода. Нам не плохо: у нас своя столовка. Раньше мы бедствовали, а теперь нам хорошо.
Мы возвращаемся в нашу собачью конуру, обдумывая эту фразу. Ее трогательная простота меня волнует; она выражает душу, множество душ. Только показалось солнце, только почувствовали мы луч света и устроились чуть поудобней, и вот ни мучительное прошлое, ни ужасное будущее больше не существуют… «Теперь нам хорошо». С плохим покончено.
Бике, как барин, садится за стол и собирается писать. Он старательно раскладывает и проверяет бумагу, чернила, перо, улыбается и выводит ровные, круглые буквы на маленьком листке.
– Если бы ты знал, что я пишу моей старушке, ты бы посмеялся, говорит он.
Он с упоением перечитывает письмо и улыбается самому себе.
VI
ПРИВЫЧКИ
Мы царим на птичьем дворе.
Толстая курица, белая, как сметана, высиживает яйца на дне корзины, у конуры, где копошится пес. А черная курица расхаживает взад и вперед. Она порывисто вытягивает и втягивает упругую шею и движется большими жеманными шагами; виден ее профиль с мигающей блесткой зрачка; кажется, что ее кудахтанье производит металлическая пружина. Ее перья переливаются черным блеском, как волосы цыганки; за ней тащится выводок цыплят.
Эти легкие желтые шарики бросаются под ноги матери короткими, быстрыми шажками и поклевывают зерна. Только последние два цыпленка стоят неподвижно и задумчиво, не обращая внимания на механическое кудахтанье матери.
– Плохой признак! – говорит Паради. – Если цыпленок задумался, значит, он болен.
Паради то закидывает ногу на ногу, то расправляет их.
Рядом, на скамье, Блер потягивается, зевает во весь рот и опять принимается глазеть; он больше всех любит наблюдать за птицами: они живут так мало и так спешат наесться.
Да и все мы смотрим на них и на старого, общипанного, вконец истасканного петуха; сквозь облезлый пух виднеется голая, словно резиновая, ляжка, темная, как поджаренный кусок мяса. Петух подходит к белой наседке, которая то отворачивается, как будто сухо говорит «нет!» – и сердито клохчет, то наблюдает за ним голубыми глазами, похожими на маленькие эмалированные циферблаты.
– Хорошо здесь! – говорит Барк.
– Гляди, вот утята! – отвечает Блер. – Они забавные, чудные!
Проходит вереница крошечных утят; это еще почти яйца на лапках; большая голова торчит на шейке, как на веревочке, и быстро-быстро тянет за собой тщедушное тельце.
Из своего угла толстая собака тоже смотрит на них глубокими честными черными глазами, в которых под косым лучом солнца светится прекрасный рыжий блик.
За этим двором, через выемку в низкой стене, виден плодовый сад; зеленая густая влажная трава покрывает жирную землю; дальше высится стена из зелени, украшенная цветами, белыми, как статуи, или пестрыми, как банты. Еще дальше – луг, где вытянулись зелено-черные и зелено-золотистые тени тополей. Еще дальше – грядка торчком вставшего хмеля и грядка сидящих в ряд кочанов капусты. На солнце, в воздухе и на земле с музыкальным жужжанием трудятся пчелы, как об этом говорится в стихах, а кузнечик вопреки басням поет без всякой скромности и один заполняет своим стрекотанием все пространство.
С вершины тополя вихрем слетает полубелая, получерная сорока, похожая на обгорелый клочок газеты.
Солдаты сидят на каменной скамье и, прищурив глаза, с наслаждением потягиваются и греются на солнце, которое в этом широком дворе накаляет воздух, как в бане.
– Мы здесь уже семнадцать дней! А мы-то думали, что нас вот-вот отсюда отправят!
– Никогда нельзя знать! – говорит Паради, покачивая головой, и щелкает языком.
В открытые ворота виднеется куча солдат; они разгуливают, задрав нос, и наслаждаются солнцем, а дальше в одиночку ходит Теллюрюр. Он выступает посреди улицы; колыхая пышным животом, ковыляя на кривых ногах, похожих на ручки корзины, он обильно заплевывает землю.
– А мы еще думали, что здесь будет плохо, как на других стоянках. Но на этот раз настоящий отдых: и погода соответственная, и вообще хорошо.
– И занятий и работ не так уж много.
– Иногда приходишь сюда отдохнуть.
Старичок, сидящий на краю скамьи (это не кто иной, как дедушка, искавший клад в день нашего приезда), подвигается к нам и поднимает палец.
– Когда я был молодым, женщины на меня заглядывались, – утверждает он, покачивая головой. – Ну и перебывало же у меня бабенок!
– А-а! – рассеянно говорим мы: от этой старческой болтовни наше внимание кстати отвлек грохот нагруженной, тяжело подвигающейся телеги.
– А теперь, – продолжает старик, – я думаю только о деньгах.
– Ах да, вы ведь ищете клад, папаша.
– Конечно, – говорит старик.
Он чувствует наше недоверие.
Он ударяет себя по черепу указательным пальцем и показывает на дом.
– Глядите, – говорит он, показывая на какое-то насекомое, ползущее по стене. – Что этот зверь говорит? Он говорит: «Я – паук, я тку нитки богородицы».
И древний старик прибавляет:
– Никогда не надо судить о том, что люди делают, потому что нельзя знать, что случится.
– Правда, – вежливо отвечает Паради.
– Чудак, – сквозь зубы говорит Мениль Андре, доставая из кармана зеркальце, чтобы полюбоваться своим лицом, похорошевшим на солнце.
– У него не все дома, – блаженно бормочет Барк.
– Ну, я пошел, – с тревогой говорит старик: он не может усидеть на месте.
Он идет опять искать клад. Он входит в дом, к стене которого мы прислонились; он оставляет дверь открытой, и в комнате, у огромного очага, мы видим девочку; она играет в куклы так серьезно, что Барк задумчиво говорит:
– Она права.
Для детей игры – важные занятия. Играют только взрослые.
Мы глазеем на животных, на людей, на что попало. Мы наблюдаем жизнь вещей, окрашенную климатом и временами года. Мы привязались к этому уголку страны, где случайно задержались среди своих постоянных блужданий дольше, чем в других местах, и становимся чувствительней ко всем его особенностям. Сентябрь, это похмелье августа и канун октября, этот трогательнейший месяц, сочетает хорошие дни с кой-какими смутными предвещаниями. Мы уже понимаем значение этих сухих листьев, перелетающих с камня на камень, как стая воробьев.
Действительно, эти места и мы привыкли друг к другу. Нас столько раз пересаживали с одной почвы на другую, и вот мы пустили корни здесь и больше не думаем об отъезде, даже когда говорим о нем.
– Одиннадцатая дивизия отдыхала целых полтора месяца, – говорит Блер.
– А триста семьдесят пятый полк? Девять недель! – убежденно подхватывает Барк.
– Мы останемся здесь, по крайней мере, столько же; я говорю: по крайней мере.
– Мы здесь и закончим войну…
Барк умиляется и готов в это поверить.
– Кончится ж она когда-нибудь!
– Когда-нибудь! – повторяют другие.
– Все может быть, – говорит Паради.
Он говорит это слабым голосом, не очень убежденно. А между тем против этого нечего возразить. Мы тихо повторяем его слова, баюкаем себя ими, как старой песенкой.
* * *
Через несколько минут к нам подходит Фарфаде. Он садится на опрокинутую кадку, подпирает подбородок кулаками, но держится в сторонке.
Его счастье прочней нашего. Мы это хорошо знаем; он – тоже; он поднимает голову, смотрит отчужденным взглядом на спину старика, который уходит искать клад, и на нас, когда мы говорим, что останемся здесь. Наш хрупкий, чувствительный товарищ окружен ореолом себялюбивой славы, он кажется особым существом, отъединенным от нас, словно ему с неба свалились нашивки.
Его идиллия с Эдокси продолжается и здесь. У нас есть доказательства, и однажды он даже сказал об этом сам.
Эдокси живет недалеко от него… На днях вечером я видел: она шла мимо дома священника; пламя ее волос было притушено косынкой; она, наверно, шла на свидание: она спешила и заранее улыбалась… Хотя Эдокси и Фарфаде, может быть, еще только дали друг другу клятвы, она уже принадлежит ему, и он будет держать ее в объятиях.
Скоро он нас покинет: его отзовут в тыл, в штаб бригады, где нужен хилый человек, умеющий печатать на машинке. Это уже официально известно, написано. Он спасен: мрачное, невидимое для других будущее для него открыто и ясно.
Он смотрит на окно, за которым чернеет комната: эта темнота ослепляет Фарфаде; он надеется, у него двойная жизнь. Он счастлив: ведь еще не наступившее, но уже близкое счастье – единственное истинное счастье в этом мире.
Вот почему Фарфаде вызывает зависть.
– Все может быть! – опять бормочет Паради, но так же неуверенно, как и всегда, когда ему случается произносить эти необъятные слова в тесноте нашей теперешней жизни.
VII
ПОГРУЗКА
На следующий день Барк сказал:
– Я тебе объясню, в чем дело. Есть люди, которые…
Внезапно это объяснение прервал пронзительный свисток.
Мы стояли на платформе вокзала. Ночью тревожный сигнал заставил нас вскочить и разлучил с деревней; мы явились сюда. Конец отдыху; нас перебрасывают на другой участок фронта. Мы исчезли из Гошена под покровом ночи, не видя ни людей, ни вещей, не успев проститься с ними даже взглядом, унести с собой их последний образ.
Совсем близко, чуть не задевая нас, маневрировал паровоз и изо всех сил гудел. Рот Барку заткнула своим воплем эта огромная махина; Барк выругался; исказились гримасой и лица других оглушенных солдат; все были в касках и полном снаряжении; мы стояли на часах, охраняя вокзал.
– Да замолчи ты! – в бешенстве заорал Барк, обращаясь к дымному свистку.
Но страшный зверь как ни в чем не бывало продолжал властно затыкать нам глотки. Наконец он умолк, но отзвук его рева еще звенел в наших ушах, и мы потеряли нить разговора; Барк только сказал в заключение:
– Да.
Тогда мы осмотрелись.
Мы были затеряны здесь, как в огромном городе.
Бесконечные железнодорожные составы, поезда по сорока, по шестидесяти вагонов образовали нечто похожее на ряды темных, низких, совершенно одинаковых домов, разделенных улочками. Перед нами, вдоль подвижных домов, тянулась главная линия – бесконечная улица, где белые рельсы исчезали на том и на другом конце, поглощаемые расстоянием. Отрезки поездов, целые поезда – большие горизонтальные колонны – сотрясались, перемещались и возвращались на прежнее место. Со всех сторон раздавался мерный стук по бронированной земле, пронзительные свистки, звонки сигнального колокола, металлический грохот огромных кубов, сочетавших перебой своих стальных обрубков с лязгом цепей и глухими отгулами в длинном позвоночнике. На первом этаже здания, возвышающегося среди вокзала, как мэрия, раздавалось прерывистое стрекотание телеграфа и звонки телефона вперемежку с раскатами голосов. А кругом, на земле, покрытой угольной пылью, – склады товаров, низкие сараи, чьи загроможденные недра виднелись издали, будки стрелочников, лес стрелок, водокачки, железные решетчатые столбы с проводами, черневшими в небе, как линии нотной бумаги, диски семафоров и над всем этим мрачным плоским городом – два паровых подъемных крана, высотой с колокольню.
Дальше, на пустырях, вокруг лабиринта платформ и строений, стояли военные автомобили, грузовики и бесконечные ряды коней.
– Нечего сказать, придется поработать!
– Сегодня вечером погрузят целый корпус!
– Вот, гляди, они подъезжают!
Целая туча, покрывая грохот колес и топот лошадиных копыт, приближалась, росла на вокзальной улице, между рядами строений.
– Пушки уже погружены.
Действительно, там, на открытых платформах, между двумя пирамидальными складами ящиков, выделялись профили колес и длинные стволы орудий. Зарядные ящики, пушки и колеса были выкрашены в желтый, коричневый, зеленый цвета.
– Они замаскированы. Там и кони выкрашены. Да вот, погляди вот на этого, на этого, у него такие мохнатые ножищи, будто он в штанах! Так вот, он был белым, а его окатили краской.
Эта лошадь стояла в стороне от других лошадей; они, казалось, ее чуждались; она была серо-желтого, явно поддельного цвета.
– Бедняга! – сказал Тюлак.
– Видишь, – сказал Паради, – коняг не только посылают в огонь, на смерть, но еще изводят.
– Что делать! Это для их же пользы.
– Как же… Нас тоже для нашей пользы!
К вечеру начали подходить войска. Со всех сторон они стекались к вокзалу. Горластые начальники шагали сбоку. Они останавливали потоки солдат и втискивали их в барьеры или загоны. Солдаты составляли ружья, складывали ранцы и, не имея права выходить, ждали, заключенные в полумрак.
По мере того, как темнело, прибывало все больше отрядов. Вместе с ними подъезжали автомобили. Скоро поднялся безостановочный грохот: лимузины среди гигантского прибоя маленьких, средних и больших грузовиков. Все это выстраивалось и втискивалось в установленные границы. Гул и шум поднимался над этим океаном существ и машин, который бился о ступени вокзала и местами уже проникал внутрь.
– Это еще ничего, – сказал Кокон, человек-счетчик. – В одном только штабе армейского корпуса тридцать офицерских автомобилей, а знаешь, прибавил он, – сколько понадобится поездов по пятидесяти вагонов, чтобы погрузить весь корпус – людей и товар, – конечно, кроме грузовиков, которые переберутся в новый сектор на собственных лапах? Все равно, брат, не угадаешь! Потребуется девяносто поездов!
– Да ну? Вот так штука! А у нас ведь тридцать три корпуса!
– Даже тридцать девять, эх ты, вшивый!
Сутолока усиливается. Вокзал наполняется и переполняется толпами. Везде, где только можно различить человеческую фигуру или ее призрак, суматоха и лихорадочные приготовления, похожие на панику. Приходит в действие вся иерархия начальства: офицеры суетятся, носятся, словно метеоры, размахивают руками, сверкают золотыми галунами, отменяют приказы, рассылают вестовых и самокатчиков, которые движутся в толпе; одни медленно, другие стремительно, как рыбы в воде.
Вот и вечер. Солдат, сбившихся в кучу вокруг пирамид ружей, уже трудно различить: они сливаются с землей; потом эту толпу можно обнаружить только по вспыхивающим трубкам и цигаркам. Кое-где во мраке сверкает непрерывная цепь светлых точек, как иллюминация на праздничной улице.
Над этой черной зыбкой толпой гудят раскаты морского прибоя; перекрывая рокот, раздаются приказы, крики, возгласы, шум какой-то разгрузки или переноски, пыхтение котлов и грохот паровых молотов, глухо ударяющих во мраке.
На огромном темнеющем пространстве, полном людей и машин, вспыхивают огни. Эти электрические лампочки офицеров и начальников отрядов, ацетиленовые фонари самокатчиков, перемещающиеся зигзагами, как белая точка и белесое пятно.
Ослепительно вспыхивает ацетиленовая фара, отбрасывая снопы света. Другие фары тоже буравят и разрывают темноту.
И вот вокзал принимает сверхъестественный вид. В черно-синем небе возникают непонятные призраки. – Обозначаются какие-то груды, огромные, как развалины города. Различаешь начало каких-то непомерных рядов, исчезающих в ночи. Угадываешь громады, ближайшие очертания которых вырываются из неизвестных бездн.
Слева отряды конницы и пехоты прибывают еще и еще сплошным потоком. Стелется гул голосов. При вспышке фосфоресцирующего света или красном отблеске вырисовываются отдельные ряды; слышатся протяжные гулы.
Под кружащимся дымным пламенем факелов мелькают серые громады и черные пасти товарных вагонов; обозные солдаты по сходням ведут коней. Раздаются оклики, возгласы, неистовый топот, шум борьбы, ругань солдат и бешеные удары копыт запертой лошади.
Рядом грузят автомобили на открытые платформы. Холм прессованного сена кишит людьми. Люди неистово хлопочут у огромных тюков.
– Вот уже три часа, как мы стоим здесь на якоре, – вздыхает Паради.
– А это кто?
В проблесках света мелькает отряд гномов, окруженных светляками; они приносят странные инструменты и исчезают.
– Это прожекторная команда, – говорит Кокон.
– О чем ты задумался, брат?
– Сейчас в армейском корпусе четыре дивизии, – отвечает Кокон. – А бывает и три, а то и пять. Сейчас четыре. И каждая наша дивизия, продолжает человек-цифра, которым может гордиться наш взвод, – состоит из трех ПП – пехотных полков; двух БПС – батальонов пеших стрелков; одного ПТП – полка территориальной пехоты, не считая частей специального назначения, артиллерии, саперов, обозов и так далее, не считая еще штаба ПД – пехотной дивизии – и частей, не входящих в бригаду, а включенных непосредственно в ПД. Линейный полк состоит из трех батальонов; он занимает четыре поезда: один для ШП – штаба полка, для пулеметной роты и HP нестроевой роты, и по одному поезду для каждого батальона. Здесь погружаются не все войска: погрузка будет производиться на линии дороги в зависимости от места стоянок и сроков смены.
– Я устал, – говорит Тюлак. – Едим мы не очень-то сытно, вот что. Держишься только потому, что завели такую моду, но больше нет ни силы, ни бодрости.
– Я справлялся, – продолжает Кокон. – Войска, настоящие войска погрузятся только после двенадцати. Они еще размещены по деревням, на десять километров в окружности. Прежде всего отправятся все управления армейского корпуса и ВЧ – внедивизионные части, – услужливо объясняет Кокон, – то есть входящие непосредственно в корпус. Среди ВЧ нет ни аэростатных частей, ни авиаотрядов; это слишком громоздкая штука; они передвигаются собственными средствами, со своими людьми, своими канцеляриями, своими лазаретами. Во внедивизионные части входит и стрелковый полк.
– Стрелкового полка нет, – наобум говорит Барк. – Есть батальоны. Потому и говорят: такой-то стрелковый батальон.
Кокон пожимает плечами; его очки презрительно мечут молнии.
– А ты это знаешь, молокосос? Какой умник! Знай, что есть пешие стрелки, а есть и конные; это не одно и то же.
– Тьфу ты, черт! – восклицает Барк. – О конных я и забыл.
– То-то! – говорит Кокон. – В ВЧ армейского корпуса входит корпусная артиллерия, то есть главная артиллерия, кроме дивизионной. В нее входит ТА – тяжелая артиллерия, ОА – окопная артиллерия, АП – артиллерийские парки, пушечные бронеавтомобили, зенитные батареи и все такое. Есть еще саперные батальоны, полевая жандармерия, то есть пешие и конные «фараоны», санитарная часть, ветеринарная часть, обозные части, территориальный полк для охраны и работ при ГК – Главной квартире, интендантство (с продовольственным обозом, который обозначают буквами ПРО, чтобы не путать с ПО – Почтовым отделом). Есть еще гурт скота, ремонтное депо и так далее. Автомобильный отдел, целый улей нестроевых, – о них я мог бы говорить целый час, если б хотел, – казначейство, которое заведует казной и почтой, военно-полевой суд, телеграфисты, весь электротехнический отряд. Везде есть заведующие, командиры, управления, отделы, подотделы – все это кишит писарями, вестовыми и ординарцами, словом, целый базар! Видишь, что делается вокруг корпусного генерала!
В эту минуту нас окружают солдаты в полном снаряжении; они несут ящики, тюки, свертки, подвигаются с трудом, кладут ношу на землю и испускают тяжелые вздохи.
– Это штабные писаря. Они составляют часть ГК – Главной квартиры, это что-то вроде генеральской свиты. При переезде они перетаскивают ящики с архивами, столы, реестры и всю дрянь, необходимую для их канцелярщины. Вот, погляди, эти двое – старый дядя и молоденький фертик – несут пишущую машинку: продели ружье в ручку футляра и тащат. Писаря работают в трех отделах, а есть еще Почтовый отдел, канцелярия и ТОК – Топографический отдел корпуса; этот отдел распределяет карты по дивизиям и составляет карты и планы по снимкам с аэропланов, показаниям наблюдателей и пленных. Штаб АК – армейского корпуса – состоит из офицеров всех канцелярий, они находятся в ведении помощника начальника и главного начальника (оба полковники). ГК – Главная квартира, в узком смысле слова, состоит из ординарцев, поваров, кладовщиков, рабочих, электротехников, жандармов и конной охраны; ими командует майор.
Вдруг всех нас кто-то сильно отталкивает.
– Эй! Сторонись! – вместо извинений кричит человек, подталкивая вместе с другими солдатами повозку.
Это трудная работа. В этом месте подъем, и, как только люди перестают цепляться за колеса и удерживать повозку, она катится назад. Во мраке люди скрипят зубами, ворчат, борются с ней, как с чудовищем.
Барк потирает бока и окликает кого-то из неистовых людей:
– И ты думаешь, у тебя что-нибудь выйдет, старый селезень?
– Черт подери! – орет солдат, весь поглощенный своим делом. Осторожней! Тут камень! Сломаете колымагу!
Он делает резкое движение, опять толкает Барка и на этот раз набрасывается на него:
– Ты чего стал на дороге, чурбан?
– Да ты пьян, что ли? – отвечает Барк. – «Чего стал на дороге?» Ишь выдумал! Помолчи! Вшивый!
– Сторонись! – кричит еще кто-то, ведя людей, согнувшихся под тяжелой ношей.
Больше негде стоять. Мы везде мешаем. Нас отовсюду гонят. Мы идем вперед, расступаемся, пятимся.
– А кроме того, – бесстрастно, как ученый, продолжает Кокон, – есть еще дивизии; каждая устроена приблизительно так же, как и корпус…
– Да знаем, знаем. Хватит!
– Вот разбушевалась кобыла в конюшне на колесах, – замечает Паради. Это, наверно, теща жеребца.
– Бьюсь об заклад, это кобыла лекаря; ветеринар сказал, что это телка, которая скоро станет коровой!
– А ловко все это устроено, что и говорить! – с восхищением воскликнул Ламюз; но его оттерла толпа артиллеристов, которые несли ящики.
– Правильно, – соглашается Мартро, – чтобы перевезти весь этот скарб, надо быть смышленым и не зевать… Эй ты, смотри, куда лапы ставишь, чертова требуха!
– Ну и перевозка! Даже когда я с семьей переезжал в Маркуси, и то хлопот было меньше. Правда, я тоже не дурак.
Все замолкают; в тишине опять раздается голос Кокона:
– Чтобы видеть погрузку всей французской армии, находящейся на позициях, – я уже не говорю о тыле, где еще вдвое больше людей и учреждений, вроде лазаретов (они стоили девять миллионов и эвакуируют семь тысяч больных в день), – чтобы видеть такую погрузку в поезда по шестидесяти вагонов, отправляемых один за другим через каждые четверть часа, потребуется сорок дней и сорок ночей.
– А-а! – восклицают все.
Но это слишком величественно для их воображения; эти цифры им уже надоели. Солдаты зевают, и среди этого столпотворения, среди беготни, криков, молний, отсветов и дымов они смотрят слезящимися глазами, как вдали, на вспыхивающем горизонте, проходит чудовищный бронепоезд.








