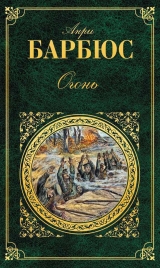
Текст книги "Огонь. Ясность. Правдивые повести"
Автор книги: Анри Барбюс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Все равно… Ну и молодцы эти «артишоки»! Выйти под такой обстрел!..
– Артиллеристы, – сказал солдат из другой роты, который прогуливался по траншее, – артиллеристы либо очень хороши, либо ничего не стоят. Либо молодцы, либо дрянь. Раз как-то я…
– Это можно сказать обо всех солдатах.
– Может быть. Но я говорю тебе не обо всех. Я говорю об артиллерии, и еще я говорю, что…
– Эй, ребята, поищем прикрытие, побережем свои старые кости! А то осколок угодит нам в башку.
Чужой солдат так и не кончил своей истории и пошел дальше рассказывать ее другим, а Кокон из духа противоречия заявил:
– Нечего сказать, весело будет в прикрытии, если ужо здесь мы не очень приятно проводим время.
– Гляди, они швыряют минами! – сказал Паради, показывая направо на наши позиции.
Мины взлетали прямо или почти прямо, как жаворонки, подрагивая и шурша, останавливались, колыхались и падали, возвещая в последние секунды о своем падении хорошо знакомым нам «детским криком». Отсюда казалось, что люди на горном кряже выстроились в ряд и играют в мяч.
– Мой брат пишет, что в Аргоннах их обстреливают «горлицами», говорит Ламюз. – Это большие тяжелые штуки; их бросают на близком расстоянии. Они летят и воркуют, право воркуют, а как разорвутся, поднимается такой кавардак!..
– А хуже всего «крапуйо»: он как будто гонится за тобой и бросается на тебя, сносит насыпь и разрывается в самой траншее.
– А-а!.. Слышал?
До нас донесся свист и вдруг утих: снаряд не разорвался.
– Этот снаряд говорит: «Начхать!» – заметил Паради.
Мы навострили уши, чтобы иметь удовольствие услышать (или не услышать) свист других снарядов.
Ламюз сказал:
– Тут все поля, все дороги, все деревни усеяны неразорвавшимися снарядами разных калибров, и, надо признаться, нашими тоже. Вся земля, наверно, набита ими, но их не видать. Спрашивается, что делать, когда придет время сказать! «Надо опять пахать землю!»
В своем неистовом однообразии огненный и железный вихрь не утихает: со свистом разрывается шрапнель, наделенная металлической душой, обуянная бешенством; грохочут крупные фугасные снаряды, словно разлетевшийся паровоз с размаху разбивается о стену или груды рельсов и стальных стропил катятся вниз по склону. Воздух уплотняется; его рассекает чье-то тяжелое дыхание; кругом, вглубь и вширь, продолжается разгром земли.
И другие пушки вступают в действие. Это – наши. По звуку их выстрелы похожи на выстрелы семидесятипятимиллиметровых орудий, но сильней; эхо гремит протяжно и гулко, как отзвук грома в горах.
– Это длинные стодвадцатимиллиметровки. Они стоят на опушке леса, в одном километре отсюда. Славные пушечки, брат; они похожи на серых гончих. Тонкие, с маленьким ротиком. Так и хочется сказать им: «Мадам!» Это не то что двухсотдвадцатимиллиметровки: у них только пасть – какое-то ведро из-под угля, они харкают снарядом снизу вверх. Здорово работают! Но в артиллерийских обозах они похожи на безногих калек в колясочках.
Беседа не клеится. Кое-кто позевывает.
Воображение утомлено величием этого артиллерийского урагана. Он заглушает голоса.
– Я никогда еще не видал такой бомбардировки, – кричит Барк.
– Так всегда говорят, – замечает Паради.
– А все-таки! – орет Вольпат. – На днях толковали об атаке. Припомните мое слово, это уже начало!..
– А-а! – восклицают другие.
Вольпат выражает желание вздремнуть; он устраивается на голой земле, прислоняется к одной стенке и упирается ногами в другую.
Болтают о том, о сем. Бике рассказывает о крысе:
– Большущая, жирная! Лакомка!.. Я снял башмаки, а она взяла да изгрызла верха! Прямо кружево! Надо сказать, я смазал их салом…
Неподвижно лежавший Вольпат заворочался и кричит:
– Эй, болтуны! Спать мешаете!
– Никогда не поверю, старая шкура, что ты можешь дрыхнуть, когда здесь такой кавардак, – говорит Мартро.
– Хр-р-р! – отвечает захрапевший Вольпат.
* * *
– Стройся! Марш!
Мы трогаемся в путь. Куда нас ведут? Неизвестно. Мы только знаем, что мы в резерве и нас гоняют с места на место: то требуется укрепить какой-нибудь пункт, то надо очистить проходы, – производить там передвижение войск, не допуская затора и столкновений, так же трудно, как наладить пропуск поездов на крупных узловых станциях. Невозможно ни понять смысл огромного маневра, в котором наш полк – только маленькое колесико, ни разобрать, что готовится на всем участке фронта. Мы блуждаем в подземном лабиринте, без конца ходим взад и вперед, мы измучены длительными остановками, обалдели от ожидания и шума, отравлены дымом, но мы понимаем, что наша артиллерия все усиливает огонь и что наступать будут, наверное, на другом направлении.
* * *
– Стой!
По брустверам траншеи, где нас остановили в эту минуту, барабанили пули. Бешеная, неслыханная ружейная пальба.
– Ну и старается фриц! Боится атаки, с ума сошел от страха. Ну и старается!
Пули градом сыпались на нас, рассекали воздух, скоблили всю равнину.
Я посмотрел в бойницу. На миг предстало странное зрелище.
Перед нами, самое большее метрах в десяти, вытянувшись в ряд, лежали неподвижные тела – скошенная шеренга солдат; со всех сторон пули летели тучей и решетили этих мертвецов.
Пули царапали землю прямыми бороздами, поднимали легкие четкие облачка пыли, пронзали оцепенелые, припавшие к земле тела, ломали руки, ноги, впивались в бледные, изнуренные лица, пробивали глаза, разбрызгивая кровавую жижу, и под этим шквалом ряды трупов кое-где чуть шевелились.
Слышался сухой треск: острые куски металла с налету рвали ткани и мясо; этот звук был похож на свист неистового ножа или бешеного удара палки по одежде. Над нами пролетал сноп пронзительных свистов и раздавалось более низкое, все более глухое пение рикошетов. И под этим небывалым вихрем криков и воплей мы опускали головы.
– Очистить траншею! Марш!
* * *
Мы покидаем этот клочок поля битвы, где ружейные залпы сызнова расстреливают, ранят и убивают мертвецов. Мы идем вправо и назад. Ход сообщения ведет в гору. В верхней части оврага мы проходим мимо телефонного поста, мимо нескольких артиллерийских офицеров и солдат.
Здесь опять остановка. Мы топчемся и слушаем, как наблюдатель выкрикивает приказы, а телефонист, сидящий рядом в прикрытии, их принимает и повторяет:
– Первое орудие, тот же прицел! Левей ноль два! По три в минуту!
Кое-кто из нас решается высунуть голову поверх насыпи и может на мгновение охватить взглядом все поле битвы, вокруг которого наша рота кружится с утра.
Я замечаю серую непомерную равнину, где ветер поднимает мутные легкие волны с гребнями дыма.
Огромное пространство, где солнце и тучи отбрасывают черные и белые пятна, бегло сверкает: это стреляют наши батареи; я вижу, как все покрывается вспышками. Потом, на мгновение, часть полей исчезает за туманной беловатой завесой, как в снежную метель.
Вдали, над выцветшими зловещими полями, разрушенными, как древние кладбища, смутно виднеется нечто вроде клочка разорванной бумаги – это скелет церкви, и во всю ширь пространства тесные ряды вертикальных подчеркнутых линий, похожих на палочки в детской тетради: это дороги, обсаженные деревьями. Равнина исчерчена в клетку, вдоль и поперек, извилинами, а эти извилины усеяны точками – людьми.
Мы различаем обрывки линий, образуемых живыми точками, которые выходят из вырытых борозд и движутся по равнине под грозным разъяренным небом.
Трудно поверить, что каждое из этих пятнышек – живая плоть, живое существо, вздрагивающее и хрупкое, совершенно беззащитное в этом мире, полное глубоких мыслей, воспоминаний и образов; мы ослеплены этой пыльцой, этим множеством людей, крохотных, как звезды в небе.
Бедные ближние, бедные незнакомцы, теперь ваш черед принести себя в жертву! Потом наступит наш! Может быть, завтра и нам придется почувствовать, как над нами раскалывается небо и под ногами разверзается земля, нас сметет дыхание урагана, в тысячу раз более мощного, чем обычный ураган.
Нас гонят в тыловые прикрытия. На наших глазах потухает поле смерти. Гром колотит глуше по чудовищной наковальне туч. Гул всемирного разрушения стихает. Наш взвод себялюбиво окунается в привычные шумы жизни и погружается в ласковую темноту прикрытий.
XX
ОГОНЬ
Вдруг кто-то меня будит; в темноте ночи я открываю глаза.
– Что? В чем дело?
– Твоя очередь идти на пост. Уже два часа ночи, – говорит капрал Бертран.
Я его слышу, но не вижу в отверстие норы, на дне которой лежу.
Я ворчу: «Сейчас», – отряхиваюсь, зеваю в узком гробовом прикрытии, потягиваюсь; мои руки касаются мягкой холодной глины. Я ползу в густом мраке, насыщенном тяжелыми запахами, между спящих солдат. Несколько раз я их задеваю, натыкаюсь на ружья, ранцы, ноги и руки, раскинутые во все стороны, беру свое ружье, и вот я уже стою под открытым небом; я еще сонный, плохо держусь на ногах; на меня налетает черный колючий ветер.
Дрожа от холода, я иду за капралом между высоких темных груд, нижняя часть которых странно сужается на нашем пути. Капрал останавливается. Это здесь. Какая-то черная громадина отделяется от призрачной стены и спускается. Эта громадина громко зевает, словно ржет. Я поднимаюсь в нишу, которую она занимала.
Луна скрыта в тумане, но все озарено мутным светом, к которому глаз привыкает. Этот свет тускнеет: наверху скользит широкий обрывок тучи. Я нащупываю отверстие бойницы на уровне моей головы и в углублении привычной рукой нахожу кучу гранат.
– Смотри в оба, старина! – вполголоса говорит Бертран. – Не забудь, что там, впереди, налево, наш сторожевой пост. Ну, пока прощай!
Слышатся его удаляющиеся шаги, а за ними сонные шаги часового, которого я сменил.
Со всех сторон трещат выстрелы. Вдруг о насыпь, к которой я прислонился, ударяется пуля. Я приникаю лицом к бойнице. Наша линия извивается по верху оврага; земля круто уходит вниз, и в бездне мрака, куда она погружается, не видно ничего. Но в конце концов глаз различает правильную линию кольев нашей сети, вбитых у самых волн темноты, и круглые ямы – воронки от снарядов, маленькие, средние, большие, огромные; некоторые совсем близко; они завалены какими-то обломками. Ветер дует мне в лицо. Все неподвижно, только пролетает ветер и каплет вода. Холодно так, что без конца дрожишь. Я поднимаю глаза, озираюсь. Везде скорбь, все одето в траур. Я чувствую себя одиноким, я затерян в мире, разрушенном стихиями.
Вдруг небо стремительно озаряется: взлетела ракета; места, среди которых я затерян, выступают и определяются. Показывается разодранный, взлохмаченный край нашей траншеи: я замечаю тени часовых, приникших к передней стенке через каждые пять шагов, как вертикальные личинки. Их ружья поблескивают каплями света. Траншея укреплена мешками земли; обвалы повсюду ее расширили и кое-где обнажили. При звездном свете ракеты нагроможденные и разъехавшиеся мешки земли кажутся большими плитами древних разрушенных памятников. Я смотрю в отверстие бойницы. В туманном, белесом свете, оставшемся от метеора, я различаю ряды кольев и даже тонкие перекрещенные линии проволочных заграждений. Как будто кто-то исчеркал изрытое мертвое поле. Ниже, в ночном океане, – тишина и неподвижность.
Я спускаюсь с моего наблюдательного пункта и направляюсь наугад к соседу. Я протягиваю руку и касаюсь его.
– Это ты? – вполголоса говорю я, не узнавая его.
– Да, – отвечает он, тоже не зная, кто я, слепой, как и я.
– Сейчас спокойно, – прибавляет он. – А недавно я думал: они пойдут в атаку; они, может быть, попробовали справа, – метнули кучу гранат. Наши семидесятипятимиллиметровки открыли заградительный огонь: бац! бац!.. Ну, брат, я решил: «Здорово они палят! Если боши повылезли, верно, досталось им на орехи». А-а, послушай, опять сыплются шарики! Слышишь?
Он откупоривает флягу, отпивает глоток и, обдавая меня запахом вина, вполголоса говорит:
– Эх! Ну и подлая война! Разве не лучше было б оставаться дома? Ну, в чем дело? Чего всполошился этот черт?
Недалеко от нас раздается выстрел; пуля чертит короткую, резкую, фосфоресцирующую линию. Там и сям, с нашей позиции, раздаются еще залпы: ночью ружейные выстрелы заразительны.
В густом тумане, нависшем над нами, как крыша, мы ощупью идем навести справки. Спотыкаясь, иногда сталкиваясь, мы подходим к какому-то стрелку и касаемся его.
– Что случилось?
Ему почудилось, что кто-то шевелится, а оказалось – никого. Мы с соседом возвращаемся по узкой дороге, затопленной жирной грязью, ступаем неуверенно, согнувшись, словно под тяжестью ноши.
В одной точке горизонта, потом в другой, везде уже гремят пушки; оглушительный рев смешивается с вихрями ружейной перестрелки, то усиливающейся, то затихающей, и со взрывами гранат, более звонкими, чем треск «дебелей» и «маузеров», и приблизительно похожими на выстрелы обыкновенного ружья. Ветер усилился; он так резок, что приходится уйти за прикрытие; луну заслоняют проносящиеся полчища огромных туч.
Мы здесь вдвоем, совсем близко, так что касаемся друг друга плечом. Мы видим друга друга лишь на мгновение при отсвете пушечных залпов; мы стоим в темноте, а кругом в этом бесовском шабаше вспыхивают и потухают пожары.
– Проклятая жизнь! – говорит сосед.
Мы расходимся, встаем каждый у своей бойницы и впиваемся глазами в неподвижный мир.
Какая грозная, мрачная буря разразится сейчас?
В эту ночь она не разразилась. После долгих часов ожидания, при первом проблеске рассвета, все даже как-то затихло.
Когда заря простерлась над нами, словно грозовой вечер, передо мной еще раз возникли, под черным, как сажа, покровом низких туч, какие-то крутые, печальные, грязные берега, усеянные обломками и отбросами, – края нашей траншеи.
При тусклом свете набитые землей мешки с выпуклыми лоснящимися боками кажутся лиловатыми и свинцовыми, как груды кишок и внутренностей, которыми завалили весь мир.
За мной, в стенке, обнаруживается углубление, и там куча распластанных, наваленных друг на друга предметов, высится, словно поленья костра.
Стволы деревьев? Нет – трупы людей.
* * *
Над бороздами поднимается птичий гам, поля возрождаются, свет расцветает в каждой былинке. Я смотрю на лощину. Ниже развороченного поля, где поднялись волны земли, где зияют воронки, за взъерошенным рядом кольев, все еще стынет озеро мрака, а перед противоположным склоном все еще высится стена ночи.
Я оборачиваюсь и разглядываю мертвецов; мало-помалу они выступают из тени, словно выставляя напоказ свои окостеневшие и замаранные тела. Их четверо. Это наши товарищи – Ламюз, Барк, Бике и маленький Эдор. Совсем рядом с нами они разлагаются, загородив широкую, извилистую и вязкую борозду, которую живым зачем-то еще нужно оборонять.
Их положили сюда кое-как, они лежат один на другом. Верхний завернут в парусину. Головы других прикрыты платками, но по ночам, в темноте, и днем живые по неосторожности задевают мертвецов; платки падают, и приходится жить лицом к лицу с этими трупами, наваленными здесь, как поленья живого костра.
* * *
Они были убиты все вместе четыре ночи тому назад. Я помню эту ночь, как смутный сон. Мы были в разведке, – они, я, Мениль Андре и капрал Бертран. Нам было приказано обнаружить новый сторожевой пост немцев, о котором нам сообщили артиллерийские наблюдатели. К двенадцати часам ночи мы вылезли из траншеи, поползли вниз, цепью, в трех-четырех шагах один от другого, спустились в лощину и увидели простертую, как убитый вверь, насыпь немецкой части Международного хода. Убедившись, что здесь нет поста, мы с бесконечными предосторожностями поползли вверх; я смутно видел моего соседа справа и соседа слева; они были похожи на темные мешки, медленно скользили, колыхались по грязи в темноте, подталкивая перед собой ружья, поблескивавшие, как игла. Над нами свистели пули, но они нас не знали и не искали. Увидев насыпь нашей траншеи, мы остановились; один из нас вздохнул, другой что-то сказал, третий обернулся всем телом, и его штыковые ножны звякнули о камень. Сейчас же из Международного хода взвилась ракета. Мы припали к земле, застыли и стали ждать, пока не погаснет грозная звезда, которая заливала нас дневным светом, в двадцати пяти – тридцати метрах от нашей траншеи. Тогда пулемет, стоявший по ту сторону оврага, стал поливать место, где мы находились. В ту минуту, когда красная ракета летела, еще не вспыхнув полным светом, капралу Бертрану и мне посчастливилось найти воронку от снаряда; там валялись в грязи сломанные рогатки; мы оба прижались к стенке этой ямы, зарылись как можно глубже в грязь и спрятались за какой-то прогнивший деревянный остов. Пулеметный огонь несколько раз проносился над нами. Мы слышали пронзительный свист, сухие удары пуль по земле и еще глухое хлопанье, сопровождаемое стонами, вскриками и постепенно затихающим хрипом. Нас с Бертраном чуть не задевал горизонтальный град пуль, которые в нескольких сантиметрах от нас плели сеть смерти и иногда царапали наши шинели; мы все больше приникали к земле, не смея ни приподняться, ни шевельнуться. Мы ждали. Наконец пулемет замолк и наступила полная тишина. Через четверть часа мы оба вылезли из воронки, поползли и свалились, как мешки, у нашего сторожевою поста. Идти дальше было нельзя: в эту минуту уже сияла луна. Пришлось оставаться на дне траншеи до утра, потом до вечера. Пулеметы безостановочно поливали пулями ее края. В бойницу не видны были простертые тела: их скрывал скат; в поле зрения виднелось только нечто похожее на спину. Вечером мы прорыли ход, чтобы добраться до того места, где пали наши товарищи. Эту работу нельзя было проделать за одну ночь; на следующую ночь нас заменили солдаты-землекопы; мы выбились из сил и больше не могли бодрствовать.
Проснувшись, я увидел четыре трупа; до них солдаты добрались из-под низу, на равнине зацепили крючьями и втащили на веревках в подкоп. У каждого трупа было много ран; дыры от пуль чернели на расстоянии нескольких сантиметров одна от другой. Тела Мениля Андре не нашли. Его брат Жозеф безрассудно искал его повсюду; он вышел один на равнину, несмотря на перекрестный огонь пулеметов. Утром он притащился ползком, как улитка, над насыпью показалось его черное от грязи, неузнаваемое от горя лицо.
Мы втащили его в траншею; его щеки были исцарапаны о колючую проволоку, руки окровавлены, в складки одежды тяжелыми комьями набилась грязь; он весь пропах смертью. Он, как маньяк, повторял: «Его нигде нет!»
Он забился в угол, принялся чистить ружье, не слушая, что ему говорят, и только повторял: «Его нигде нет!»
С тех пор прошло четыре ночи, и я еще раз вижу, как эти тела выступают при свете зари, которая снова встала, чтоб омыть этот земной ад.
Застывший Барк кажется огромным. Его руки прижаты к бокам, грудь провалилась; вместо живота – углубление, похожее на лоханку. Голова приподнята кучей грязи; он словно смотрит поверх своих ног на людей, которые приходят слева; его лицо потемнело, запачкано липким пятном спадающих волос и сгустками запекшейся крови; глаза словно выкипели и залиты кровью. Эдор, наоборот, кажется совсем маленьким; у него белое-белое личико, как у Пьеро; оно выделяется кружком белой бумаги в темной груде серо-синих трупов, и от этого зрелища щемит сердце. Бретонец Бике, коренастый, квадратный, словно каменная плита, кажется, напрягся изо всех сил и старается приподнять туман; от этого страшного усилия искажено его лицо, на котором выступают скулы и выпуклый лоб; взъерошенные, жесткие, замаранные грязью волосы; разодран последним криком рот, широко открыты мутные, каменные глаза; хватаясь за пустоту, пальцы застыли в предсмертной судороге.
У Барка, у Бике пробит живот, у Эдора – шея. Перетаскивая эти трупы, саперы их еще больше изуродовали. Толстяк Ламюз истек кровью; его лицо опухло и сморщилось; глаза постепенно ввалились в орбиты, один больше другого. Его завернули в парусину; на месте шеи появилось черноватое пятно. Правое плечо изрешетили пули, и рука держится только на обрывках рукава и веревочках, которыми ее кое-как привязали. В первую ночь, когда его сюда положили, эта рука торчала из груды мертвецов, и желтые пальцы, судорожно сжимая комок земли, касались проходивших солдат. Рукав прикололи к шинели.
Туча смрада нависла над останками этих существ, с которыми мы так близко соприкасались, жили так дружно, так долго страдали вместе.
При виде их мы говорим: «Они умерли все четверо». Но они так обезображены, что нельзя действительно поверить: это они. И только отвернувшись от этих неподвижных чудовищ, мы чувствуем пустоту, создавшуюся среди нас и среди воспоминаний, разорванных этой утратой.
Здесь проходят солдаты из других рот или других полков. Ночью они, как и все мы, невольно цепляются за все, что попадается под руку, живое или мертвое, но днем с отвращением отшатываются от этих трупов, наваленных друг на друга прямо в траншее. Иногда они сердятся:
– Оставили здесь покойников! О чем думает начальство?
– Безобразие!
Но прибавляют:
– Правда, отсюда их никак не убрать.
И пока могила этих трупов – только тьма.
Рассвело. Напротив показался другой склон лощины. Там высота 119 оголенный, облупленный, выскобленный холм, изрезанный ходами сообщения и параллельными окопами, где обнажены глина и мел. Там никто не шевелится, и кажется – наши снаряды, взрываясь, вскипают и разбиваются брызгами пены, как огромные волны, и гулко ударяются о большой разрушенный, заброшенный мол.
Наша смена кончилась. Часовые, закутанные в мокрую парусину, исполосованные и облепленные грязью, посиневшие от холода, вылезают из углублений, где они стояли, и уходят. У стрелковых ступенек у бойниц занимает место второй взвод. А мы будем отдыхать до вечера.
Мы зеваем, слоняемся. Приходит один товарищ, потом другой. Снуют офицеры с перископами и призматическими биноклями. Мы узнаем друг друга; начинаем опять жить. Перекидываемся обычными словечками. И не будь разрушенной траншеи, разбитых очертаний рва, где мы прячемся, и необходимости говорить вполголоса, можно было бы подумать, что мы находимся где-нибудь в окопах третьей линии. Однако нас всех одолевает усталость; лица пожелтели, от бессонных ночей веки красные, как будто мы долго плакали. За несколько дней мы сгорбились и постарели.
Один за другим солдаты из нашего отделения подходят к повороту траншеи. Они столпились в том месте, где почва совсем меловая; земля ощетинилась перерезанными корнями, и под ее корой обнажены пласты белого камня, которые лежали во мраке больше ста тысяч лет.
В этом расширенном проходе мы и собрались. Наши ряды поредели: не говоря уже о четырех товарищах, погибших в ту ночь, среди нас больше нет ни Потерло, убитого во время смены, ни Кадийяка, раненного в ногу осколком в тот же вечер. (Кажется, будто это было уже давно!) Нет Тирлуара и Тюлака, они эвакуированы: один заболел дизентерией, другой – воспалением легких, и дело принимает скверный оборот, как пишет Тюлак в открытках, которые от скуки посылает нам из лазарета.
Я еще раз вижу, как подходят и собираются испачканные землей, закопченные пороховым дымом люди; мне хорошо знакомы их лица и позы; ведь мы не разлучались с начала войны и братски привязаны друг к другу. Но теперь у этих пещерных людей меньше различий в одежде…
Дядюшка Блер щеголяет ослепительными зубами; на всем его жалком лице видишь только эту нарядную челюсть. Он мало-помалу привыкает к чужим зубам и пользуется ими для еды; благодаря им изменился его характер и поведение; он больше не черный от грязи и только чуть-чуть неряшлив. Похорошев, он хочет быть изящным. В эту минуту он мрачен, может быть, потому (о, чудо!), что нельзя умыться. Забившись в угол, он щурит тусклые глаза, жует усы (усы старого вояки, когда-то единственное украшение его лица) и время от времени выплевывает волосок.
Фуйяд простудился, он дрожит от холода или позевывает, подавленный, словно общипанный. Мартро не изменился: по-прежнему бородатый, голубоглазый, такой коротконогий, что всегда кажется: его штаны вот-вот вылезут из-под пояса и свалятся. Кокон – все тот же Кокон с пергаментным лицом; в его голове по-прежнему роятся цифры; но уже с неделю на нем расплодились вши; они выползают на его шею и кисти рук; он уединяется, долго сражается с ними и возвращается к нам сердитый. У Паради почти такой же, как и раньше, хороший цвет лица и хорошее настроение; он не меняется, ему нет сносу. Когда он появляется вдали, на фоне мешков с землей, как новенькая яркая афиша, все улыбаются. Нисколько не изменился и Пепен; он ходит с той же красно-белой клеенчатой шахматной доской на спине; у него лицо острое, как лезвие ножа, глаза зеленовато-серые, холодные, как отблеск стали; ни в чем не изменились ни Вольпат (у него по-прежнему на ногах короткие гетры, на плечах одеяло; его аннамитское лицо татуировано грязью), ни Тирет (однако с некоторого времени, по какой-то таинственной причине, он возбужден; в его глазах появились кровяные жилки). Фарфаде держится в сторонке; он задумчив, чего-то ждет. В часы раздачи писем он словно пробуждается, но потом опять уходит в себя. Своей тонкой чиновничьей рукой он старательно пишет множество открыток. Он не знает о смерти Эдокси. Ламюз никому, кроме меня, не говорил о последней страшной встрече с этой женщиной. По-видимому, Ламюз жалел, что рассказал мне об этом, и до самой смерти упорно и стыдливо скрывал от других свою тайну. Вот почему Фарфаде по-прежнему живет мечтой о златокудрой женщине и разлучается с ней ненадолго, только когда обменивается с нами редкими словами. А капрал Бертран все такой же сосредоточенный и молчаливый; он всегда готов спокойно улыбнуться нам, дать на наши вопросы ясные ответы, помочь каждому делать то, что надо.
Мы беседуем, как раньше, как недавно. Но приходится говорить вполголоса; мы говорим меньше, спокойней и печальней.
* * *
Небывалый случай: за последние три месяца смена каждому боевой единицы в окопах первой линии происходила через четыре дня, но здесь мы уже пять дней, а о смене еще и не поговаривают. Ходят слухи о предстоящей атаке; известия приносят связисты или нестроевые, которые через ночь нерегулярно – доставляют нам продовольствие. Кроме этих слухов, имеются еще другие признаки: отпуска отменены, письма не приходят, офицеры явно изменились – они озабочены и стараются сблизиться с нами. Но когда с ними заговаривают на эту тему, они пожимают плечами: ведь солдата никогда не предупреждают, что собираются с ним сделать; ему завязывают глаза и повязку снимают лишь в последнюю минуту. Мы только повторяем:
– Поживем – увидим!
– Остается только ждать!
Мы предчувствуем трагическое событие, но как будто равнодушны к нему. Потому ли, что мы не можем понять весь его смысл, или больше не надеемся разобраться в недоступных нам решениях, или беспечно примирились, или верим, что и на этот раз избежим опасности? Как бы то ни было, вопреки признакам и пророчествам, которые, по-видимому, уже сбываются, мы бессознательно погружаемся в неотложные заботы: нас мучают голод, жажда; уничтожая вшей, мы окровавили ногти, нас одолевает страшная усталость.
– Видал сегодня Жозефа? – говорит Вольпат. – Бедный парень! Он недолго протянет.
– Он что-нибудь да выкинет. Верно говорю. Парень погибнет, понимаешь? При первом удобном случае сам бросится под пулю. Вот увидишь!
– Да и есть от чего рехнуться! Знаешь, их было шестеро братьев. Четверых ухлопали: двоих в Эльзасе, одного в Шампани, одного в Аргоннах. Если Андре убит – это пятый.
– Если б он был убит, его тело нашли бы, увидели с наблюдательного пункта. Нечего ломать себе голову. По мне, в ту ночь, когда они пошли на разведку, он на обратном пути заблудился. Пополз в сторону, бедняга, – и попал в плен к бошам.
– Может, напоролся на их проволочные заграждения и его убило током.
– Говорят тебе, его бы нашли, если б он был убит: ведь боши не стали б его хоронить. Словом, его искали повсюду. Раз не нашли, значит (ранен или не ранен), он попал в лапы к бошам.
С этим столь логическим предположением соглашаются все и, решив, что Андре Мениль попал в плен, им больше не интересуются. Но его брат по-прежнему вызывает жалость.
– Бедняга, он такой молодой!
И солдаты нашего взвода украдкой сочувственно посматривают на него.
– Жрать хочется! – вдруг заявляет Кокон.
Давно пора есть, все требуют обед. Впрочем, он уже здесь: это остатки вчерашнего.
– И о чем думает капрал? Хочет нас уморить? А-а, вот он! Ну, погоди, я ему сейчас задам! Эй, капрал, чем ты так занят? Почему не даешь нам жрать?
– Да, да, жрать! – хором повторяют вечно голодные солдаты.
– Сейчас приду, – говорит озабоченный Бертран; он ни днем, ни ночью не знает покоя.
– В чем дело? – вдруг восклицает Пепен. – Надоели мне эти сопливые макароны! Да я в два счета открою коробку «обезьяны»!
Драма забыта; начинается ежедневная комедия с едой.
– Не трогайте запасов! – говорит Бертран. – Я вернусь от капитана и сейчас же дам вам поесть.
Скоро он возвращается, приносит и раздает пищу; мы едим салат из картошки с луком, жуем, уплетаем, и наши лица проясняются.
Паради надел к обеду суконную шапку полицейского образца. Это не соответствует ни времени, ни месту, но шапка совсем новая; портной, который обещал сделать ее уже три месяца назад, сдал ее Паради только в тот день, когда нас послали на передовые позиции. Эта «лодочка» из ярко-голубого сукна, надетая на круглую башку, придает ему вид картонного румяного жандарма. Паради ест и пристально на меня смотрит. Я подхожу к нему.
– Тебе эта шапка к лицу.
– Все равно! – отвечает он. – Я хочу с тобой поговорить. Пойдем!
Он протягивает руку к фляге, стоящей перед его котелком, и после некоторого колебания решает поместить вино в надежное место – в глотку, а флягу – в карман. Он встает, уходит.
Я иду за ним. По дороге он прихватывает каску, которая валяется на земляной ступеньке. Пройдя шагов десять, он останавливается, смотрит себе под ноги, как в те минуты, когда он взволнован, и тихонько говорит:
– Я знаю, где Мениль Андре. Хочешь на него поглядеть? Иди сюда!
Он снимает полицейскую шапку, складывает ее, сует в карман, надевает каску. Идет дальше. Я молча следую за ним.
Мы проходим метров пятьдесят до нашей общей землянки и перекрытия из мешков; проползая под ним, мы всегда опасаемся, что эта грязная арка вот-вот обрушится и переломает нам ребра. За перекрытием, в стенке траншеи – углубление и ступенька, сделанная из плетня, облепленного глиной. Паради влезает на нее и знаком зовет меня на эту узкую скользкую площадку. Когда-то здесь была бойница для часового; она разрушена; ее проделали ниже и снабдили двумя щитами. Приходится согнуться, чтобы не высовывалась голова.
Все еще шепотом Паради говорит:








