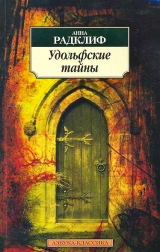
Текст книги "Удольфские тайны"
Автор книги: Анна Рэдклиф
Жанры:
Триллеры
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 56 страниц)
ГЛАВА VII
Пусть те свою оплакивают долю.
Кто упованье возлагает лишь на здешний бренный мир, Но души высшие глядят и за пределы гроба.
С улыбкою они судьбу встречают и дивятся,
Как можно так тужить? Разве весна
Вовеки не вернется в эти долы?
Разве волна навеки погребла светило дня?
Но скоро снова засияет на востоке солнце.
Опять весна все воскресит живительным дыханьем. Украсит рощу и луга!
Битти
Эмилия, разбуженная, по ее просьбе, рано поутру, проснулась мало освеженная отдыхом: всю ночь ее преследовали тревожные видения и нарушали сон – эту лучшую отраду несчастных. Но когда она открыла окно, выглянула в лес, озаренный утренним солнцем, и в комнату ворвался чистый, свежий воздух, на душе у нее стало легче. Все кругом дышало бодрой, здоровой свежестью; в ушах ее раздавались приятные, радостные звуки: утренний благовест монастыря, слабый рокот морских волн, пение птиц, отдаленное мычание стада, которое пробиралось вдали между стволов.
Пораженная поэзией окружающего, Эмилия отдалась задумчивой прелести настроения, и пока она стояла у окна, поджидая Сент Обера, мысли ее сложились в следующие строфы:
РАННЕЕ УТРО
Какое наслаждение бродить под сенью леса,
Когда предрассветный сумрак
Еще царит в дремлющей чаще
И постепенно тает от багрянца утренней зари.
В тот час каждый цветок новорожденный,
Обрызганный слезой росы,
Подымет свою свежую головку,
Повертывает к свету чашечку свою
И посылает в воздух сладкий аромат.
Как свеж бриз, насыщенный благоуханием.
Несущий мелодии пробудившихся птиц.
Жужжание пчелы под зеленым шатром
И песню лесника, мычание дальних стад!..
Там вдалеке сквозят за листвой
Суровые вершины гор,
А дальше моря глубокое лоно
С резвыми парусами, тронутыми солнечным лучом.
Но тщетны и прохлада леса, и дыханье мая,
И музыка, приносимая ветерком,
И солнца луч сквозь росистую дымку.
Когда разрушено здоровье и сердце к радости остыло.
Вскоре Эмилия услыхала движение внизу, а потом и голос Михаила, разговаривающего со своими мулами, в то время как он выводил их из соседнего сарая. Эмилия вышла и у дверей встретилась с Сент Обером. Она повела его вниз в маленькое зальце, где они вчера ужинали; там они нашли накрытый завтрак и хозяина с дочерью, ожидавших своих гостей, чтобы пожелать им доброго утра.
– У вас завидный домик, – сказал им Сент Обер, – такой веселый, чистенький, уютный. А воздух, которым здесь дышишь! – право, если что может поправить расшатанное здоровье, то именно такой воздух!
Лавуазен поклонился в знак благодарности и отвечал с любезностью истинного француза.
– Нашей избушке действительно можно позавидовать, сударь, с тех пор, как вы и ваша барышня почтили ее своим посещением.
Сент Обер ласково улыбнулся на комплимент и сел за стол, уставленный плодами, молоком, свежим сыром, маслом и кофе. Эмилия, внимательно наблюдавшая за отцом и заметившая, что он очень нездоров, старалась уговорить его, чтобы он отложил отъезд до после полудня. Но он стремился домой и выражал свое желание с настойчивостью, для него непривычной. Он уверял, что сегодня чувствует себя не хуже обыкновенного и легче вынесет путешествие в прохладные утренние часы, чем в другую пору дня. Но в то время как он разговаривал со стариком хозяином и благодарил его за гостеприимство, Эмилия заметила, что лицо его меняется; не успела она броситься к нему, как он в бессилии откинулся на спинку кресла. Через несколько минут он очнулся от внезапного обморока, но чувствовал себя так плохо, что не в состоянии был ехать. Посидев еще немного и стараясь побороть свое нездоровье, он попросил, чтобы его свели наверх и уложили в постель. Эмилия перепугалась, но по возможности скрывала свое беспокойство от отца и подставила ему свою дрожащую руку, чтобы помочь подняться по лестнице.
Улегшись снова в постель, больной пожелал, чтобы позвали Эмилию, горько плакавшую в своей комнате. Когда она пришла, он движением руки велел всем прочим выйти вон. Оставшись наедине с дочерью, больной протянул ей руку с выражением такой нежности и скорби, что она не выдержала и залилась горючими слезами. Сент Обер, казалось, боролся с собою, стараясь обрести твердость духа, но долго не мог произнести ни слова, а только пожимал ее руку и смахивал слезы, катившиеся из его глаз.
– Дорогое дитя мое, – начал он наконец, через силу улыбаясь, – дорогая моя Эмилия!..
Тут он опять остановился, поднял глаза к небу, как бы с мольбою, и продолжал уже более твердым голосом: в его взорах была и отеческая нежность и торжественность мученика.
– Дорогое дитя мое, я желал бы смягчить тяжелую правду, которую имею открыть тебе, но не могу притворяться. Да и было бы слишком жестоко обманывать тебя. Скоро нам с тобою придется расстаться; так будем же открыто говорить о нашей разлуке, чтобы приготовиться вынести ее!
Голос его опять прервался; плачущая Эмилия еще крепче прижала его руку к своей груди, из которой вырывались судорожные рыдания, но не поднимала глаз.
– Не будем терять понапрасну этих последних минут; я хочу говорить с тобой об одном крайне важном деле и взять с тебя торжественное обещание; после этого мне станет легче. Ты могла заметить, душа моя, как сильно я стремлюсь домой, но ты не знаешь – почему. Выслушай, что я имею сказать тебе. Но постой, прежде всего дай мне одно обещание, – сделай это для твоего умирающего отца!
Тут Сент Обер умолк. Эмилия, пораженная его последними словами, точно ей впервые представилась мысль о возможности его близкой смерти, подняла голову. Слезы ее высохли и, взглянув на него с выражением глубокой душевной скорби, она без чувств откинулась на спинку стула. На крик Сент Обера прибежали Лавуазен с дочерью и употребили все усилия, чтобы привести ее в сознание; но это долго им не удавалось. Когда она, наконец, пришла в себя, Сент Обер был так измучен вынесенной тяжелой сценой, что в первые минуты не имел сил говорить. Его несколько оживило лекарство, поданное ему Эмилией. Оставшись с нею опять наедине, он старался успокоить и утешить ее. Она бросилась ему на шею, долго плакала на его груди; от горя она утратила способность понимать, что он говорил ей; пришлось прекратить успокоительные речи, в действительность которых он сам не верил в эту минуту, и слезы их смешались. Наконец, вернувшись к сознанию долга, Эмилия поняла, что не следует еще более расстраивать отца. Она осушила слезы и сказала ему, что готова слушать.
– Дорогая Эмилия, – сказал Сент Обер, – милое дитя мое, мы должны со смиренным упованием возносить наши молитвы к Господу. Он всегда оказывал нам покровительство и утешение во всякой опасности, всяком горе; Его око видит нас во все моменты нашей жизни. Он не покинет нас, не захочет нас покинуть. Его святой охране я поручаю тебя, дитя мое! Перестань же плакать, моя Эмилия. В смерти нет ничего нового и поразительного, все мы родились, чтобы умереть. Смерть не страшна тем, кто уповает на благость всемогущего Бога. Если б я остался жив теперь, то все равно через несколько лет, по закону природы, я принужден был бы расстаться с жизнью: старость со всеми ее немощами, лишениями и печалями выпала бы на мою долю. И потом все равно наступила бы смерть, вызывая у тебя те же слезы, что ты проливаешь теперь. Скорее радуйся, дитя мое, что я избавлюсь от лишних страданий и что мне дано умереть с душою спокойной и доступной всем утешениям веры.
Сент Обер остановился, утомленный длинной речью; Эмилия пыталась выказать самообладание и успокоить его уверенностью, что слова его не были напрасны.
Отдохнув немного, он продолжал:
– Перейду теперь к предмету особенно близкому моему сердцу. Я говорил, что хочу взять с тебя торжественное обещание: дай мне его сейчас же, прежде чем я объясню тебе главное обстоятельство, к которому оно относится. Есть и другие, но о них, ради твоего спокойствия, тебе лучше и вовсе не знать. Обещай же мне, что ты свято исполнишь то, о чем я попрошу тебя.
Эмилия, пораженная торжественностью этих слов, осушила свои слезы и поклялась исполнить все, чего он ни пожелает; при этом она дрожала, сама не зная от чего.
– Я слишком хорошо знаю тебя, моя Эмилия, – продолжал Сент Обер, – чтобы опасаться, что ты не сдержишь своего обещания, а тем более обещания, данного с такой торжественностью. Так слушай же: в каморке, смежной с моей спальной, у нас в доме есть подвижная доска в полу; ты узнаешь ее по сучку
особенной формы на ее поверхности, это вторая доска от стены, против дверей. На расстоянии около сажени от этого конца, ближе к окну, ты увидишь поперек доски черту, как будто доска в этом месте была надставлена. Поднять ее можно следующим образом: придави ногой черту на доске, тогда конец ее опустится и она легко скользнет под другие доски. Под нею ты увидишь тайник.
Сент Обер остановился перевести дух; Эмилия слушала с напряженным вниманием.
– Понимаешь мои объяснения, дитя мое? – спросил он. Эмилия отвечала утвердительно, хотя от волнения едва могла говорить.
– Итак, когда ты вернешься домой…– продолжал он с тяжелым вздохом.
При этих словах ей живо представилась вся печаль такого возвращения, и она судорожно зарыдала. Сент Обер, сам взволнованный, несмотря на решимость крепиться, плакал вместе с нею.
Через нескольк минут он овладел собой.
– Дорогое дитя мое, утешься, – сказал он, – когда меня не станет, ты не будешь покинута: я оставляю тебя под охраной Провидения, никогда не покидавшего нас. Не огорчай меня своим чрезмерным отчаянием; лучше своим примером научи меня нести мое горе.
Но чем больше Эмилия старалась сдержать свое волнение, тем больше она находила это невозможным.
Сент Оберу становилось все труднее и труднее говорить, но он вернулся к делу:
– Итак, душа моя, когда ты приедешь домой, ступай сейчас же в эту комнатку. Под указанной мною доской ты найдешь сверток бумаг. Теперь слушай хорошенько, потому что обещание, данное тобою, преимущественно касается этого пункта. Эти бумаги ты должна сжечь, – торжественно приказываю тебе – сжечь их, не читая.
В эту минуту изумление Эмилии заслонило ее горе; она решилась спросить – зачем это необходимо?
Сент Обер отвечал, что если бы он считал нужным объяснять ей свои причины, то ему не для чего было бы брать с нее клятвы.
– Для тебя будет достаточно, дорогая моя, глубокого сознания всей важности исполнения моего завета. Под этой же доской, – продолжал он, – ты найдешь двести пистолей в шелковом кошельке. В сущности этот тайник был устроен в замке, чтобы прятать там все наличные деньги в те тревожные времена, когда шайки грабителей производили набеги на усадьбы, пользуясь смутами. Но я должен взять с тебя еще одно обещание, а именно, что ты никогда, каковы бы ни были твои обстоятельства в будущем – ни за что не продашь замок. Даже в случае твоего замужества ты должна включить такое условие в свой брачный контракт.
Далее больной подробно изложил ей свои теперешние обстоятельства, прибавив:
– Те двести червонцев, вместе с небольшой суммой, находящейся при мне в кошельке – вот все, что я могу оставить тебе по части наличных денег. Я уже говорил тебе о своих денежных делах с г.Мотвилем в Париже. Ах, дитя мое, я оставляю тебя бедной, но не в нищете, – добавил он после долгой паузы.
Эмилия была не в силах отвечать ему; она опустилась на колени у его постели, спрятала лицо в складки одеяла и проливала слезы.
После этого разговора Сент Обер, видимо, успокоился духом; но, утомленный долгим усилием, он впал в полудремоту. Эмилия продолжала сидеть у его изголовья и плакать. Вдруг раздался легкий стук в дверь.
Пришел Лавуазен доложить, что внизу дожидается духовник из соседнего монастыря, пришедший напутствовать Сент Обера. Эмилия не позволила тревожить задремавшего отца, но просила, чтобы монах не уходил из дома.
Когда Сент Обер очнулся от дремоты, мысли его были так спутаны, что он в первую минуту не узнал даже Эмилии. Но вот губы его зашевелились, он протянул дочери руку. Эмилия была поражена осунувшимся, мертвенным видом его лица. Через некоторое время к нему вернулась способность говорить, и Эмилия спросила его, не желает ли он повидаться с духовником. Он отвечал утвердительно, и когда явился монах, Эмилия вышла из комнаты. Около получаса они оставались с глазу на глаз. Когда Эмилию позвали, она застала Сент Обера еще более взволнованным, и с укором взглянула на монаха, но тот отвечал ей взглядом, полным кротости и печали. Сент Обер дрожащим голосом выразил желание, чтобы она и Лавуазен помолились с ним. Старик с дочерью явились на зов: оба, плача, преклонили колена рядом с Эмилией, в то время как аббат прочувствованным голосом читал отходную. Сент Обер лежал с ясным лицом и, казалось, горячо молился; слезы капали из-под его закрытых век, и рыдания Эмилии не раз прерывали службу.
После совершения соборования над умирающим монах удалился. Сент Обер знаком поманил к себе Лавуазена.
– Милый друг мой, – начал он дрожащим голосом, – наше знакомство, хотя и кратковременное, дало вам случай оказать мне много ласки и участия. Не сомневаюсь, что вы с такой же добротой отнесетесь к моей дочери, когда меня не станет; бедняжка будет нуждаться в участии. Поручаю ее вашим заботам на те немногие дни, что она проведет здесь. Больше мне нечего сказать – вам знакомы чувства отца, у вас у самого есть дети. Мне было бы еще тяжелее, если б я не питал к вам такого доверия.
Он умолк.
Лавуазен со слезами искренней жалости стал уверять больного, что он сделает все возможное, чтобы смягчить горе его дочери, и что, если угодно Сент Оберу, он готов проводить ее в Гасконь. Это предложение было так приятно Сент Оберу, что он не знал, как благодарить старика за его доброту. Последующая сцена между Сент Обером к Эмилией так сильно растрогала Лавуазена, что он вышел из комнаты, и молодая девушка опять осталась наедине с отцом, силы которого быстро падали; но сознание не покидало его и голос не изменял ему; по мере возможности он пользовался этими последними минутами, чтобы наставлять дочь, как ей жить. Никогда еще он не выражался так красноречиво и не высказывал таких верных мыслей, как в эти предсмертные минуты.
– Больше всего, дорогая Эмилия, остерегайся излишней чувствительности – это ошибка, в которую впадают многие нежные, романтические натуры. Кто одарен от природы тонкой чувствительностью, тот должен с раннего возраста учиться понимать, что это опасное качество; оно склонно преувеличивать и горе, и радость. А так как в течение нашей жизни горести случаются чаще, чем радостные события, и так как в нас восприимчивость к злу острее восприимчивости к добру, то мы делаемся жертвами наших чувств, если только не умеем мало-мальски владеть ими. Я знаю, ты скажешь мне (ты еще молода, моя Эмилия! ), что готова лучше пострадать лишний раз, чем отказаться от того утонченного счастья, какое испытываешь в иные минуты; но когда твоя душа будет измучена долгими
превратностями судьбы, ты будешь рада отдохнуть и поймешь свое заблуждение: ты убедишься, что призрак счастья сменился самой его сущностью. Ибо счастье рождается в состоянии покоя, а не в буре, счастье по свойству своему спокойно и монотонно и равно не может существовать как в сердце, живущем мелочами, так и в сердце мертвом для чувства. Ты видишь, милая, что хотя я предостерегаю тебя против опасностей преувеличенной
чувствительности, но я не стою за апатию. В твоем возрасте, я сказал бы, что это порок еще более ненавистный, чем заблуждения чувствительности, и повторяю это сейчас. Это порок, потому что ведет к положительному злу. Особенно в твои лета апатия, пожалуй, не лучше дурно управляемой чувствительности, которая тоже могла бы быть названа пороком. Но зло,
причиняемое первой, имеет еще более общее значение… однако я утомился и утомил тебя, моя Эмилия, – промолвил Сент Обер слабым голосом, – но, говоря о вещах столь важных для твоего счастья в будущем, я хотел быть понятым…
Эмилия уверила отца, что его советы драгоценны для нее, что она никогда их не забудет и всегда будет стараться следовать им. Сент Обер нежно и грустно улыбался, глядя на дочь.
– Повторяю, я не стал бы учить тебя быть бесчувственной, – сказал он. – Я хотел только предостеречь тебя против зла излишней чувствительности и указать, как ее избегнуть. Остерегайся, душа моя, умоляю тебя, самообольщения, погубившего покой стольких людей: остерегайся склонности рисоваться своей чувствительностью. Если ты поддашься этому тщеславию, твое счастье погублено. Не забывай также, что апатия далека от добродетели. Помни, что малейшее добро, истинно полезное дело – выше всякой отвлеченной сентиментальности. Чувствительность является позором, а не украшением, если она не ведет к добрым делам. Скряга, считающий себя достойным уважения потому только, что он обладает богатством, и таким образом ошибочно принимает средства для делания добра за действительное совершение доброго дела – достоин осуждения не более того человека, который одарен одной чувствительностью, а не активной добродетелью. Ты, вероятно, заметила, что иные люди до такой степени услаждаются такого рода приторной чувствительностью, что они отворачиваются от несчастных и, потому что на их страдания тяжело смотреть, не делают даже попыток облегчить их участь. Как презренно такое человеколюбие, которое довольствуется жалостью, когда нужна деятельная помощь!
Немного погодя Сент Обер заговорил о своей сестре г-же Шерон.
– Теперь я хочу потолковать об одном обстоятельстве, близко касающемся твоего благосостояния. Как тебе известно, мы с сестрой редко видались; но так как она единственная твоя близкая родственница, то я счел нужным поручить тебя ее попечению, как ты увидишь из моего завещания, – до твоего совершеннолетия, и впоследствии просить для тебя ее покровительства. Нельзя сказать, чтобы она была именно такая особа, которой я желал бы поручить мою Эмилию; но у меня не было выбора, да в сущности, мне кажется, что она добрая женщина. Считаю лишним просить тебя, душа моя, чтобы ты сама постаралась заслужить ее расположение – ты это сделаешь ради своего отца.
Эмилия отвечала обещанием по мере сил своих свято исполнить все, чего желает отец.
– Увы! – прибавила она, вздыхая, – скоро для меня будет единственной отрадой в жизни – исполнять твои заветы.
Сент Обер молча взглянул ей в глаза, точно желая сказать что-то; но сознание его затуманилось, глаза помутились. Этот взгляд потряс Эмилию до глубины души.
– Милый отец! – воскликнула она; но, сдержав свои чувства, она еще крепче сжала его руку и закрыла себе лицо платком; слезы ее были скрыты, но Сент Обер услыхал ее судорожные рыдания. Он очнулся.
– О, дитя мое, – произнес он слабым голосом, – ищи утешения там же, где обрел его твой отец! Я умираю спокойно; я твердо верю, что возвращаюсь в лоно Отца моего Небесного!.. Всегда неизменно веруй в Него, дорогая моя, и Он поддержит тебя в тяжелые минуты, как поддерживал меня.
Эмилия могла только слушать и плакать, но чрезвычайное спокойствие его духа, вера и надежда, сиявшие в его взоре, несколько смягчали ее отчаяние. Однако всякий раз, как сна взглядывала на его изможденное лицо, на которое смерть уже наложила свою печать, на его впалые глаза и отяжелевшие веки – она чувствовала удар в самое сердце, невыразимо мучительный.
Умирающий пожелал еще раз благословить ее.
– Где ты, моя радость, – спросил он, протягивая руки. – Эмилия отошла к окну, чтобы скрыть от него свою печаль. Она поняла, что зрение изменяет ему.
Благословив ее – казалось, то было последнее усилие отлетающей жизни, – он упал навзничь на подушки. Она поцеловала его в лоб, уже покрытый холодным потом. Сент Обер поднял глаза; в них мелькнула еще раз отеческая нежность, но сейчас же взор его потух и он больше уже не произнес ни слова.
Сент Обер протянул еще до трех часов пополудни к, постепенно погружаясь в бессознательное состояние, скончался тихо, без агонии.
Лавуазен с дочерью увели Эмилию из комнаты; оба старались, как умели, поддержать и успокоить ее, и старик, сидя возле, плакал вместе с нею.
ГЛАВА VIII
Над тем, по ком душа моя тоскует,
В вечерний час сидят воздушные виденья,
Склонив задумчивые лица.
Коллинз
Монах, исповедовавший Сент Обера, вернулся опять вечером, чтобы поговорить с Эмилией и кстати передал ей от имени аббатисы ласковое приглашение в монастырь. Эмилия отказалась принять приглашение, но горячо благодарила аббатису. Благочестивая беседа монаха несколько утишила ее отчаяние и она вознесла помыслы свои к Творцу, Властителю вселенной: перед вечностью Его все события нашего ничтожного, маленького мира – тлен и прах.
– Перед ликом Господа, – говорила Эмилия, – отец мой жив и поныне; Это несомненно, как и то, что он вчера существовал для меня. Он умер для меня, но для Бога и для себя он жив!
Добрый монах оставил ее несколько успокоившейся; перед тем как удалиться на отдых в свою каморку, она решилась, понадеявшись на свои силы, пойти взглянуть на тело отца. Молча, без слез она стояла у одра смерти; черты усопшего, ясные и спокойные, говорили о тех чувствах, которые посетили его в последние минуты его жизни. Одно мгновение ей стало страшно при виде мертвой неподвижности этого лица, еще недавно оживленного, и она отвернулась. Но этот ужас продолжался недолго – она опять стала смотреть на покойного со смешанным чувством сомнения и трепетного удивления: она как будто ждала, что вот-вот оживут эти горячо любимые черты. Она подняла его холодную руку, заговорила с ним, не спуская с него глаз, и вдруг разразилась припадком горьких слез.
Эмилия дала волю неутешным слезам, и когда вечерний мрак наполнил комнату и почти скрыл от ее глаз предмет ее печали, она все продолжала стоять над телом, пока наконец на нее не нашло какое-то оцепенение: она вдруг стала спокойна. Лавуазен постучался в дверь, убеждая девушку пойти в общую комнату. Перед уходом она поцеловала Сент Обера в губы, как это делала всегда, прощаясь с ним на сон грядущий, поцеловала еще раз. Сердце ее готово было разорваться: несколько горьких слез выкатилось из ее глаз; она устремила взор свой к небу, потом еще взглянула на отца и вышла вон.
Удалившись в свою комнату, она и тут не переставала думала об умершем родителе и, даже когда впала в тревожный полусон, страшные видения, создания ее недремлющей фантазии, продолжали терзать ее. Ей чудилось, что к ней подходит отец с кроткой, печальной улыбкой на устах; он указывает на небо и губы его шевелятся… но вместо слов она слышит прелестную музыку, несущуюся издали, и видит, что лицо его озаряется неземным блаженством. Мелодия звучит все громче и… она просыпается. Видение исчезло, но музыка продолжала раздаваться в ее ушах, как ангельское пение. Недоумевая, она приподнялась на колени и стала напряженно слушать. Это была настоящая музыка, а не иллюзия ее воображения. После торжественного гимна зазвучала сладкая, грустная мелодия и вдруг замерла каденцой, как будто возносившей душу до горних обителей. Эмилия тотчас же вспомнила музыку прошлого вечера, странный случай, рассказанный Лавуазеном, и вообще весь разговор о состоянии душ в загробной жизни.
Все, что Сент Обер сказал тогда об этом предмете, вспомнилось ей теперь и легло камнем на ее сердце. Какая странная перемена случилась в несколько часов! Тогда он мог только предполагать, догадываться о том, что ожидает нас за гробом, а теперь он уже познал истину, сам переселился в иную жизнь. Ее охватил какой-то суеверный трепет; слезы ее иссякли, она встала и подошла к окну. Кругом стояла тьма; но, обратив взор от густой чащи леса, волнистые очертания которого обрисовывались на небе, Эмилия увидала налево луну, опускавшуюся за лес. Ей вспомнился рассказ старика; а так как по временам опять начинала играть музыка, то Эмилия открыла окно, желая насладиться мелодией, постепенно удалявшейся, и стараясь угадать, откуда она исходит. В потемках она не могла различать предметы на лужайке внизу; а звуки становились все слабее и слабее, наконец замерли совершенно. Вскоре лунный свет затрепетал над кудрявыми макушками деревьев, и через несколько минут луна скрылась за лесом. Вся застыв от страха и печали, Эмилия легла в постель и наконец-то на время забыла свое горе в крепком сне.
На другое утро к ней пришла монахиня из соседнего монастыря с предложением услуг и вторичным приглашением от настоятельницы. Эмилия не хотела расстаться с домом, пока в нем лежит прах ее отца; но, как ни тяжело ей было такое усилие в теперешнем состоянии ее духа, она согласилась посетить настоятельницу в тот же вечер и поблагодарить ее за участие.
За час до заката солнца Лавуазен проводил ее через лес к монастырю, лежавшему у небольшого залива Средиземного моря, увенчанного лесистыми уступами, и будь Эмилия не так несчастна, она пришла бы в восторг от прелестного вида на море, открывавшегося с покатого берега, напротив монастырского здания, и от красивого побережья, покрытого лесом и пастбищами. Но все мысли ее были поглощены в эту минуту ее горем; природа казалась ей бесцветной и непривлекательной. Как раз, когда она входила в старинные монастырские ворота, зазвонили к вечерне, и ей представилось, что это погребальный звон по ее усопшем отце: мелкие случайности обыденной жизни способны еще более растравлять душу, истомленную отчаянием. Эмилия с трудом поборола овладевавшую ею дурноту; ее ввели к настоятельнице; та встретила ее с материнской нежностью и такой милой заботливостью, что молодая девушка была тронута до слез; слова благодарности замирали на ее губах. Аббатиса усадила Эмилию и сама села рядом. Она все время держала ее за руку и молча глядела на нее, пока Эмилия осушала слезы и делала над собой усилие, чтобы заговорить.
– Не падай духом, дочь моя, – молвила аббатиса ласковым голосом, – и не утруждай себя разговорами. Я наперед знаю все, что ты мне скажешь. Душа твоя должна успокоиться. Сейчас мы пойдем на молитву, – не желаешь ли присутствовать на нашем вечернем богослужении? Отрадно, дитя мое, в минуты горести обращаться к Отцу небесному: Он видит, жалеет нас и карает любя.
Слезы Эмилии потекли снова, но к ним примешалось много отрадного. Аббатиса дала ей выплакаться вволю и смотрела на нее кротким взором ангела-хранителя. Когда девушка немного успокоилась, аббатиса спросила ее, почему она не соглашается оставить хижину Лавуазена? Выслушав ее объяснение, настоятельница не перечила ей ни единым словом, напротив похвалила ее за любовь к отцу и выразила надежду, что она потом погостит несколько дней в монастыре перед возвращением домой.
– Дай себе срок опомниться от первого удара, дочь моя, иначе тебе трудно будет вынести второй. Не скрою от тебя, что сердце твое будет сильно страдать, когда ты вернешься в дом, где протекла твоя молодая, счастливая жизнь. У нас здесь ты будешь пользоваться всем, что может дать тишина, сердечное сочувствие и религия для успокоения твоего духа. Однако, полно, – прибавила она, заметив, что глаза Эмилии опять наполняются слезами, – пора идти в капеллу.
Эмилия последовала за ней в залу, где собрались монахини; настоятельница представила им Эмилию, сказав:
– Эту девицу я глубоко уважаю, будьте ей сестрами.
Пошли в капеллу; торжественное, благоговейное богослужение возвысило дух Эмилии и принесло ей утешение веры и покорности.
Настали сумерки, а добрая игуменья все не хотела отпустить ее; выйдя из монастыря, Эмилия чувствовала, что ей стало легче на сердце; Лавуазен опять провожал ее по лесу, мрачная тишина которого гармонировала с ее меланхолическим настроением. В задумчивом молчании шла она по узкой лесной тропинке; вдруг ee проводник остановился, стал озираться и повернул с тропинки в высокую траву, говоря, что он сбился с дороги.
Вслед за этим он пошел скорым шагом; Эмилия, едва поспевавшая за ним по неровной, кочковатой местности, крикнула ему, чтобы он погодил.
– Если вы не уверены насчет дороги, – сказала ему Эмилия, – то не лучше ли осведомиться вон в том замке, что виднеется между деревьев?
– Нет, – отвечал Лавуазен, – этого не нужно. Когда мы дойдем вон до того ручья, что сквозит вдали меж стволов, мы будем дома. Не знаю, как это меня угораздило заблудиться! Впрочем, я редко когда забираюсь сюда после солнечного заката.
– Правда, здесь пустынно, – заметила Эмилия, – но ведь у вас не водится бандитов?
– Нет, барышня, Бог хранит – бандитов не водится.
– Чего же вы боитесь, друг мой? Разве вы суеверны?
– Не суеверен я, а только, сказать по правде, никто у нас не любит проходить мимо замка в сумерки.
– Кто же там живет, что все его трусят?
– Да как вам сказать, барышня, замок-то почти необитаем; наш помещик, маркиз, владелец также и этих прекрасных лесов, уже умер. Он не бывал в замке много лет, а его слуги, которым поручено стеречь здание, живут в домике рядом.
Эмилия поняла, что это тот самый замок, на который раньше указывал Лавуазен, как на собственность маркиза Вильруа, причем ее отец так непонятно взволновался.
– Ах! теперь там запустение, – продолжал Лавуазен, – а помнится, какое это было великолепное поместье!
Эмилия спросила о причине такой грустной перемены; но старик молчал. Эмилия, сильно заинтригованная боязнью старика, а больше всего воспоминанием о волнении, обнаруженном ее отцом, повторила вопрос и прибавила:
– Ну, если вы не боитесь обитателей замка и не суеверны, то скажите, почему же вы не решаетесь проходить мимо замка в потемках?
– Пожалуй, что я и суеверен немножко, барышня, и если б вы узнали то, что я знаю, с вами было бы то же самое. Странные здесь творились дела! Видно, ваш покойный батюшка знавал маркиза?
– Ради Бога расскажите мне, что там происходило? – попросила Эмилия.
– Полно, барышня, лучше и не допытывайтесь. Не мне разоблачать домашние тайны нашего господина!
Эмилия, удивленная словами и тоном старика, не стала более расспрашивать – ее мысли были заняты другим, более близким предметом, скорбью об отце; кстати ей пришла на ум музыка, слышанная ею прошлой ночью; она рассказала об этом Лавуазену.
– Не вы одни слыхали ее, барышня, – и я слыхал тоже, но со мной это случалось так часто, что я даже не удивлялся.
– Вы, кажется, уверены, что эта музыка имеет отношение к замку? – вдруг обратилась к нему Эмилия, – и это внушает вам суеверные страхи?
– Может быть и так, барышня; но есть еще и другие обстоятельства, касающиеся замка: они-то и вызывают у меня грустные воспоминания.
Он тяжко вздохнул. Эмилия из деликатности подавила свое любопытство и не стала расспрашивать далее.
По возвращении домой ее опять с новой силой охватило отчаяние: казалось, она освободилась от его тяжелого гнета только на то время, пока находилась вдали от хижины, где лежал ее отец. Тотчас же отправилась она в комнату, где находились дорогие останки, и отдалась безутешному горю.








