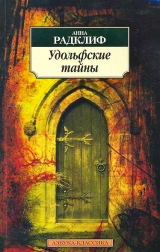
Текст книги "Удольфские тайны"
Автор книги: Анна Рэдклиф
Жанры:
Триллеры
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 54 (всего у книги 56 страниц)
ГЛАВА LIII
Сладостно дыханье весенней бризы
И сладок мед, который пчелка собирает, —
И сладки тающие звуки музыки, но слаще
Во сто крат скромный голос благодарности.
Грэй
На другой день приезд подруги развлек Эмилию, начинавшую уже не на шутку падать духом, и дом в «Долине», опять ожил, огласившись светскими разговорами и увидав в своих стенах изящное общество. Нездоровье и испытанный испуг отчасти лишили Бланш прежней резвости, но добродушие ее и ласковость остались неизменными; она немного побледнела после пережитых ужасов, однако была не менее очаровательна. После несчастного приключения в Пиренеях граф жаждал поскорее вернуться домой и, прогости с неделю в «Долине» собрался в Лангедок вместе с Эмилией, которая поручила надзор за своим домом старой Терезе. Впрочем накануне отъезда Эмилии старая служанка опять приносила ей кольцо Валанкура и со слезами умоляла свою барышню взять подарок, так как Валанкур точно в воду канул: она не видала его и ничего не слыхала о нем с того самого вечера, как он принес ей это кольцо. При этих словах на лице ее отразилась тревога, которой она не смела высказать. Но Эмилия, стараясь отогнать свое собственное беспокойство, думала, что он, вероятно, уехал в имение брата; она опять наотрез отказалась принять кольцо и велела Терезе сохранить его у себя до следующего свидания с Валанкуром; старуха, скрепя сердце, обещала.
На другой день граф де Вильфор с Эмилией и Бланш выехали из «Долины» и в тот же вечер прибыли в замок Ле-Блан, где их встретили с радостью и поздравлениями графиня, Анри и мосье Дюпон; присутствие последнего было сюрпризом для Эмилии и она с беспокойством заметила, что граф по-прежнему поощряет ухаживание своего друга; на лице Дюпона можно было ясно прочесть, что его увлечение нисколько не ослабело под влиянием разлуки. Эмилия очень смутилась, когда во второй же вечер после их приезда граф отозвал ее от Бланш, с которой она гуляла, и возобновил разговор о надеждах Дюпона. Кротость, с какой Эмилия выслушивала его речи, ввела его в заблуждение насчет ее чувств; он вообразил себе, что ее привязанность к Валанкуру уже окончательно побеждена и что она готова отнестись благосклонно к сватовству мосье Дюпона. И когда она вслед затем стала убеждать его, что он ошибается, то граф, побуждаемый горячим желанием устроить счастье двух лиц, которых он так искренно уважал, пытался деликатно пожурить ее за то, что она настаивает на своем неудачном увлечении и отравляет себе лучшие годы жизни.
Заметив, что она молчит я что на лице ее написана глубокая скорбь, граф, наконец, проговорил:
– Пока я больше ничего не скажу, но продолжаю верить, милая мадемуазель Сент Обер, что вы в конце концов не отвергнете человека, столь достойного уважения, как шевалье Дюпон.
Он избавил ее от труда отвечать ему, тотчас же удалившись; а Эмилия продолжала гулять, в душе несколько досадуя на графа за то, что он так упорно отстаивает искательство, которое она решительно отвергла. Погруженная в печальные думы, пробужденная этим разговором, она незаметно подошла к опушке леса, окружавшего монастырь св.Клары, и вдруг заметив, как далеко зашла, решила продолжить свою прогулку еще немного дальше и зайти в монастырь проведать аббатису и некоторых из своих подруг-монахинь.
Хотя уже настал вечер, но она приняла приглашение войти от монаха-привратника, отпиравшего ей калитку, и, желая увидеть кого-нибудь из своих прежних приятельниц, направилась к монастырской приемной. Проходя по лужайке, полого спускавшейся от фасада монастыря к морю, она была поражена картиной покоя, представившейся ее глазам: несколько монахов сидели перед кельями, тянувшимися по опушке леса, и в тихий вечерний час размышляли о благочестивых предметах; но внимание их по временам отвлекалось созерцанием природы, сменившей теперь свои яркие солнечные краски на более тусклый вечерний колорит. Перед зданием общежития стоял старый каштан и своими широкими ветвями заслонял великолепие картины, которая могла бы вызвать у монахов желание вернуться к светским наслаждениям; но все же из-под темной развесистой листвы сверкала вдали обширная площадь океана и мелькавшие мимо паруса, тогда как справа и слева тянулись густые леса вдоль извилистых берегов. Некоторая часть картины оставалась доступной созерцанию монахов, как бы нарочно, чтобы оставить заточникам напоминание об опасностях и превратностях светской жизни и утешить их, отказавшихся от наслаждений света, по крайней мере уверенностью, что они избавились от его зол. Эмилия задумчиво шла вперед, размышляя, как много страданий она избегла бы, если бы также постриглась в орден и осталась жить в монастыре после смерти отца; в эту минуту зазвонили к вечерне и монахи тихо побрели к часовне; Эмилия вошла в большую залу, где царила, как ей показалось, необычная тишина. Пустой оказалась и приемная, смежная с залой; между тем вечерний колокол продолжал благовестить; Эмилия подумала, что монахини, вероятно, пошли в часовню, и присела отдохнуть, немного, перед тем как вернуться в замок, куда ей хотелось попасть еще засветло.
Не прошло нескольких минут, как в приемную торопливо вошла монахиня и, осведомившись, нет ли здесь настоятельницы, хотела удалиться, не узнав Эмилии; но Эмилия назвала себя, и монахиня сообщила ей, что сейчас начнется месса о здравии сестры Агнесы, которая сильно хворала в последнее время, а теперь находится чуть не при последнем издыхании. О страданиях несчастной Агнесы сестра сообщила самые печальные подробности: на нее не раз находили припадки буйного помешательства; теперь это прошло, зато она впала в состояние мрачного уныния, из которого не могли вызвать ее ни ее молитвы, сообща со всей общиной, ни увещания ее духовника; ничто не в силах облегчить ее душу хотя бы мгновенным проблеском утешения.
Эмилия выслушала этот рассказ с сердечным сокрушением и, припомнив безумные выходки и дикие восклицания Агнесы, а также историю ее, рассказанную ей сестрой Франциской, почувствовала глубокую жалость к несчастной сестре. Так как становилось уже поздно, то Эмилия не сочла возможным идти к ней сейчас, да и не хотела примкнуть к толпе монахинь; поручив монахине передать привет своим старым друзьям, она верхней дорогой по скалам вернулась в замок, размышляя о только что слышанном; думы эти так удручали ее, что она, наконец, насильно отвлекла свои помысли к менее волнующим предметам.
Дул сильный ветер; подходя к замку, Эмилия часто останавливалась, прислушиваясь к унылым завываниям его над волнами, бушевавшими внизу, и в окрестных лесах; сидя на одном из утесов, уже по близости от замка, и устремив взор на обширное пространство вод, смутно видневшихся в полумраке, она сочинила следующее обращение.
К БУЙНЫМ ВЕТРАМ
Невидимо, по необъятному своду небес, вы держите свой путь,
Неведомо откуда взялись и куда несетесь;
Таинственные силы! то слышу я ваш тихий шепот,
То громкий вой вдруг поразит мой слух,
Как будто говоря: здесь близок Бог!
Люблю я слушать ночью ваши голоса
Средь грозной бури, что проносится над морем,
Сливаясь с страшным ревом волн.
И вот среди затишье звук вдруг нежный раздается.
То песня духов – скорбный плач;
Но вслед затем опять невидимые силы восстают,
По воздуху торжественно несутся.
Стонут они в снастях корабля, пугая юнгов,
И песню тихую мгновенно заглушают.
Молю вас, силы страшные,
Не приносите вы на своих крыльях стонов.
Не приносите треска судна на далеких волнах
И криков гибнущего экипажа!…
Не подымайте вы, молю вас, силы неба!
Войны стихий и рева диких волн!
ГЛАВА LIV
Дела неслыханные порождают
И страх неслыханный: больная совесть
Глухим подушкам поверяет тайну,
Священник ей нужней врача.
Макбет
На другой день вечером, случайно взглянув на монастырскую колокольню, подымающуюся из-за леса, Эмилия вспомнила про больную монахиню, положение которой возбуждало в ней такую жалость; желая узнать, как ее здоровье, и увидеть кое-кого из прежних друзей, она с Бланш, вместо прогулки, решили зайти в монастырь. У монастырских ворот стоял экипаж и, судя по взмыленным коням, можно было догадаться, что он только что подъехал. Непривычная тишина царила во дворах и в здании общежития, по которому должны были пройти Эмилия и Бланш, направляясь в большую залу; по пути они встретились с монахиней, и та на расспросы Эмилии отвечала, что сестра Агнеса еще жива и в памяти, но что она очень слаба и, вероятно, не переживет сегодняшней ночи. В приемной девушки застали нескольких пансионерок монастыря; они очень обрадовались Эмилии и поспешили рассказать ей разные мелкие события, случившиеся в монастыре после ее отъезда и интересовавшие ее, потому что касались лиц, к которым она чувствовала расположение. Пока они болтали, в приемную вошла аббатиса и радостно приветствовала Эмилию; но вид у нее был непривычно торжественный и на лице отражалась печаль.
– Наша община, – сказала она поздоровавшись, – погружена в скорбь, – одна из сестер готовится отойти в вечность. Вы, может быть, слышали, что сестра Агнеса умирает…
Эмилия выразила свое искреннее соболезнование.
– В настоящем случае смерть преподает нам великое, страшное назидание, – продолжала аббатиса, – воспользуемся им себе во спасение, пусть оно научит нас готовиться к великому переходу, неизбежному для всех! Вы молоды и имеете возможность обеспечить себе лучшее, самое драгоценное из спокойствий, – спокойствие совести. Храните его в юности своей, чтобы оно доставило вам утеху в старости, ибо тщетны, увы! и несовершенны все добрые дела наших позднейших лет, если только в молодости мы творили зло!
Эмилия могла бы возразить, что добрые дела никогда не тщетны, но постеснялась прерывать аббатису и молчала.
– Позднейшая жизнь Агнесы, продолжала аббатиса, была примерной. Ах, если бы она могла загладить свои прежние грехи и заблуждения! В настоящую минуту она тяжко страдает; будем верить, что эти страдания доставят ей спасение в будущей жизни. Я оставила ее с духовником и одним господином, которого она давно желала видеть; он только что прибыл из Парижа. Надеюсь, им сообща удастся доставить ее душе успокоение; она давно в нем нуждается.
Эмилия от всей души присоединилась к этому пожеланию.
– Во время своей болезни Агнеса несколько раз называла ваше имя, – продолжала игуменья; быть может, ей было бы утешительно повидаться с вами. Когда удалятся ее посетители, мы пойдем к ней, если вы только не боитесь тяжелой сцены. Но, право, к подобным сценам, хотя бы самым раздирательным, нам следует привыкать: они душе полезны и приготовят нас к тому, что нам самим, может быть, придется выстрадать.
Эмилия задумалась и опечалилась; разговор этот пробудил в ней воспоминания о предсмертных минутах ее возлюбленного отца, и ей захотелось поплакать над его могилой. Пришли ей на память разные обстоятельства, сопровождавшие его последние минуты: его волнение, когда он убедился, что находится по-соседству от замка Ле-Блан, его желание быть похороненным в определенном месте в монастырской церкви, и данный ей торжественный завет уничтожить его бумаги, не читая. Вспомнились ей также таинственные, страшные слова, нечаянно попавшиеся ей на глаза в рукописях, и хотя они теперь, как и всегда, возбуждали в ней мучительное любопытство насчет их значения и мотивов, руководивших волею отца, но для нее было великим утешением сознание, что она свято исполнила его последнюю волю.
После этого аббатиса умолкла; она, видимо, была слишком взволнована, чтобы разговаривать; ее собеседницы молчали по той же причине. Это задумчивое настроение женщин было прервано приходом незнакомца, мосье Боннака, вышедшего из кельи сестры Агнесы. Он был сильно расстроен, но Эмилии показалось, что она подметила на лице его больше страха, чем горя. Отведя аббатису в сторону, он начал что-то рассказывать ей; она слушала его с напряженным вниманием. Но вот он кончил, молча поклонился остальным присутствующим и вышел. Тогда игуменья предложила Эмилии пойти к сестре Агнесе; она согласилась, скрепя сердце, а Бланш осталась внизу с пансионерками.
У дверей кельи они натолкнулись на духовника, и при одном взгляде на него Эмилия убедилась, что это тот же самый монах, который напутствовал ее умирающего отца; но он прошел мимо, не заметив ее, и они вошли в келью, где на постели лежала сестра Агнеса; возле нее сидела монахиня. Лицо больной так сильно изменилось, что Эмилия не узнала бы ее, если бы заранее не приготовилась ее увидеть: лицо умирающей было страшно, на нем застыло выражение мрачного ужаса; тусклые, провалившиеся глаза были устремлены на распятие, лежавшее у нее на груди; она так глубоко ушла в свои мысли, что не заметила, как подошли аббатиса с Эмилией. Но вот, подняв свой безжизненный взор, она с ужасом устремила его на Эмилию и вдруг взвизгнула:
– О, какое видение!… зачем оно посетило меня в предсмертный час!
Испуганная Эмилия отшатнулась от нее и взглянула на игуменью, как бы прося объяснения; но та знаком показала ей, чтобы она не смущалась. Затем спокойным тоном обратилась к Агнесе:
– Дочь моя, я привела к вам мадемуазель Сент Обер; я знала, что вам приятно будет повидаться с нею.
Агнеса не отвечала, и не отрывая безумных глаз от Эмилии, воскликнула:
– Это она!… На лице ее то же очрование, которое сгубило меня! Чего ты хочешь от меня? Зачем пришла меня мучить? Ты хочешь, возмездия! Что же, скоро ты получишь его – оно уже твое! Сколько лет прошло с тех пор, как я видела тебя? Мое преступление совершилось лишь вчера!… Я уже состарилась под бременем его, а ты все еще молода и цветуща, как в то время, когда заставила меня совершить то страшное дело! О, как бы я хотела забыть его!… Но какая польза желать: дело сделано, его уже не воротишь!…
Эмилия, потрясенная этой дикой выходкой, хотела убежать из комнаты; но аббатиса, взяв ее за руку, старалась успокоить и просила остаться еще несколько минут, пока Агнеса очнется, и принялась уговаривать больную. Но та не обращала на аббатису никакого внимания и, устремив сумасшедшие глаза на Эмилию, опять заговорила:
– Что значит целые годы молитвы и раскаяния? Они не в силах смыть скверны убийства!… Да, убийства… Где он?… где он?… Смотрите… он там… он идет сюда! Зачем и ты пришел терзать меня? – кричала Агнеса, вперив взор в пространство. – Разве я и так недостаточно наказана? О, не гляди так сурово!… Ха! вот опять она!… Зачем ты глядишь на меня с такой жалостью… хочешь покарать меня? Улыбнись… Кто это стоит?…
Агнеса откинулась назад, как безжизненный труп, а Эмилия едва держалась на ногах и оперлась о кровать; аббатиса с сиделкой вливали Агнесе в рот обычные успокоительные лекарства.
– Постойте, – остановила аббатиса Эмилию, когда она хотела заговорить, – бред проходит, теперь она скоро придет в себя. Давно этого не случалось с ней, дочь моя? – спросила она сиделку.
– Уже несколько недель не бывало ничего подобного, – отвечала монахиня, но она очень сильно взволновалась приездом этого господина, которого сама гак желала видеть.
– Да, – заметила аббатиса, – вероятно, это и вызвало припадок бреда. Когда она оправится, мы уйдем и дадим ей отдых.
Эмилия охотно согласилась; правда, она могла оказать теперь мало помощи, однако ей не хотелось уходить отсюда, пока помощь еще нужна.
Очнувшись, Агнеса опять во все глаза уставилась на Эмилию; но дикое выражение ее взора уже пропало, сменившись мрачной печалью. Прошло несколько минут, прежде чем ока оправилась настолько, чтобы заговорить, потом она произнесла слабым голосом:
– Сходство поразительное! без сомнения, это не игра фантазии! Скажите мне, умоляю вас, хотя фамилия ваша Сент Обер – вы не дочь маркизы?
– Какой маркизы? – отозвалась Эмилия в крайнем удивлении.
Ей казалось, судя по спокойствию тона Агнесы, что ее умственные способности уже пришли в нормальное состояние. Аббатиса бросила на нее многозначительный взгляд, но она все-таки повторила своей вопрос.
– Какая маркиза? – воскликнула Агнеса, я знаю только одну – маркизу де Вильруа.
Эмилия вспомнила, в какое волнение пришел ее отец при одном имени этой маркизы, вспомнила его требование, чтобы его похоронили возле фамильного мавзолея де Вильруа. Слова Агнесы возбудили в ней горячий интерес: она стала умолять больную объяснить ей, что значит этот вопрос. Аббатисе хотелось бы увести Эмилию из кельи, но та, сильно заинтересованная, просила остаться еще немного.
– Принеси, мне вон ту шкатулку, сестра, – сказала Агнеса. Я покажу вам маркизу; стоит вам только взглянуть в это зеркало и вы сами убедитесь, что вы дочь ее: такого разительного сходства ие бывает иначе, как между близкими родственниками.
Монахиня принесла требуемую шкатулку; Агнеса дала ей наставление, как отпереть ее, и затем вынула оттуда миниатюру, представлявшую точное сходство с той, которую Эмилия нашла в бумагах отца. Агнеса взяла портрет в руки и несколько минут молча, внимательно рассматривала его; затем с выражением глубокого отчаяния на лице, устремила глаза свои к небу и отдалась горячей внутренней молитве. Окончив молитву, она передала миниатюру Эмилии.
– Храните этот портрет, – сказала она, я вам завещаю его, я убеждена, что вы вправе владеть им. Часто я наблюдала ваше сходство с нею, но никогда еще оно не поражало меня до такой степени, как сегодня!… Постойте, сестрица, не убирайте шкатулку – там есть еще один портрет, который мне хотелось бы показать.
Эмилия вся трепетала от страха и ожидания, а игуменья опять пробовала увести ее из кельи.
– Агнеса все еще не в своем уме, – говорила она, – заметьте, она опять бредит. В подобном настроении духа она не стесняется обвинять самое себя в самых ужасных преступлениях.
Эмилии, однако, казалось, что в непоследовательных выходках Агнесы кроется не сумасшествие, а нечто другое: ее слова о маркизе и этот портрет до такой степени возбуждали ее любопытство и участие, что она решилась, по возможности, разъяснить это дело до конца.
Монахиня опять подала шкатулку; Агнеса показала Эмилии потайной ящичек и вынула оттуда другую миниатюру.
– Вот, пусть этот портрет послужит в назидание вашему тщеславию, промолвила больная; смотрите на него хорошенько и старайтесь отыскать сходство между тем, какой я была прежде, и тем, какова я теперь…
Эмилия нетерпеливо схватила миниатюру, и при первом же взгляде ей бросилось в глаза поразительное сходство ее с портретом синьоры Лаурентини, который она когда-то видела в Удольфском замке, – портретом дамы, исчезнувшей столь таинственным образом и в убийстве которой подозревали Монтони.
– Что вы так сурово глядите на меня? – спросила вдруг Агнеса, не поняв причины волнения Эмилии.
– Я где-то уже раньше видела это самое лицо, – проговорила наконец Эмилия, – неужели в самом деле это вы?
– Вопрос этот понятен, – отвечала монахиня, – но когда-то портрет считался поразительно схожим. Глядите на меня хорошенько и полюбуйтесь, что сделали из меня страдания и преступление! Тогда я была невинна; порочные страсти моей натуры еще дремали. Сестрица! – прибавила она торжественным тоном и простирая свою влажную, холодную руку к Эмилии, которая вздрогнула от этого прикосновения. – Сестрица! остерегайтесь в начале жизни давать волю страстям, самое важное в начале! Впоследствии их бурный поток уже невозможно остановить; они заведут нас невесть куда, быть может, к преступлениям, которых потом не замолить многолетними молитвами и покаянием!… Так ужасна может быть сила одной единственной страсти, что она преодолевает все прочие и преграждает доступ в сердце всем другим чувствам. Овладев нами, как нечистая сила, эта страсть ведет нас к дьявольским поступкам, она делает нас нечувствительными к состраданию и к упрекам совести. И вот, когда цель ее достигнута, она, как дьявол, бросает нас на растерзание тем же чувствам, которые она сначала отгоняла, на растерзание сожалениям и угрызениям совести. Тогда мы вдруг пробуждаемся, как от глубокого сна, и видим вокруг себя новый мир; мы озираемся в удивлении и ужасе, но злое дело уже совершено и призраки совести не хотят исчезнуть! Что значит богатство… знатность… даже телесное здоровье сравнительно с благом чистой совести, этого здоровья душевного? Что значат все страдания бедности, разочарования, отчаяния сравнительно с муками совести! О, как давно незнакома мне эта роскошь – душевный мир! Я думала, что уже испытала все самые страшные мучения человеческие в любви, ревности, отчаянии, но эти муки были еще легкими в сравнении с теми, что я вынесла впоследствии. Я испробовала также и то, что называется сладостью мщения, но это чувство было мимолетным: оно умерло вместе с предметом, возбудившим его. Не забывайте, сестрица, что страсти – это семена пороков так же, как и семена добродетелей; из них все может вырасти, смотря по тому, как питать их. Горе тем, кто не научился владеть своими страстями!
– Горе им, горе! – подтвердила аббатиса, они не ведают основ нашей святой религии!
Эмилия слушала речи Агнесы с безмолвным трепетом; она продолжала внимательно разглядывать миниатюру и убедилась в ее большом сходстве с портретом в Удольфском замке.
– Это лицо очень знакомо мне, с– казала она, желая навести монахиню на какое-нибудь объяснение, но боясь неожиданно открыть ей, что она знакома с Удольфом.
– Вы ошибаетесь, – возразила Агнеса, – не может быть, чтобы вы видели этот портрет когда-нибудь раньше.
– Но я видела другой в высшей степени похожий на этот!
– Немыслимо! – стояла на своем Агнеса, которую отныне мы будем звать синьорой Лаурентини.
– Это было в Удольфском замке… – продолжала Эмилия, пристально взглянув не нее.
– Удольфо! – воскликнула Лаурентини. – Удольфо в Италии?
– Именно, – подтвердила Эмилия.
– Итак, вы знаете меня, – молвила Лаурентини, – и вы дочь маркизы.
Эмилия была ошеломлена этим неожиданным заключением.
– Я дочь покойного дворянина Сент Обера, а дама, о которой вы говорите, чужая для меня.
– Это вы так думаете. – возразила Лаурентини.
Эмилия спросила, – какие могут быть причины думать иначе?
– Семейное сходство ваше с нею, – сказала монахиня. – Маркиза, насколько известно, любила одного гасконского дворянина в ту пору, как вышла замуж за маркиза де Вильруа, повинуясь воле своего отца. Несчастная, злополучная женщина!
Эмилия припомнила необыкновенное волнение Сент Обера при одном имени маркизы, и если бы не твердая уверенность в непогрешимости отца, то она в эту минуту испытала бы не одно удивление, а другие, более тяжелые чувства. Но она ни на мгновение не могла допустить того, на что намекали слова больной; однако все-таки они сильно заинтересовали ее, и она попросила дальнейшего объяснения.
– Ах, не заставляйте меня говорить об этом, – сказала монахиня, – это предмет ужасный! Как хотела бы я, чтобы все это изгладилось из моей памяти! – Она тяжко вздохнула и после минутной паузы спросила Эмилию, каким образом она узнала ее имя.
– Да по вашему портрету в Удольфском замке, с которым миниатюра поразительно похожа, – отвечала Эмилия.
– Так, значит, вы сами бывали в Удольфо? – воскликнула монахиня в сильном волнении. – Увы! какие разнообразные картины возникают в моем воображении при одном этом имени: сцены счастья, страдания… ужаса!
В эту минуту Эмилии пришло на память леденящее кровь зрелище, которое она видела в одном из покоев замка; она задрожала, не отрывая глаз от монахини, и вспомнила ее недавние слова, что долгие годы молитвы и покаяния не смоют скверны порока… Теперь уже она приписала эти слова другой причине, а не болезненному бреду. Ею овладел ужас, почти лишавший ее сознания, она была уверена, что видит перед собой убийцу!… Все, что она знала о поступках Лаурентини, как будто подтверждало это предположение. Но все же Эмилия терялась в лабиринте недоумений и, не решаясь прямо задать вопрос, который повел бы к разъяснению истины, могла только намекнуть на него в несвязных фразах.
– Ваше неожиданное исчезновение из Удольфо…
Лаурентини тяжко застонала.
– Слухи, поднявшиеся вслед затем… продолжала Эмилия, – комната в западном флигеле… траурный занавес… страшный предмет, скрывающийся за ним…
Монахиня пронзительно вскрикнула:
– Как! опять это видение! – произнесла она, пытаясь приподняться, между тем как безумные глаза ее обводили комнату… Выходцы из гроба! И кровь, кровь… кровь!… Но крови не было… ты не можешь этого утверждать… Не улыбайся, не улыбайся так жалко!…
С Лаурентини сделались судороги, в то время, как она произносила эти слова. Эмилия, не имея сил долее выносить ужаса этой сцены, выбежала из кельи и послала нескольких монахинь к аббатисе просить помощи.
Бланш и пансионерки, находившиеся в приемной, обступили Эмилию и, встревоженные ее взволнованным лицом, засыпали ее вопросами, на которые она уклонилась отвечать, сказав, что сестра Агнеса умирает. Это и сочли причиной ее ужаса; женщины старались оживить Эмилию, дав ей выпить успокоительного питья. Но душа ее была так потрясена страшными подозрениями и сомнениями, на основании некоторых слов монахини, что она не могла ни с кем говорить и ушла бы тотчас же из монастыря, но ей хотелось узнать, переживет ли Лаурентини свой болезненный припадок. По прошествии некоторого времени ее уведомили, что судороги прошли и что синьора Лаурентини как будто оживает. Эмилия с Бланш собрались уходить, но тут вышла аббатиса и, отозвав Эмилию в сторону, заявила, что имеет сообщить ей нечто очень важное, но так как теперь уже поздно, то она не будет задерживать ее, но просит Эмилию зайти к ней завтра.
Эмилия обещала посетить ее и, простившись, направилась вместе с Бланш к их замку; начало уже смеркаться; окружающая тишина, полумрак в лесу возбуждали в Бланш тревогу, хотя их провожал слуга. Эмилия же была слишком потрясена недавней сценой, чтобы трусить потемок в густой лесной чаще; этот полумрак только способствовал ее глубокой задумчивости, из которой она впрочем скоро была выведена Бланш; та указала подруге на какие-то две фигуры, идущие медленным шагом по темной тропинке впереди. Невозможно было избежать их иначе, как углубившись в уединенную лесную чащу, куда незнакомцы легко могли последовать за ними. Но страх их миновал, когда Эмилия узнала голос мосье Дюпона и убедилась, что путник его – тот самый господин, которого она только что видела в монастыре. В настоящую минуту он был занят такой горячей беседой с Дюпоном, что даже не обратил внимания на их приближение. Когда Дюпон подошел к девицам, незнакомец откланялся, и они втроем направились к замку. Граф, услышав фамилию Боннака, объявил, что знаком с ним и, узнав по какому печальному случаю он прибыл в Лангедок и остановился в маленькой деревенской гостинице, просил мосье Дюпона пригласить его от имени графа в замок.
Дюпон с радостью исполнил это поручение; он уговорил Боннака отбросить всякие церемонии и принять радушное приглашение; тогда они вместе явились в замок, где любезность графа и веселое оживление его сына отчасти рассеяли мрачное настроение незнакомца. Боннак был офицером на французской службе; на вид ему было лет под пятьдесят; он был высокого, статного роста, манеры его отличались утонченным изяществом и вообще во всей наружности его было что-то чрезвычайно интересное. По чертам его, в молодости, вероятно, очень красивым, была разлита меланхолия, вероятно последствие пережитых несчастий.
За ужином он хотя и участвовал в разговоре, но, очевидно, только из учтивости – бывали минуты, когда он, не имея сил бороться с угнетавшими его чувствами, вдруг замолкал и видимо думал о другом. Граф не пробовал вывести его из этого состояния и вообще относился к нему с добротой и деликатностью, напомнившей Эмилии ее покойного отца.
Общество разошлось рано; Эмилия удалилась в свою спальню, и там, в тиши уединения, все пережитые сцены с удвоенной силой овладели ее мыслями. Ее поражало, что умирающая монахиня оказалась синьорой Лаурентини, которая вовсе не была умерщвлена синьором Монтони, как раньше подозревали, а сама виновна в каком-то страшном преступлении; пророненные ею намеки относительно замужества маркизы де Вильруа и ее расспросы о происхождении Эмилии возбуждали в ней не меньший интерес, хотя уже интерес другого свойства.
История Агнесы, раньше рассказанная ей сестрой Франциской, оказывалась неверной; но с какой целью она была выдумала, если не для того, чтобы удобнее скрыть истину? Более всего Эмилию интересовало отношение между историей покойной маркизы де Вильруа и судьбой ее отца; что существовало между ними какое-то отношение, это несомненно доказывало горе Сент Обера, когда при нем произнесли ее имя, его желание быть похороненным возле нее и портрет ее, найденный в его бумагах. В иные минуты Эмилии приходило в голову, что ее отец и был тем возлюбленным, к которому была так привязана маркиза в то время, когда ее насильно выдали за маркиза де Вильруа; но чтобы он и позже питал к ней страсть – этому она не верила ни минуты. Она была почти убеждена, что бумаги, которые он так торжественно велел ей уничтожить, касались именно этих отношений. Более чем когда-либо она жаждала узнать, почему он считал нужным отдать ей такое приказание, и не будь у нее такой непоколебимой веры в его правоту, это внушило бы ей мысль, что есть какая-то тайна, касающаяся ее рождения, тайна, постыдная для ее родителей, и что эти рукописи могли бы разоблачить ее.
Подобные размышления мучили ее всю ночь, и когда она наконец, забылась в тревожном сне, и тогда ее беспокой видения умирающей монахини и всех ужасов, испытанных за день.
На другое утро она чувствовала себя слишком слабой и нездоровой, чтобы пойти на свидание с аббатисой; еще до наступления вечера ее уведомили, что сестра Агнеса скончалась. Г.Боннак принял это известие с подобающей печалью; но Эмилия заметила, что теперь он менее расстроен, чем накануне вечером, когда вышел из кельи монахини, – очевидно, смерть ее была для него меньшим ударом, чем та исповедь, которую он услышал от нее. Как бы то ни было, его, вероятно, утешило до некоторой степени сведение об оставленном ему наследстве, – семья у него была большая, причем сумасбродства некоторых ее членов навлекли на него большие неприятности и даже заключение в тюрьму; беспутство любимого сына и связанные с ним денежные заботы и огорчения были главными причинами той печали, которая была написана на его лице и которая возбуждала участие Эмилии.
Мосье Дюпон рассказал своим друзьям историю его последних несчастий: несколько месяцев просидел он в заключении в одной из парижских тюрем, причем даже не мог надеяться на скорое освобождение и не имел утешения видеться с женою, которая в то время уезжала в деревню, стараясь, хотя и тщетно, добиться помощи от его друзей. Когда она, наконец, получила разрешение посетить мужа, то была так поражена его измученным видом от долгого заточения и горя, что с ней сделались припадки, которые, вследствие своей продолжительности, угрожают ее жизни.








