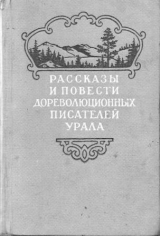
Текст книги "Фельдшер Крапивин"
Автор книги: Анна Кирпищикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
VIII
Войдя в переднюю, Лиза удивилась, увидев освещение в зале и услыхав, что в гостиной раздаются какие-то голоса, как будто совсем незнакомые. Пока она снимала верхнюю одежду, к ней поспешно вышла Серафима Борисовна.
– Что ты так раскраснелась? И зачем долго не шла и отпустила кучера и шла одна в такой темноте? И зачем ты не оделась? Разве кучер не передал тебе, что я велела тебе одеться? – засыпала Лизу вопросами Серафима Борисовна.
– Он сказал, что вы велели одеться и поскорее идти к вам. Я думала, что это значит надеть пальто и идти. Я так и сделала; ведь я часто бываю у вас в домашнем платье, – сказала Лиза, с удивлением глядя на Серафиму Борисовну. – Разве у вас есть гости?
– Да, у нас гости, и гости эти приехали для тебя, друг мой, Лизанька, – сказала Серафима Борисовна с некоторой торжественностью. Она взяла Лизу за руку и прошла с ней в столовую, отделенную от гостиной угловой неосвещенной комнатой.
– Сваты приехали, Лизанька, тебя сватать, – сказала она, целуя Лизу.
Лиза побледнела.
– Какие сваты? Кто? Зачем? Я не хочу замуж, – растерянно и быстро заговорила она. – Я не пойду замуж, и никаких мне сватов не надо.
– Полно глупости говорить, – ласково сказала Серафима Борисовна. – Все девушки говорят, что замуж не пойдут, и всегда выходят, и ты выйдешь. Там, в гостиной, твой отец и отец жениха уже обо всем переговорили. С отцом жениха приехала его дочь с мужем. Видишь, как все дело в порядке ведется. Теперь нужно только твое согласие, и мы ударим по рукам, а завтра вечерком просватанье сделаем уж формально, со священником… Да что ты, что ты, Лиза? Что с тобой?
Серафима Борисовна в тревоге подхватила зашатавшуюся и смертельно побледневшую девушку, без сил опустившуюся на первый попавшийся стул.
– Чего ты так испугалась? Ведь это Новожиловы, ведь этого сватанья давно следовало ожидать.
– Я не пойду за Новожилова, – сказала Лиза и, опустив голову на руки, глухо зарыдала.
Серафима Борисовна с досадой всплеснула руками.
– Это еще что значит? Чем же Новожилов не жених? Смотри, Лиза, не забирай себе глупостей в голову. Отец твой этого брака хочет.
– Да ведь не отцу жить-то, а мне! А я не хочу свою жизнь загубить, – тоскливо воскликнула Лиза.
– Не понимаю, чем ты тут свою жизнь загубишь? Люди они хорошие, богатые.
– И хорош, и богат, да не мил мне, не люблю я его и не пойду за него, не пойду, так и скажите им, – и Лиза снова заплакала, упав головой на стол, возле которого сидела.
Серафима Борисовна стояла перед ней, несколько растерянная, с нахмуренными бровями и недовольным лицом, и сердито теребила бахрому своего шейного платка. Между тем из темных дверей угловой комнаты медленно вышла высокая и дородная женщина с крупными и резкими чертами лица, одетая нарядно, но по-купечески повязанная шелковым платочком. Серафима Борисовна обернулась на ее шаги.
– Вот подите же, расплакалась, испугалась, когда я ей сказала, что к ней жених приехал. Ну, конечно, дело молодое, оно и в самом деле страшно одну жизнь менять на другую, – заговорила она, подходя к гостье.
– Да чего же тут бояться-то? Ведь все мы через это проходим, и ничего в замужестве страшного нет, – вкрадчиво заговорила гостья каким-то сладеньким голоском, совсем не подходящим к ее фигуре, и, подойдя к Лизе, ласково положила к ней на плечо свою большую белую руку.
Лиза быстро отерла слезы и сконфуженно поздоровалась.
– Не бойтесь, Лизавета Петровна, милая вы моя, ведь не в темный лес, не к диким зверям выйдете, а к таким же людям, как и здесь, – сказала сваха, усаживаясь рядом с Лизой. Серафима Борисовна Езяла стул и, поставив его перед Лизой, тоже села.
– Да я не думала о замужестве, мне и во сне-то ничего такого не снилось, и вот точно гром грянул, – сказала Лиза, продолжая утирать неудержимо катящиеся слезы.
Сваха тонно улыбнулась.
– Это ничего, это признак хороший. И все мы в девушках о замужестве не думаем, а придет жених да родители прикажут, – и приходится подумать. Так и вам! милая Лизавета Петровна, пришло времечко о замужестве подумать. Мы вас торопить не будем, чтоб вот сию же минуту и ответ получить, подождем до завтра, а вы тем временем с крёстной вашей маменькой пересоветуйте, она вам ведь заместо родной матери; с папашей своим переговорите, да, помолившись богу, с тайной своей подружкой – пуховой подушкой все думушки и передумайте. Ночь долга, надуматься можно, а завтра мы к вам за ответом с Серафимой Борисовной вместе и приедем, – говорила сваха своим ровным, однообразным, сладеньким голоском.
– Я не пойду замуж, я не хочу, – сквозь рыдания проговорила Лиза.
Сваха снова улыбнулась.
– Милая Лизавета Петровна! Это все так-то говорят, а все выходят. Да и почему вам за Феденьку не идти замуж? Вы, слава богу, его давно знаете, и тетенька и дяденька ваши знают его. Худого за ним ничего не водится. Родитель наш ведь тоже вам известен, человек он с достатком, а Феденька у него один сын. Жить будете, как у Христа за пазухой. Может, сомневаетесь, что сестры, еще есть девицы, так это что же, они ведь птицы отлетные, вот что и ваше же дело, да притом они завсегда с почтением к вам будут, как к старшей. Не бойтесь, вы хозяйкой в доме будете, а никто другой. Родитель наш человек кроткий, только и знает свое торговое дело, в домашнее дело никогда и не вступается.
И долго еще прибирала сваха всякие резоны своим ровным, однообразным голосом, а Лиза сильнее и сильнее рыдала и твердила все одно и то же:
– Я не пойду замуж, я не хочу, не пойду.
Тем временем уходившая в кухню распорядиться об ужине Серафима Борисовна вернулась и, найдя дело все в том же положении, рассердилась.
– Ну, что ж, ты долго еще будешь реветь? На, выпей воды и успокойся. Поди ко мне в спальню, посиди там и подумай. Так и быть, подождем твоего ответа до завтра, только смотри, чтобы резонный ответ был.
– Все равно, я завтра скажу то же, – ответила Лиза, вставая и уходя в темную спальню.
«Пойдешь, шутишь, – думала сваха, тоже вставая с места и глядя вслед уходившей Лизе, нисколько не тронутая ее слезами; она им и не верила. – Цену себе уронить не хочет, ишь, какая еще хитрая», – идя вслед за Серафимой Борисовной в гостиную, думала сваха. Там сидели старик Новожилов со своим зятем в компании с Нагибиным и Архиповым около стола с закусками и водкой. Серафима Борисовна объявила им, что невеста не дает ответа сейчас и просит время подумать.
– Чего еще ей думать? Все за нее удумано, все улажено, – сказал Архипов с заметным неудовольствием.
– Ну, все ж таки ведь это для девушки большая перемена в жизни, – снисходительно заступилась сваха. – Мы можем и обождать. Пословица говорит: «Утро вечера мудренее». Пусть подумает, а завтра, бог даст, и надумается ответ дать.
– А по-моему, думать тоже много нечего; да уж если охота пришла, так пусть подумает, – сказал Нагибин. – А нам, гости дорогие, пора выпить, милости прошу.
Хозяева усердно принялись угощать сватов.
Когда после ужина, проводив гостей, Серафима Борисовна пришла к Лизе в спальню, та, печальная, сидела, опустив голову на руки. Тетка подсела к ней и сказала серьезным и озабоченным тоном:
– Неужели ты и впрямь забрала в голову не идти за Новожилова?
– Не пойду и не пойду, – упрямо повторяла Лиза, отирая свои распухшие от слез глаза.
– Что ж, ты за Крапивина, что ли, хочешь выходить? Это тебе Марья Ивановна вбила в голову. Придется, верно, мне с ней серьезно поссориться.
– Напрасно, крестная, Марья Ивановна тут ни при чем. Сердцу любить не прикажешь, оно любит, кого захочет.
– Твое-то сердце полюбило, да тебя-то любят ли? – с некоторым скрытым ехидством сказала Серафима Борисовна.
– Я знаю, что и он меня любит, – тихонько прошептала Лиза, опуская голову.
– Так у вас уж и объяснение было? – сердито вскричала Серафима Борисовна. – Ах ты, гадкая девчонка! И когда это вы успели сговориться? Это не на нашем-то ли вечере в саду было? А я-то, дура, и во внимание не взяла, ничего даже не подумала! Еще ужинать его увела! Ну, нечего сказать, ловкий парень! А все-таки тебе за ним не бывать, отец твой ни за что не согласится.
Лиза снова заплакала.
– Напрасно, лучше и не плачь, слезами старика не разжалобишь, – холодно сказала Серафима Борисовна, – да и мне твое вытье надоело. Бери-ка лучше подушку да одеяло и ложись спать. Домой завтра уйдешь. И что тебе в Крапивине понравилось? Человек бедный, можно сказать, что ни перед собой, ни за собой ничего не имеет, и притом дурного характера, любит мешаться не в свое дело, жить не умеет, с высшего оклада переведен на низший, а ты все свое: не пойду за Новожилова, пойду за Крапивина.
– Ну, этому не бывать, – сердито отрезал Архипов, стоявший в темной передней у двери в столовую. – Это дурь одна, и думать не смей об этом.
Серафима Борисовна и Лиза вздрогнули от неожиданности. Они не знали, что Архипов стоит тут и дожидается Лизу.
– Батюшка! – с рыданием бросилась к нему Лиза, но он сердито оттолкнул ее и вышел, громко хлопнув дверью.
– Говорю тебе, не разжалобишь старика, лучше перестань плакать и покорись. Родительская воля все равно, что божья. Полно, Лиза, успокойся, обдумай свое положение, ведь замужество дело серьезное, не вечер, только протанцевать, а всю жизнь жить придется. Будь же умницей, перестань.
Серафима Борисовна уговаривала и ласкала безумно рыдающую Лизу и, наконец, тронутая ее слезами, и сама расплакалась.
– Вот-то две дуры выискались! – воскликнул слегка подвыпивший Нагибин, проходя через столовую в спальню со свечой в руке и останавливаясь с удивлением перед плачущими женщинами. – Богатый, хороший жених к ним приехал, где бы радоваться, а они ревут.
И Нагибин, скорчив брезгливую гримасу, прошел в спальню.
IX
В шесть часов утра на другой день Петр Яковлевич уже вышел из дому в своем стареньком, подпоясанном ремнем тулупчике, с ключами в руке. Он шел к хлебным амбарам, стоявшим на самом конце селения над прудом, протянувшимся довольно далеко за селение. Он шел не спеша, своей обычной тяжелой походкой, чуть-чуть позвякивая на ходу ключами. У амбаров под навесом уже стояло около полсотни женщин, к которым все подходили вновь прибывающие. Мужчин почти не было; были только возчики, то есть те, у которых были свои лошади. Обыкновенно если рабочие являлись за получкой хлеба сами, то только в обеденное время. Бабы приветствовали Петра Яковлевича молчаливыми поклонами. Ответив кивком головы на их поклоны, он не спеша принялся отпирать висячий замок и, сняв с пробоя тяжелую железную полосу, запиравшую дверь, стал отворять большим ключом внутренний замок. Бабы перешептывались между собой и подталкивали одна другую. Архипов отворял опять тот же амбар, из которого выдавали испорченную муку в прошлом месяце. Все они условились между собой не брать плохую муку, но ни одна из них не решалась первая заговорить об этом.
Архипов отворил дверь, вошел в амбар и, положив на стол принесенную с собой большую записную книгу, в которую вписывал выдаваемую муку, вынул из нее небольшую тетрадь, полученную им вчера из конторы, и стал громко и медленно прочитывать имена и фамилии и количество выписанных пудов.
– Ефремову восемь с половиной пудов, подходи, нагребай.
Бабы угрюмо молчали, переминаясь.
– Нет, что ли, никого от них? – спросил Архипов, не поднимая глаз от тетради, и, не получив ответа, продолжал, несколько удивленный угрюмой молчаливостью баб, обыкновенно весело галдевших во время получки хлеба:
– Анисимову пятнадцать пудов, нагребай!
То же молчание было ему ответом.
Архипов сердито сунул свою тетрадь на стол и поднял глаза на стоявших у широких дверей амбара баб. Анисимова и Ефремова стояли в толпе почти впереди всех. Архипов увидал их.
– Да вы тут? – закричал он, удивленный. – Что же вы, старые чертовки, не нагребаете?
– Не надо нам из этого амбара муку, не возьмем, – тихо, но все-таки отчетливо ясно сказала, наконец, Ефремова, высокая, уже пожилая женщина с суровым, нахмуренным лицом. Все бабы, видимо, только этого слова и ждали.
– Не надо нам эту муку! Не надо! Не возьмем! Отпирай другой амбар! Помирать нам неохота от худого хлеба! – загалдели бабы все разом.
Петр Яковлевич выругался нехорошими словами и вскочил с табуретки.
– Да вы очумели, проклятые! – закричал он. – С хлеба еще никто не помирал, а вот без хлеба вас оставить на месяц, так скорее поколеете.
– Ну, без хлеба народ нельзя оставить, такого закону нет, чтобы рабочих с голоду морить, – кричали бабы. – Сколько ты не ругайся, а муку давай хорошую!
– Лучше этой муки вам не будет, – рявкнул Архипов и снова сел к столу.
– Нагибин ведь призывал тебя вчера и приказал выдавать хорошую муку из другого амбара, – раздался из толпы чей-то мужской голос.
– Ничего не приказывал, эту муку велено выдавать, ее кончать нужно сперва.
– Она не пропадет у вас, ее можно стравить заводским лошадям, а рабочим надо отпустить хорошую, – крикнул ему в ответ все тот же голос.
– Кто это там кричит, а сам за баб прячется? – насмешливо сказал Архипов. – Выходи вперед, коли хочешь говорить!
– И выйду, – ответил голос. Из толпы расступившихся баб вышел Сапегин. Это был бледный, убитый горем человек, проведший ночь без сна над трупом своей жены. Он пристально глядел на Архипова, и тот как будто немного смутился.
– Ежели твоя жена в родах покончилась, то на это воля божья, а хлеб тут ни при чем, – сказал Архипов, потупившись. – Я сам овдовел так, тоже родами хозяйка моя замаялась.
– Фельдшер сказал, что от хлеба у ней преждевременные роды начались, от него и смерть приключилась, и запретил он нам этот хлеб брать, – ответил ему Сапегин, не сводя с него своего вызывающего пристального взгляда.
– А, так вот кто ваше начальство ныне! Паршивый какой-то фельдшеришка завелся и давай всех мутить и всеми командовать. Ну, нет, это дудки! Не будет по его. Не будет вам другого хлеба, хоть голодом сидите! – закричал Архипов, вспыхивая гневом, и, вскочив с места, сердито забегал по амбару.
Притихшие было ненадолго во время разговора Архипова с Сапегиным бабы снова зашумели. Одни уговаривали и усовещивали его, другие стыдили, корили, ругали, называя псом на чужом сене, но Архипов не сдавался. Одни из баб подошли к закромам, стали смотреть муку, брали в рот, нюхали, подносили Архипову к носу, но он, усевшись снова на свой табурет, сидел неподвижно, как истукан, и только отругивался и повторял все одно и то же:
– Говорят вам, не будет другого хлеба. Коли хотите жрать, берите этот, а не то хоть по домам расходитесь.
Первым ушел Сапегин. Он зашел в больницу и сообщил Василию Ивановичу о суматохе, происходящей около амбаров.
Через двадцать минут, засунув свою лупу в карман, Василий Иванович был уже у амбаров, радостно встреченный бабами.
– Что это, Петр Яковлевич, вы делаете? Опять негодную муку выдавать собрались? Разве Николай Модестович не приказал вам выдавать из другого амбара? – с такими вопросами обратился Крапивин к запасчику, останавливаясь у его стола.
– Негодной муки у нас нет, мука хорошая, другой не будет, – отрезал Архипов коротко и угрюмо.
– Дайте-ка, бабы, муки сюда из тех закромов, из которых велят вам брать, я посмотрю, – сказал Василий Иванович.
Две бабы с величайшей готовностью кинулись к закромам и подали ему в пригоршнях муки. Он взял муку на ладонь, пригладил ее другой рукой, понюхал и, вытащив из кармана стеколко, внимательно посмотрел в него.
– Это та же никуда негодная мука, что и раньше давали, и бессовестно вы поступаете, уверяя, что мука хорошая, – сказал Василий Иванович, поднося и муку и стеколко запасчику, чтоб тот посмотрел.
Петр Яковлевич сердито оттолкнул и муку и стеколко, так что мука вся рассыпалась, а стеколко улетело под стол, и, быстро поднявшись с места, заговорил возбужденно и гневно:
– Да что ты лезешь ко мне, когда тебя не спрашивают? Что ты за птица такая важная выискался, что берешься указывать людям старше себя? Всего ведь ты фельдшер, и вся цена тебе грош, пошел в свою больницу, не мути народ напрасно, смутьян! А вы, дуры, чего его слушаете? Охота, чтоб вас в полиции отодрали? И отдерут, в лучшем виде отработают! Да еще выдачи лишат на месяц, так вот тогда и складывайте зубы на полку.
Василий Иванович хотел что-то говорить, но Архипов замахал на него руками и продолжал своим хриповатым басом, обращаясь к бабам:
– Разве не помните, какую муку вам в прошлом году выдавали? Слежалась так, что топорами разрубали, в ступах комья толкли, однако брали и жрали, и никто из вас не поколел с этого хлеба. Эх ты, фершал, умная голова! Да в мужицком брюхе и долото сгниет без остатка, а не то ли, что такой хлеб. Ступай, ступай! Нечего тебе здесь делать. Я тебя слушать не стану.
Но Василий Иванович не уходил; он поднял свое стеколко и во всех закромах пересмотрел муку и давал бабам смотреть в стекло, продолжая убеждать их не брать муку, не трусить перед Архиповым, и объяснял им, почему и чем она вредна. Взятая из самого заднего закрома мука была рыхлая, но высыпанная из горсти на стол мука вся шевелилась и расползалась по столу мельчайшими пылинками, что можно было видеть даже простым глазом. Она вся кишела какими-то мельчайшими насекомыми. Бабы обступили стол, смотрели на муку и так, и в стеколко, ужасались, дивились, кричали и ругались.
– Да чертовки вы этакие, ведь эту муку я не выдавал вам, это остатки из заднего закрома, только лошадям даем, – кричал Архипов, проталкиваясь к столу сквозь толпу баб и стараясь рукой смести муку на пол.
– Захватите с собой и этой муки, – говорил Василий Иванович бабам, – и пойдемте к Нагибину, не урезоним ли его скорее. С этим аспидом, видно, не столкуешься. – Василий Иванович, опустив голову, пошел от амбара; бабы толпой пошли за ним.
– Ступайте, и я домой уйду! – крикнул им вслед запасчик. – Скоро и обедать пора, – он стал запирать дверь амбара.
Оставшиеся у амбара мужики и бабы пробовали было уговорить Архипова выдать им муку другую, но он отказал, сказав, что без записки от Нагибина сделать этого не может. Тогда и все остальные пошли в контору. Под навесом осталась только небольшая кучка самых робких и забитых, большей частью стариков и искалеченных рабочих, получающих пенсию мукой.
Крапивин вошел в контору и быстро, ни на кого не глядя, направился к отдельной комнате, где занимался один Нагибин. Бледный, взьолнованный, в выпачканном мукой платье, он смело прошел к этой комнате и отворил дверь. В двери он приостановился и, обернувшись, крикнул оставшимся в передней бабам:
– Идите за мной! Чего вы стали?
Николай Модестович медленно поднял свою наклоненную над бумагами голову и, увидав Крапивина и входившую за ним толпу баб, густо покраснел.
– Это что значит? – спросил он, сдвигая брови.
– Да вот бабы принесли вам показать муку, какую им велит брать Архипов. А мука эта совсем не годится в пищу. Я объяснил им, что она вредная, и никто из рабочих не хочет ее брать.
– Вот погляди, батюшка Николай Модестович, понюхай, – совали женщины муку под нос Нагибину.
– Скотину кормить этим хлебом надо, а нам прикажи выдать другую, – говорили другие.
– Вот наши ребята хворают, пожалей ребят, будь отец родной, – молили самые робкие и несмелые.
– Напиши ты скорее приказ Архипову, чтоб выдал хорошую муку, ишь, без приказа он не отпускает, записку велел от тебя принести. Напиши ты скорее, родимый, ведь уж обед на дворе, а мы все еще свою дачу не получили, – кричали и молили бабы, обступая Нагибина.
Обеденный час уже пробил, и поспешно бежавшие обедать рабочие, узнав, что жены их пошли в контору, сбегались туда же. Скоро вся контора наполнилась бабами и мужиками. Так как было уже обеденное время, то все служащие рассудили, что лучше разойтись по домам. Остался один Назаров у своего стола, он ждал Василия Ивановича.
Придя в себя от ошеломивших его бабьих криков, Нагибин обратился к Василию Ивановичу с довольно спокойной укоризненной речью:
– Это значит, что вы взбунтовали рабочих, Василий Иванович, ворвались в присутствие с толпой баб…
– Да понимаете ли вы, Николай Модестович, что делать больше ничего не оставалось, что люди болеют и умирают от этого хлеба, что Архипов у вас упрямый и бессовестный осел. Он должен был сам доложить вам, что мука не годится, а он уверял в противном. Только ваше упрямство – и причина всего этого беспорядка. Напишите Архипову приказ о выдаче другой муки – и мигом все успокоится.
Василий Иванович, сложив вдвое пол-листа бумаги, подал его с пером.
Нагибин молча взял перо и с угрюмым лицом начал писать. Бабы застыли в немом ожидании. Крапивин с тоской следил глазами за его рукой. Нагибин писал не то, что было нужно: он писал донесение в главное управление о том, что фельдшер Крапивин взбунтовал рабочих, ворвался с толпой их в самом неприличном виде в присутствие и с угрозами требовал отмены сделанного им, Нагибиным, распоряжения о выдаче хлеба. Далее донесение гласило, что он должен был посадить Крапивина под арест, а рабочих приказать полицейским разогнать нагайками. Кончив донесение, подписавшись и проставив число, Нагибин молча подал Василию Ивановичу бумагу. Бабы и рабочие, отступившие от стола, ждали в молчании. Крапивин, едва взглянув на бумагу, положил ее на стол и, взяв другой полулист бумаги, сложил его и опять положил перед Нагибиным.
– Относительно этого как вам угодно поступайте, – сказал Василий Иванович, указывая рукой на донесение, а теперь пишите приказ скорее.
Нагибин, сдерживавшийся до сих пор, вдруг рассвирепел.
– Да вы с ума сошли! – закричал он, вскакивая с места. – Да что я вам – пешка какая, что ли? Эй, Вахрушев!
На это воззвание сквозь толпу рабочих поспешно стал проталкиваться полицейский, обыкновенно дежуривший утром в конторе. Рабочие расступались, пропуская его.
– Запереть Крапивина в темную! Да прежде вытолкай этих дур отсюда, – сказал ему Нагибин, тяжело отдуваясь. Гнев душил его.
Полицейский усердно принялся было заворачивать и выталкивать баб, но они увертывались и с возгласами: «Полегче, Спиридоныч, полегче!» – все теснее обступали Крапивина и Нагибина. Рабочие, смирно ожидавшие в соседней комнате, тоже начали перебираться в кабинет Нагибина, который он так важно величал присутствием.
– Это что же он писал-то такое? – обратилась Ефремова к Василию Ивановичу, показывая на исписанную четвертушку бумаги. – Запасчику, что ли?
– Нет, это донесение в правление, что я взбунтовал рабочих и что меня надо посадить в темную.
– Тебя-то в темную! – заорали бабы. – Да мы ни за что не допустим. Все мы постоим за тебя, родной ты наш, заступник наш единый. Нет, ты его не сади, Нагибин, худое ты дело затеваешь, – кричали бабы, обступая Нагибина, а в поддержку им начинали слышаться сердитые мужские голоса.
– Стыдно невинного человека в темную запирать!
– Сам жрешь хороший хлеб, а нам велишь худой давать, злодей!
– Тебя вот в темную-то запереть да покормить с недельку этим хлебом, небось, не то запоешь, изверг!
Возгласы и ругань становились все неистовее и грознее, и тщетно Нагибин кричал и ругался, призывая полицейских. Единственный находившийся в конторе полицейский Вахрушев был притиснут в угол толпой рабочих и не мог там пошевелиться.
– Послушай, Николай Модестович, пиши сейчас записку запасчику, и дело с концом, – сказал высокий чернобородый рабочий с фабрики, с лицом, покрытым сажей, на котором сверкали только белки глаз, положив руку на плечо Нагибину. Он только что протискался к нему сквозь толпу рабочих.
Нагибин обернулся и взглянул рабочему в лицо.
– А, это ты, Озерков! Хорошо, запомним, – и потом закричал, насколько мог, громко и грозно: – Не будет вам другого хлеба! Сказано: не будет – и не будет!
– Так не будет? – спросил Озерков, и его сильная рука снова опустилась на плечо Нагибина и на этот раз потяжелее первого. Нагибин слегка качнулся и сел на стул, возле которого стоял, но тем не менее снова закричал:
– Сказано: не будет – и не будет! И вон отсюда! Вон! Негодяи, бунтовщики, вон!
Озерков снова поднял руку, но за руку ему ухватился стоявший за ним мастеровой Шитов и удержал его.
– Я только тряхнуть его хотел хорошенько, – ухмыльнулся Озерков в свою кудрявую бороду, оглянувшись на Шитова.
– Помилосердуй, Николай Модестович, отдай приказ запасчику, – заговорил Шитов, слегка отстранив Озеркова рукой, чтоб быть ближе к Нагибину. – У меня жена брюхата, и я не хочу, чтоб она, как жена Сапегина, померла от вредного хлеба. Не станем мы эту муку брать и не станем.
– А, Шитов! – сказал Нагибин, взглянув на мастерового. – Ну, так еще раз говорю вам, что не будет другой муки, хоть с голоду подыхайте, подлецы, бунтовщики!
Общее недовольство и озлобление возрастало, все громче раздавались крики и ругательства по адресу Нагибина, все грознее становились угрозы мастеровых. Василий Иванович пробовал уговорить их, но его голос терялся, его слов не слушали. Река прорвала плотину, и было поздно останавливать ее.
– Ишь, ведь идол какой! – раздался вдруг громкий голос Озеркова. – Право, идол, да и только. Обойдемся мы, братцы, и без его приказа. Айда к амбарам все, силом заставим Архипова выдавать муку, вот покажем ему эту бумажонку и скажем, что это приказ, а читать не дадим.
Озерков, схватив со стола донесение Нагибина, замахал им по воздуху, приглашая всех выходить. Пошел Шитов, махнув безнадежно рукой на Нагибина, за ним пошли и все. Последним остался Василий Иванович.
– Выходи, выходи, Василий Иванович, нечего тебе тут делать, – говорил Озерков, подхватывая его под руку и выводя из двери. – Пусть этот идол проклятый сидит тут и строчит свои доносы, – прибавил он, запирая дверь торчавшим в замке ключом. – Ничего, пусть посидит, – прибавил он, усмехнувшись на протестующий жест Василия Ивановича, – умнее будет. А ты, друже мой, иди в больницу, я ведь оттуда в контору-то прибежал, и не знал даже, что тут деется.
– Зачем ты был в больнице? – спросил его Крапивин, медленно подвигаясь с ним вслед за выходившей толпой, гогочущей от удовольствия, что Нагибина заперли в конторе.
– Я сынишку своего туда стащил, помнишь, Васятку-то? Захворал, то же с ним, что и с девчонкой было. Сделай божескую милость, поводись ты с ним, жаль мальчонка, шустрый такой. Иди-ка с богом к своему делу, а мы тут лучше без тебя-то оборудуем.
Озерков кинулся догонять уходивших мастеровых.
– Ради бога, не делайте насилий, не ломайте замков, – кричал им вслед Василий Иванович. К нему подошел Назаров и, усмехнувшись, сказал:
– Чудак, сам бросил с горы камень да и кричишь ему: не катись! Пойдем-ка. – И, взяв его под руку, он быстро зашагал с ним к больнице.
– Не выпустить ли нам Нагибина? – в нерешительности остановился было Крапивин.
– Хуже будет, пожалуй, бока намнут ему мужики, обозлились очень, там целее будет, – сказал Назаров, и оба быстро пошли в больницу, предоставив событиям идти своим чередом.








