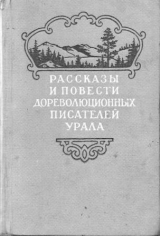
Текст книги "Фельдшер Крапивин"
Автор книги: Анна Кирпищикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
VI
Все время разговора Новожилов следил глазами за Лизой с все возраставшим неудовольствием. В нем закипала ревность. Еще весной он со своим тятенькой порешил, что женится на Лизе по осени. Летом у них было так много торговых дел, что свадьбу играть было совсем некогда. В согласии отца старик Новожилов был вполне уверен, так как речь об этом уже шла между ними, а о согласии невесты ни тот, ни другой не заботились. Оно казалось несомненным ввиду согласия отца.
«Вот выискался, выскочка! – думал Новожилов, следя злыми глазами за уходившими в кабинет Крапивиным и Лизой. – Нет, я не уступлю тебе, сударик! Этот кусочек не про тебя!»
Между тем барышни опять запели:
Запрягу я пару коней вороную…
И Новожилов встал и, пройдясь по комнате, отправился в кабинет приглашать Лизу. Она было отговаривалась тем, что ей некогда, но Новожилов просил так настоятельно, что Лиза согласилась и вышла с ним в залу. Там уже прохаживалась другая пара, а именно Назаров с Машей; Лиза подошла к ней и, прохаживаясь с ней рядом, начала ей шепотом читать, что успела записать в кабинете. Они не обращали внимания на своих кавалеров, как того требовала и песня, и с презрением отворачивались от своих «мужей», когда они, закупив в китай-городе, подносили «женам»
Само, само наилучшее платье,
и «мужья» затем обращались с жалобой к добрым людям на нелюбовь своих «жен», не принимающих подарков. Затем песня повторялась, в ней говорилось, что обиженный муж снова отправлялся в китай-город за подарком и получал на этот раз «саму, саму наилучшую плетку». Лиза и Маша продолжали ходить по зале и затверживать то, что удалось Лизе записать.
Принимай-ка, жена, не стыдися,
Душа-радость моя, не спесивься, —
продолжал петь Новожилов и с гордым видом кинул на плечо Лизе свой пестрый шелковый платок, продолжая петь торжествующим тоном:
Посмотрите-ка, добрые люди,
Как жена-то меня молодца любит.
При этих словах Лиза и Маша вдруг расхохотались и, сбросив платки с плеч, сели на стулья около двери, прислонившись к косяку которой стоял Крапивин.
– Какая смешная песня! И какая тут глупая жена выведена, – сказала Лиза, смеясь и обращаясь к Крапивину.
– Правда, глупая жена выведена, – ответил вместо Крапивина Новожилов, остановившийся перед Лизой. – Только в этой песне много правды. Есть такие жены, которые только тогда и начинают любить своих мужей, когда они выкажут свою власть над ними.
– Вроде того, что вздуют своих жен плетью или палкой! Нечего сказать, должно быть, хороша любовь из-под палки! – заметил Крапивин.
– Однако вы, Лизавета Петровна, не хотите со мной ни одной игры доиграть, – упрекнул Новожилов Лизу.
– Надоели они мне, – ответила Лиза.
– И мне надоели, – сказал подошедший Назаров. – Все одно и то же. Лучше уж в кошку и мышку играть.
– Так бросим игры и станем танцевать гроссфатер, – предложил Крапивин. – Петр Иванович отлично подыграет нам. Надо только больше танцующих, надо всех просить принять участие, кроме играющих в карты.
– Отлично, отлично, устраивайте танец, я согласен, – заявил Назаров. – Марья Петровна, я с вами. – Маша с улыбкой кивнула головой, а Лиза с Василием Ивановичем принялись составлять и устанавливать пары.
– Да ведь мы совсем не умеем, не знаем ни слов, ни фигур, – протестовал было Новожилов, но его протест затерялся в общем согласии всех, заинтересовавшихся новым танцем. Он хотел было пригласить Лизу, но, узнав, что она уже танцует с Крапивиным, обратился к Серафиме Борисовне. Наконец, пары установились, Петр Иванович заиграл что-то вроде польского, и пары чинно двинулись по всем комнатам. Когда, обойдя комнаты, через переднюю вернулись в залу, Крапивин запел своим небольшим, но приятным тенорком:
Вот в полном разгаре и блеске наш бал,
Веселый гроссфатер оркестр заиграл…
Начались фигуры гроссфатера. Назаров подпевал басом, и все остальные, прислушавшись и уловив мотив, тоже принялись подпевать. Всем было весело, все подпевали и танцевали с удовольствием, и даже игроки бросили карты и вышли посмотреть на танцующих.
Вот щеголь поседелый
Бежит в манишке белой,
Ногой лягнет,
Другой дрыгнет… —
пел Крапивин все громче и увереннее, и танцующие, согласно то замедлявшемуся, то ускоряемому темпу, или чинно прохаживались, или весело проделывали немудреные и несложные фигуры гроссфатера. Молодежь веселилась от души, глаза у барышень сияли удовольствием. Один Новожилов имел недовольную физиономию. В душе его все сильнее и сильнее разгорались чувства озлобления и ревности к Крапивину, успевшему в один час затмить их всех и сделаться «персоной грата[7]7
Персона грата – буквально, приятная особа, в переносном смысле – лицо, пользующееся особым расположением или привилегией.
[Закрыть]» вечера, и хотя он все еще не признавал его своим соперником, но уже глухо предчувствовал это. Он видел по разгоревшемуся лицу Лизы, по ее сияющим глазам, что тут есть что-то более простого удовольствия, и ему было досадно и неприятно.
Танец длился уже целый час, и все еще конца ему не предвиделось, все новые и новые фигуры выдумывал Крапивин, и все веселее и увереннее звучал его красивый голос:
Какой сумасшедший, какой вертопрах!
Ну, можно ль резвиться в преклонных летах!
Всему есть на свете сезон.
Уставшие из пожилых танцоров и танцорок отстали, уселись к стенкам и, обмахиваясь платками и посмеиваясь, переговаривались между собою:
– Ну и танцор, ну и певун! Не было еще у нас такого, всю компанию взвеселил. Веселый выдался вечерок, веселый.
В передней у дверей в залу столпились зрители из прислуги своей и посторонней, собравшиеся тоже посмотреть на танцы. Сзади всей этой толпы стоял высокий мастеровой с черной курчавой бородой и такими же волосами. Его загорелое, покрытое сажей лицо показывало, что он только что оставил работу и что-то особенно нужное пригнало его сюда. Это был пудлинговый мастер из пудлинговой фабрики, по фамилии Озерков.
Он обращался ко всем из прислуги Нагибина со своей просьбой, но все только пожимались на его просьбу, и никто не хотел ее исполнить. Да и сам он просил как-то нерешительно, точно сознавая несвоевременность своей просьбы, и, стоя в кучке прислуги, глядел он на танцующих с какой-то странной смесью интереса и даже удовольствия и тоскливой мысли в открытых светлых глазах. Смолоду и сам он любил поплясать и всегда был первым затейщиком всяких плясок и игр. И до сих пор частенько ему принадлежал почин в устройстве какой-нибудь добродушной потехи или шутки над кем-либо из своих товарищей. Долго стоял он, переминаясь с ноги на ногу, и, может быть, простоял бы еще больше, если б его не увидал нечаянно вошедший в переднюю механик.
– Что ты? Чего тебе? – спросил он, живо заинтересовавшись присутствием рабочего в передней. – Не случилось ли чего в фабрике?
– Никак нет. На фабрике все благополучно. Только вот девочка у меня захворала, почитай, при смерти находится, Василья Ивановича мне бы надо.
– А-а, хорошо, я ему скажу, хоть и жаль его удовольствие портить. Вишь, он в танце главный зачинщик, и все дело, пожалуй, спутается без него, – сказал механик с сожалением.
– Да мне и самому жалко тревожить их, больно уж весело играют, – сказал рабочий, – только боюсь я, не умерла бы девчонка-то.
– Да что с ней?
– Тянет всю, ломает, а теперь посинела, и у рта пена.
– Окормили чем-нибудь, какой-нибудь дрянью напичкали, – сказал механик. – Сейчас подойду и скажу.
Василий Иванович только что остановился, кончив новую фигуру гроссфатера, как к нему подошел механик и, положив сзади руку на его плечо, сказал тихонько:
– Служба, батенька, прежде всего. Выдьте-ка в переднюю, там есть дело до вас.
Василий Иванович тотчас пошел в переднюю, продолжая напевать; Лиза глядела ему вслед с некоторой тревогой. Он быстро вернулся и, подойдя к ней, сказал:
– К сожалению, я должен идти к больной сейчас же. Прошу извинить, что нарушаю общее удовольствие. Но, может быть, танец продлится и без меня, Семен Васильевич будет начинать.
– Ах, как жаль! – сказала Лиза. Серафима Борисовна и Марья Ивановна тоже выразили сожаление и пошли в переднюю за Василием Ивановичем, обмахиваясь платками. Обе они танцевали с увлечением молодых девушек. Серафима Борисовна просила Василия Ивановича возвратиться к ужину.
– Постараюсь, – ответил он, – это ведь недалеко отсюда, тут напротив вас, за прудом.
Несмотря на убеждения Назарова продолжать, танец расстроился, и кавалеры пошли к столу с закусками по просьбе Серафимы Борисовны. После выпивки еще танцевали кадриль, но прежнего оживления и удовольствия уже не было. Часа в два стали накрывать ужин.
Лиза остановилась с Машей у окна в зале и, глядя на видневшийся за прудом огонек в одном из домов рабочих, сказала ей:
– Я думаю, Василий Иванович все еще там и потому не пришел сюда.
– Разве он туда пошел? – спросила Маша, тоже вперяя свой взор в сумрак осенней ночи.
– Он сказал, что больная за прудом, как раз против нас, и мне кажется, что она вот тут, где огонь. В других домах ведь темно, везде спят.
– Однако тяжелая же его служба, – задумчиво сказала Маша, – во всякую пору, во всякую погоду он должен идти, если его позовут.
– Правда, служба не легкая, но зато какая полезная, какая благодетельная для всех, – сказала Лиза с жаром.
– О чем это вы толкуете? – спросил подошедший к ним Назаров. – И чего уставились глазами в темноту?
– Да вот Лиза думает, что Василий Иванович там, где огонек виднеется за прудом, – сказала ему Маша, не заметив, что вслед за Назаровым подошел Новожилов.
– Однако, как барышни увлеклись новым фельдшером, следят за каждым его шагом и мысленно сопутствуют, – с насмешливой улыбкой сказал Новожилов.
– Что ж, он человек хороший, и увлечься им не грех. Вот такими, как мы с вами, так, небось, не увлекутся, – обернулся к нему, смеясь, Назаров.
– Куда нам до него! – с пренебрежительной усмешкой протянул Новожилов. – Разве вот вы, Семен Васильевич, еще потягаетесь, а я уж пасую.
– Скоренько спасовали, – опять рассмеялся Назаров.
– Однако ж уже ужин подают, а Василия Ивановича все нет. Жаль, приятно было бы хорошо поужинать в веселой компании.
– Огонь за прудом погас, – сказала Маша, снова взглянувшая в окно. – Может быть, он теперь уже идет сюда.
Однако он не пришел и во время ужина, длившегося целый час. После ужина пили шипучее вино, провозглашая многолетие виновникам празднества. В это же время внимание гостей было привлечено треском нескольких ракет, взлетевших над темными деревьями сада. Все, наскоро одевшись и укутавшись платками, вышли из гостиной на террасу и любовались ракетами, рассыпавшимися разноцветными огнями. Барышни сошли в сад и прохаживались по дорожкам цветника, слабо освещенным светом из окон залы и усыпанным опавшим желтым листом. Лиза и Маша, отделившись от других, пошли по аллее, отлого спускающейся к пруду, и остановились там у решетки, отделяющей сад от пруда. Стоя у решетки, они стали вглядываться в темные, чуть освещенные тусклыми фонарями фигуры людей, копошившихся на берегу и пускавших ракеты. От них отделился какой-то мужчина и пошел по дорожке, пролегавшей за решеткой. Девушки узнали Крапивина и поспешили ему отворить калитку.
– Любуетесь ракетами, – сказал он им, входя в сад. – Ну и раскутился же наш Николай Модестович, даже что-то вроде фейерверка устроил ради своей серебряной свадьбы.
– Да, это у нас что-то необыкновенное сегодня, что-то небывалое, – весело ответила Лиза. – Почему вы так поздно пришли? Мы вас ждали к ужину.
В это время к Маше подбежала ее сестра и позвала ее. Их родители уже собрались уходить, и девушки, наскоро простившись с Лизой, убежали.
– И думать нельзя мне было попасть к ужину, – заговорил Василий Иванович, прислонившись к решетке сада. – Случай тут вышел один странный такой с девочкой, и понять я его не могу. Есть признаки отравления, а чем отравилась, не знаю. И это уже второй случай!
– Господи! Да что же это такое значит? – испуганно воскликнула Лиза.
– Не понимаю, право; постараюсь разъяснить это завтра же. Девочку я надеюсь спасти, взял ее в больницу, сделали ей теплую ванну, конвульсии и рвота прекратились, теперь заснула, а я увидел ракеты в окно и пошел сюда, в надежде еще раз увидеть вас.
– А первый случай с кем был? – спросила Лиза, чтоб скрыть овладевшее ею смущение.
– Старушка одна захворала, посылали за мной вчера вечером, те же все признаки отравления, только в больницу она не пожелала лечь, дома, говорит, помирать хочу. Ну и, пожалуй, настоит на своем и точно умрет дома. Сегодня видел ее – очень плоха.
С минуту они молчали и медленно шли к дому по аллее.
– Лизавета Петровна, – робко и волнуясь заговорил Василий Иванович, – давно уж мне хотелось увидеть вас вот так, без свидетелей, и сказать вам, что всей душой полюбил я вас и на всю жизнь и был бы несказанно счастлив, если б вы пошли за меня замуж.
Он тихонько овладел рукой девушки и покрыл ее горячими поцелуями. Лиза не могла говорить, сильно взволнованная.
– Я знаю, что я незавидный жених, – сказал Василий Иванович несколько упавшим голосом, смущенный молчанием Лизы, – но я так горячо люблю вас, что не могу уже молчать. Я жизни не пожалел бы для вас, ответьте мне лишь слово, вот кто-то, кажется, идет сюда, – умоляющим голосом просил Крапивин.
– И я люблю вас, Василий Иванович, – чуть слышно прошептала Лиза, поспешно отнимая руку и ускоряя шаги. Навстречу им шли Серафима Борисовна с Марьей Ивановной. Узнав Крапивина, Серафима Борисовна принялась звать его в комнаты поужинать и, несмотря на все его протесты и ссылку на позднее время, увела его в дом.
– Какой хороший вечер провели мы сегодня, – сказала Марья Ивановна, пытливо заглядывая в смущенное и пылающее личико Лизы.
– Да, это хороший вечер, единственный в моей жизни, – шепотом ответила ей Лиза и горячо расцеловалась с ней. К ним подошли другие гости, все прощались и уходили; Лиза поспешила в комнаты и там встретила Крапивина, тоже уже уходившего. Они простились крепким рукопожатием, обменявшись только взглядом.
VII
На другой день Крапивин получил записку от Марьи Ивановны, приглашающую его зайти часов в одиннадцать взглянуть на Басю. Крапивин улыбнулся: это значило, что Марье Ивановне хотелось поболтать с ним за кофеем, а Бася только предлог.
Входя к ним в переднюю, он встретил кухарку и попросил ее принести ему горсточку ржаной муки.
– Вы что тут стряпать собираетесь? – спросил его Густав Карлович, стоявший на пороге своего кабинета. Василий Иванович, не заметивший его сначала, подошел поздороваться и увидал в кабинете Нагибина. Он хотел было подойти и к нему, но тот, бросив газету, которую просматривал, сухо пробормотал:
– Ведь мы уж виделись сегодня, – и прошел мимо него в столовую.
В этих словах, а главное, в лице и манере виделось что-то сухое и неприязненное. Густав Карлович поглядел вслед ему с недоумением и вопросительно взглянул на Василия Ивановича. Тот только слегка пожал плечами и пошел к чайному столу здороваться с Марьей Ивановной и стал ее расспрашивать о Басе. В это время кухарка принесла на тарелочке муку и подала ее Василию Ивановичу.
– Это зачем? Что вы хотите делать? – спросила несколько удивленная Марья Ивановна.
– Хочу посмотреть, из какой муки вы хлеб делаете, – ответил Василий Иванович, вынимая из кармана стеколко и внимательно рассматривая муку. Посмотрев, он сказал кухарке:
– Унеси, мука у вас хорошая.
– И у всех такая, – сказал на это Нагибин, смотревший с недовольным видом на Крапивина. – Охота вам, Василий Иванович, из мухи слона делать!
– Нет, Николай Модестович, не я делаю из мухи слона, а вы хотите из слона муху сделать, это вот верно, – ответил тот с какой-то особенной горячностью.
– Да в чем дело? Объясните вы мне, пожалуйста, – просил Густав Карлович, присаживаясь к столу с закуской и водкой и жестом приглашая их к себе.
– Дело в том, – сказал Василий Иванович, – что муку, негодную в пищу, выдают рабочим, и от этого произошло много заболеваний, а сегодня в ночь старуха одна даже жизнью поплатилась.
– Да полно вам, Василий Иванович! От старости старуха умерла, ну и бог с ней, молодым место опростала, – сказал Нагибин, наливая себе водку.
– Ну, хорошо, бог с ней, не два века ей жить! Но для меня важно не то, что она умерла, а то, отчего она умерла.
– Вот привязался! От старости ли старуха умерла или объелась чем, что нам за дело? – заговорил Нагибин, в волнении встав со стула, на который он было присел. – А он пристает вскрывать старуху. Из-за двухсот пятидесяти верст доктора выписывать да караул при ней держать; хлопот сколько, а из-за чего? Старуха честнехонько кончилась, напутствована, чуть ли даже не соборована, и родным ее это не понравится. Нет, Василий Иванович, мудрите вы не в меру. Очень уж вам захотелось ученость свою выказать.
Ехидная улыбочка искривила губы Нагибина. Василий Иванович тоже встал и, подойдя к Нагибину, сказал:
– Не думал я, Николай Модестович, что вы такого дурного обо мне мнения и так мало понимаете, чего я хочу. Ведь я убежден теперь, что старуха померла от вредного хлеба. Во всех пяти домах, где были серьезные заболевания, я был сегодня, рассматривал муку и хлеб и нашел их негодными в пищу. Обо всем этом я уже написал от себя донесение и в главное управление и доктору и надеюсь, что вы, прибавив к нему свое, отправите его сегодня же с нарочным. Амбар с вредным хлебом вы, конечно, распорядитесь запечатать и выдать рабочим муку из другого амбара, из которого выдают вам и служащим и нам в больницу отпускают. Это ваша прямая обязанность.
Угрюмо нахмурившись, слушал эту речь Николай Модестович, и только красные пятна, выступившие на его лице, показывали, что он далеко не спокоен.
– Спасибо вам, Василий Иванович, что напомнили мне про мою обязанность, – сказал он с иронией, кланяясь Крапивину, и, выпив налитую рюмку, так сильно стукнул ею о стол, что донышко отскочило. Потом, закусив корочкой хлеба, он попревшему с иронией обратился к Крапивину:
– А чем прикажете народ кормить, если эту муку не выдавать? До зимнего пути муки взять нам ведь негде.
– Да я ведь знаю, что не весь хлеб у вас плохой. Я вам говорил, что у вас да и у всех конторских служащих мука хорошая, чистая, а у рабочих испорченная. Посмотрите, только простым глазом посмотрите и увидите сами.
– Да полно вам вздор говорить, Василий Иванович, у всех одна мука, и если какая баба своим неряшеством муку испортила и хлеб плохой испекла, так из этого стоит делать такую историю! Смотрите, как бы вам худа не было за излишнее-то усердие.
– Что ж? Пусть мне и худо будет, да зато совесть моя будет спокойна, если я от людей этот вред устраню. Старуха умерла, а на той неделе двое детей померли с теми же признаками отравления, но тогда я понять не мог, чем они отравились. Теперь в больнице лежит девочка и мужик, работник, отец семейства, привезли его сегодня утром; ну, этих двух я надеюсь спасти, потому что уже знаю, с чем я борюсь, и вред от них устранил. Умерших не воротишь, конечно, и согласен я не упоминать о них больше, только обязанность ваша от живых этот вред устранить, и если немедленно прикажете вы отпускать всем хорошую муку, то я и буду доволен. В противном же случае число заболеваний будет все увеличиваться, и это будет лежать у вас на совести.
– О моей совести прошу не беспокоиться, я свое дело и свои обязанности хорошо знаю, – вспыхнул, наконец, долго сдерживавшийся Нагибин, – а вот вы своих не знаете. Ваше дело лечить больных, а не совать свой нос в чужие дела.
Николай Модестович вышел в залу, закурил там трубку и стал ходить взад и вперед, пуская клубы дыма. Он чувствовал себя глубоко оскорбленным. Он искренно думал, что Василий Иванович преувеличивает опасность и суется не в свое дело или потому, что у него такой уж характер гадкий, или из желания выслужиться перед начальством.
«Только он неверный путь выбрал для этого; от начальства ему, пожалуй, нагорит за это», – думал Нагибин, но в то же время он решил сегодня же вечером позвать к себе Архипова и порасспросить его о муке.
– Да не ошибаетесь ли вы, Василий Иванович? – сказал Густав Карлович, когда Нагибин ушел в залу. – Может, и в самом деле болеют они от чего-нибудь другого, может быть, другим чем отравились, а не хлебом, ведь жрут они всякую гадость, грибы эти, рыбу тухлую, пиканы там какие-то, ну и болеют, конечно.
– Нет, не ошибаюсь я, Густав Карлович, сегодня я с семи часов утра только и делал, что из дому в дом бегал и хлеб и муку исследовал. Мука с спорыньей да еще лежалая; от долгого лежанья в ней особенный этакий яд развился. Где мешали эту муку со старой хорошей, там и меньше хворали, а где было не с чем мешать, там и хворают больше.
– Вы все-таки не беспокойтесь очень, – сказала Марья Ивановна. – Я уверена, что Николай Модестович распорядится сегодня же, чтоб выдавали хорошую муку. Вы очень горячитесь и этим вредите себе. С Николаем Модестовичем надо умеючи говорить.
– Да как же тут не горячиться, когда каждый день можно ожидать, что все поголовно захворают. Почти во всех домах старая хорошая мука съедена и осталась только плохая.
Василий Иванович, несмотря на убеждения Марьи Ивановны не сердить Нагибина, пошел в залу, надеясь еще поговорить с ним, но тот и слушать не стал и, замахав рукой, схватил фуражку и быстро пошел домой. Густав Карлович тоже уговаривал Крапивина не затевать с Нагибиным ссоры и подождать, не опомнится ли он и не сделает надлежащего распоряжения.
– Ну, подождем: скоро наступит выдача хлеба, и тогда посмотрим, какую муку будут выдавать. Если опять ту же, тогда придется уже действовать иначе, – сказал Василий Иванович, глубоко опечаленный и каким-то упавшим голосом.
– Я за вас боюсь, что вы повредите себе, – ласково сказала ему Марья Ивановна.
– Эх, Марья Ивановна, да в такое время о себе-то ведь грех и думать, – горячо возразил Крапивин и, простившись, ушел.
Дома у себя он застал Назарова. В конторе уже шел разговор о том, что Крапивин был у Нагибина и очень резко поговорил с ним, что Нагибин очень недоволен им.
– Оставь ты, пожалуйста, друже, эту историю, не затевай напрасно ссоры с Нагибиным, пользы-то, пожалуй, никому не выйдет, а себе, несомненно, повредишь, – сказал Назаров, передав сначала то, что толкуют в конторе.
– Пусть я себе поврежу, но оставить этого дела я не могу. Ну, вот не могу и только, душа не подымает.
– Фу ты господи! Вот еще человек с душой выискался! – шутливо воскликнул Назаров. – Ведь ты свое дело сделал, Нагибину доложил, в управление написал, ну и жди распоряжений.
– Да ты понимаешь ли или нет, что ждать-то нельзя. Меры принимать немедленно надо, а он не шьет, не порет!
– Нагибин тяжкодум и всегда такой был, а ты ждал, что он для тебя так и запрыгает.
– Да не для меня! – с сердцем закричал Крапивин. – Что ты бестолкового-то из себя корчишь? Ведь люди мрут, ведь я убежден, что болеют и умирают от испорченного хлеба. Я вот за стол спокойно сесть не могу, за еду приняться не могу. Все во мне вот как кипит.
– Ну, это, брат, напрасно! Не нравится мне в тебе эта горячка. Перестань, давай-ка лучше выпьем, да я у тебя и пообедаю, – сказал Назаров, садясь к накрытому уже столу.
Крапивин не отвечал и быстро шагал из угла в угол, глубоко задумавшись.
– Все будет зависеть от того, какой на этих днях хлеб выдавать будут, – сказал он, наконец, как будто успокоившись несколько и присаживаясь к столу, у которого уже сидел Назаров над налитой тарелкой щей.
Вечером Семен Васильевич сообщил Крапивину, что Нагибин призывал к себе запасчика и, вероятно, сделал надлежащее распоряжение.
– А вы все-таки спросили бы Архипова, зачем его звал Нагибин и как распорядился?
– Да я не видел его, он не зашел в контору от Нагибина, да если б и зашел, то немного от него добьешься. Он ведь такой же кряж, как и Нагибин.
– Ну, будем ждать, – вздохнул Крапивин.
Но спокойно ждать ему не пришлось. Рано утром на другой день его позвали к умирающей родильнице. Роды наступили преждевременно, за Крапивиным послали поздно, женщина мучилась уже вторые сутки и, несмотря на все его старание спасти ее, через несколько часов умерла. Крапивин подробно расспросил о том, что она ела перед тем, как захворала, и узнал, что она ела вместе со всеми горячий, только что испеченный хлеб с солеными грибами.
– Хлеб у нас плохой, – сказал муж больной, – мы все животами замаялись.
Василий Иванович велел завернуть себе в платок муки и хлеба и, уходя, сказал мужику:
– Завтра вам станут муку выдавать, и если опять такую же будут давать, не берите, просите хорошей. В другом амбаре есть хорошая.
– Да ведь не дадут, пожалуй, – уныло сказал мужик, опустив на грудь всклокоченную голову.
– Хлебом твоя жена отравилась, и от хлеба произошли преждевременные роды, от хлеба она умерла, и все вы болеете от него же, – сердито сказал Крапивин и поскорее ушел, почти убежал из избы, в которой поднялся плач и причитания. Он заходил еще в несколько домов, спрашивал о здоровье, везде были больные, а мука, которую он смотрел, у всех была негодная, испорченная. И везде с сердитым и сильно побледневшим лицом он говорил бабам, чтоб не брали эту муку, если завтра ее же будут выдавать, а просили бы другой, хорошей, говорил им, что мука эта вредная, что жена рабочего Сапегина умерла от этого вредного хлеба, и предсказывал ту же участь всем, предостерегая особенно беременных.
Весть о смерти Сапегиной всех поразила ужасом, ее жалели, жалели ребят и мужа. Все женщины страшно волновались, бегали из дома в дом и сговаривались не брать вредной муки. Обыкновенно муку и весь съестной провиант получали больше женщины, потому что мужья находились на работе и не все могли отлучаться за получкой. Крапивин на это и рассчитывал: «Пусть бабы действуют, – думал он, – их рев и просьбы скорее проймут этих толстокожих». Грустный, с понурой головой, уже в сумерки возвращался он с своей неудачной практики и недалеко от дома Архипова почти наткнулся на Лизу.
– Здравствуйте, – сказала ему обрадованная неожиданной встречей девушка. – Куда это вы ходили?
– Ах, Лиза! – воскликнул Крапивин, очнувшись, и неожиданно для себя и еще более для Лизы обнял и поцеловал девушку.
– Что вы? Что вы это? Ведь нас могут увидеть, – испугавшись и сконфузившись, проговорила Лиза, быстрым движением освобождаясь из его объятий.
– Простите, Лиза, я так обрадовался вам, – умоляющим тоном говорил Крапивин, – мне так хотелось видеть вас, говорить с вами, увидал и потерял голову от радости. Куда вы идете?
– Я к тете. Она присылала за мной. Мы можем пойти вместе вот по этой улице, так дальше будет, но зато мы можем поговорить дорогой.
– Спасибо, Лиза, – Василий Иванович, взяв Лизу под руку, повернул с ней в узенькую и пустую боковую улочку.
– Лиза, милая, я страшно измучился за эти два дня, – заговорил Василий Иванович, крепко прижимая к себе руку Лизы. – Люди болеют и умирают даже, а с Нагибиным говорить нельзя. Болеют от вредного, испорченного хлеба, а мое донесение в правление до сих пор не отправлено, и если завтра он не распорядится выдавать хорошую муку, я просто не знаю, что будет.
– Вероятно, дядя приказал уже. Он вчера еще присылал за отцом.
– А Петр Яковлевич ничего не говорил, возвратившись, о чем у них речь была?
– Ничего. Отец никогда не говорит со мной ни о чем, кроме домашнего дела, – грустно ответила Лиза.
– Жаль, жаль! И ничего у них не узнаешь толком. Я говорил Нагибину, и просил, и убеждал, и доказывал, и на все один ответ: не ваше дело. Думаю сегодня вечером еще сходить, сообщу, что часа два тому назад умерла жена рабочего Сапегина, умерла именно от вредного хлеба, в этом я убежден.
– Боже мой, какая жалость! – вскричала Лиза. – Ведь она еще молодая, и детей у них маленьких много.
– И вот по милости дурного отношения начальства к нуждам рабочих дети стали сиротами, – гневно сказал Василий Иванович.
В душе он винил в этом деле Архипова более, чем Николая Модестовича: тот мог и не знать, какую муку выдает запасчик, но сам запасчик уже непременно должен был знать качество муки, как опытный человек, полжизни проведший у этого дела. Но говорить Лизе про недобросовеетность ее отца Василий Иванович не нашел возможным. Они тихо шли несколько времени в грустном молчании.
– Дай бог, чтобы устроилось все к лучшему, – сказал, наконец, Крапивин, вздыхая. – Но, Лиза, милая, если случится, что мне пострадать придется из-за этой истории, хотя я уверен, что правда рано или поздно обнаружится, но временно мне все-таки придется потерпеть, ведь ты не разлюбишь меня, не забудешь?
– Ни за что, никогда! – горячо ответила Лиза и опять очутилась в крепких объятиях своего милого и на этот раз уже не уклонялась от них.
Темная, безлюдная улочка хорошо укрывала их от нескромных взоров, и молодые люди шли несколько времени, обнявшись и позабыв обо всем на свете, только полушепотом перекидываясь ласковыми словами. Но вот они достигли того переулка, по которому Лизе надлежало повернуть к дому дяди, прошли его, и Лиза стала просить Василия Ивановича не провожать ее дальше, чтобы не встретить кого-либо из прислуги Нагибина, и, простившись с милым горячим поцелуем, она убежала. Василий Иванович постоял, глядя вслед убегающей девушке, пока она не скрылась в темноте наступающего вечера, и медленно побрел в свою больницу.








