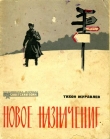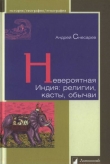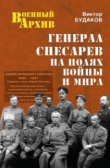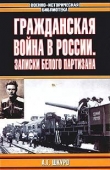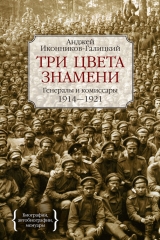
Текст книги "Три цвета знамени. Генералы и комиссары. 1914–1921"
Автор книги: Анджей Иконников-Галицкий
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Два главкома
Деникин
Если кто из генералов русской армии времен Первой мировой войны и революционной смуты мог бы именоваться генералом солдатским, народным, так это Антон Иванович Деникин, сын офицера, выслужившегося из солдат, внук крепостного крестьянина. Именно ему по прихотливой воле истории привелось возглавить поход против власти, именовавшей себя властью Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Сторонники и соратники хотели видеть в нем народного вождя, нового Дмитрия Пожарского. Но нет, вождем он не стал. Провал Белого дела превратил его в исторического неудачника, обрек на долгие годы вынужденного бездействия в эмиграции, затмил ту полководческую известность, даже славу, которую принесла ему мировая война на австро-венгерском фронте.
Впрочем, полководческая слава всегда двусмысленна и ценность ее сомнительна. А в Деникине ни двусмысленности, ни сомнительности нет. Человек единого пути. Никуда не сворачивал и нигде не отсиживался. Шел туда, куда предписано по диспозиции. Вся жизнь – поход. А что в конце? И будет ли конец этому походу? Ведь и после смерти продолжается путь: похоронен в Детройте, перезахоронен в Кесвилле (Джексон, Нью-Джерси), вновь перенесены его останки в Москву, в Свято-Данилов монастырь…
Начало походаКогда у отставного майора Ивана Деникина родился сын, майору было шестьдесят пять лет. Майор был из крепостных. Отдали его в солдаты, по семейному преданию, в двадцать семь лет. О его житье-бытье до солдатчины, о его крестьянской родне ничего не известно, как и о его первом, бездетном браке. Служил долго и добросовестно: двадцать лет и два года, рядовым, потом унтером; и был наконец допущен к экзамену на офицерский чин. В 1856 году, на пятидесятом году жизни, дождался производства в прапорщики. Направлен в пограничную стражу, в Польшу, на российско-прусскую границу. И снова служил государю, тянул лямку еще тринадцать лет. В 1869 году, при отставке, получил чин майора и пенсион: тридцать шесть рублей в месяц. Жить остался в Польше. Тут нашел себе невесту: бедную, но из благородных. Была она, Эльжбета Вржесинска, на тридцать шесть лет моложе мужа. Стала Елизаветой Федоровной Деникиной, женой отставного штаб-офицера. Он православный, она католичка. Он говорит только по-русски, она только по-польски. Но друг друга научились понимать неплохо. По истечении положенного после свадьбы срока, 4 декабря 1872 года, родился у них сын. Назвали Антоном.
Отвлекусь.
В памяти моей семьи сохранилась история, во многом похожая. Моя родня по одной из линий была родом из Пинска Минской губернии. Тогда это был городок с населением на две трети еврейским, на четверть польским. Русских было мало, в основном присланные служащие – чиновники, офицеры. Обитало там польское семейство Макарских – тоже «благородные, но бедные». Своим шляхетским происхождением гордились, а есть в доме нечего. Положение случалось до того отчаянное, до того в тягость был каждый лишний рот, что когда прапрапрабабушка моя заболела чем-то заразным (чуть ли не холерой), то ее дочку, малышку, родственники подложили к ней специально – чтоб заразилась и умерла. Но малышка выжила. Звали ее Мария. Выросла – и стала красавицей-бесприданницей. Положение бесприданницы безвыходное: сиди зарабатывай шитьем на кусок хлеба и жди, когда кто-нибудь посватается. Посватался мой прапрадед, отставной унтер-офицер из кантонистов – солдатских или унтер-офицерских детей. Жених был много старше невесты, лет на тридцать. Но куда денешься? И Марыся Макарская стала Марией Игнатьевной Кондратьевой.
Достойно удивления то, что этот брак, как и брак Деникиных, оказался удачным, прочным. И когда прапрадед мой, Иван Александрович Кондратьев, человек беспокойный и бродячий, уехал куда-то по делам и пропал на долгие годы, – Мария Игнатьевна, уже мать двоих детей, оставалась ему верна и не вышла замуж, хотя долгий срок безвестного отсутствия мужа позволял ей это сделать, да и женихи присватывались. Дождалась: нежданно-негаданно суженый вернулся. Следствием его возвращения стала дочка Эмилия, 1887 года рождения. Эмилия Ивановна, тетя Миля, запечатлелась в моей детской памяти: маленькая, дивная старушка, с белыми-белыми волосами и нежно-обходительными манерами. Ее старший брат, мой прадед Александр Иванович Кондратьев, был почти ровесником Антона Ивановича Деникина. Он пропал без вести во время Гражданской войны – кажется, где-то там, на деникинском фронте…
Вернемся к делу.
Антон похож на отца. Это неистребимое сходство сохранилось в нем до конца дней; оно проступает на всех его фотографиях. Кто он? Военный, военный насквозь, до последнего волоска бороды и усов. Генерал. Даже в штатском платье, даже на поздних стариковских фотографиях – генерал. Но не генерал-аристократ, как Брусилов, не генерал-интеллигент, как Май-Маевский, не генерал-чиновник, как Алексеев, не генерал-вождь, как Корнилов. А генерал-солдат или, точнее, генерал-унтер: проникнутый духом службы, правдой службы, верою в службу. Взгляд его прям, светел и по-своему добр. Так старый заслуженный фельдфебель смотрит на испуганного новобранца. «Ну-с, парнишка, слабоват ты у нас – да ничего, подтянем! Не боись! Держи хвост пистолетом! Смирно! Кругом! Шагом… арш!»
Как и полагается солдату, Деникин всю жизнь прожил в походной скудости. Детство и юность – так и просто в бедности. 36 рублей отцовской пенсии означали по тем временам минимум во всем. На такие деньги невозможно было прожить в Варшаве, поэтому Деникины поначалу обосновались в деревеньке Шпеталь Дольни, и лишь когда надо было отправлять Антона в школу, перебрались в ближний городок Влоцлавск [69]69
Совр. Влоцлавек, Польша.
[Закрыть]Варшавской губернии, на Висле. Там жили в доме на Пекарской улице, в двухкомнатной квартире впятером: отец, мать, Антон, дед – отец матери – и прислуга, она же нянька Аполония.
Отец умер, когда Антону, ученику реального училища (реалисту) было тринадцать лет. Пенсия вдове полагалась совсем скудная – двадцать рублей. Реалисту пришлось подрабатывать – частные уроки давать. Впрочем, репетиторство в те времена было обычным заработком малоимущих реалистов и гимназистов старших классов. В часы нудных уроков, в училище и дома, в мальчишеских играх на берегу Вислы созревала в сердце Антона мечта: стать как отец, стать офицером. Но он не мог и думать о поступлении в привилегированную военную школу, подобно Каледину или Брусилову. Окончил реальное училище (в городе Ловиче, ибо во Влоцлавске не имелось последнего, седьмого класса), записался вольноопределяющимся в 1-й стрелковый полк и через положенные три месяца был зачислен на военно-училищный курс при Киевском юнкерском училище.
Из воспоминаний Деникина:
«…Условия жизни в училище отличались суровой простотой и скромностью, являясь хорошей школой для вступления в обер-офицерскую жизнь. Надо заметить, что в начале 90-х годов младший офицер получал в месяц около 50 рублей содержания. И хотя до революции дважды увеличивалось содержание, но стандарт офицерской жизни стоял всегда на низком уровне. И потому, когда во время революции митинговые ораторы большевистского лагеря причисляли к буржуазии, ими ненавидимой и истребляемой, офицерство, это была неправда: русский офицерский корпус в главной массе своей принадлежал к категории трудового интеллигентного пролетариата» [70]70
Деникин А. И.Путь русского офицера. М., 1991. С. 45–46.
[Закрыть].
4 августа 1892 года пришел приказ о производстве в офицеры окончивших военно-училищный курс. В этот день Антон Деникин напился пьян – как он сам утверждает, единственный раз в жизни. В сентябре того же года, после положенного двадцативосьмидневного отпуска, подпоручик Деникин явился к месту службы, во 2-ю артиллерийскую бригаду в захолустное местечко Бела [71]71
Совр. Бяла-Подляска, Польша.
[Закрыть]Седлецкой губернии, на 50 рублей жалованья. Как еще Пушкин писал: «Жизнь армейского офицера известна…»
Из воспоминаний Деникина:
«Из года в год все то же, все то же. Одни и те же разговоры и шутки. Лишь два-три дома, где можно было не только повеселиться, но и поговорить на серьезные темы. Ни один лектор, ни одна порядочная труппа не забредала в нашу глушь. Словом, серенькая жизнь, маленькие интересы – „чеховские будни“» [72]72
Деникин А. И.Путь русского офицера. С. 58.
[Закрыть].
От скуки чем не займешься? Деникин стал пописывать: забавные рассказики из местечковой жизни, фельетоны, а потом и статьи посерьезнее, на темы военной жизни. Печатались они, начиная с 1898 года, под псевдонимом Иван Ночин в русских изданиях Варшавы (журнал «Офицерская жизнь», газета «Варшавский дневник») и в Петербурге, в военном журнале «Разведчик». Конечно, это не великие литературные произведения. Но они многое говорят об авторе. Он образован и весьма начитан, кругозор его широк – не подумаешь, что пишет армейский офицер из захолустного гарнизона. Он наблюдателен, владеет даром слова. Он обладает вполне сложившимся мировоззрением, которое можно охарактеризовать так: либеральный гуманизм на основании здравого смысла (несколько прямолинейного, по-военному). И еще один мотив здесь постоянно звучит; назовем его так: тревожный патриотизм. Как в словах лесковского Левши: «В Англии ружья кирпичом не чистят… Передайте государю, а то вдруг война, так они стрелять не годятся».
В статьях Ночина:
«Армейский поезд идет с громадным опозданием вследствие загромождения пути».
«Все сверху донизу требует фундаментального ремонта».
«Более чем когда-либо нам нужен мир. Новая война была бы для нас несчастьем» [73]73
Цит. по: Теребов О. В.А. И. Деникин против канцелярщины, показухи и произвола // Военно-исторический журнал. 1994. № 2. С. 90–94.
[Закрыть].
Подпоручик, поручик, штабс-капитан Деникин еще не знает, с чем столкнется, когда будет генералом…
Три года Деникин служил в бригаде. И вместе с тремя другими офицерами бригады принял решение пойти на приступ далекой манящей крепости – Николаевской академии Генерального штаба в Петербурге.
Ничего величественногоУдивительно: в характеристиках Деникина все (или почти все) мемуаристы сходятся на положительном знаке. Даже у недоброжелателей его образ вызывает плохо или хорошо скрываемое сочувствие; у доброжелателей эмоции доходят до восторга. Право же, скучновато становится: эдакая фельдфебельская добропорядочность, гугенотская праведность…
Константин Николаевич Соколов, юрист, публицист, член Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России в 1918–1919 годах:
«Впечатление, которое я получил от первого свидания с генералом Деникиным и которое неоднократно имел случай проверить при многочисленных последующих встречах с ним, было впечатление неотразимого обаяния. Наружность… самая заурядная. Ничего величественного. Ничего демонического. Просто русский армейский генерал, с наклонностью к полноте, с большой голой головой, окаймленной бритыми седеющими волосами, с бородкой клинышком и закрученными усами. Но прямо пленительна застенчивая суровость его неловких, как будто связанных, манер, и прямой, упрямый взгляд, разрешающийся добродушной улыбкой и заразительным смешком… В генерале Деникине я увидел не Наполеона, не героя, не вождя, но просто честного, стойкого и доблестного человека, одного из тех „добрых“ русских людей, которые, если верить Ключевскому, вывели Россию из Смутного времени» [74]74
Соколов К. Н.Правление генерала Деникина (из воспоминаний). София, 1921. С. 39–40.
[Закрыть].
Другой Соколов, Владимир Иванович (известен нам по тем нелицеприятным характеристикам, которые он дает в своих воспоминаниях Каледину и Брусилову), генерал, в 1914–1916 годах воевал бок о бок с Деникиным. Мемуарист желчный, всеми недовольный, добавляет красок к портрету Деникина:
«Это человек необъятного честолюбия, к удовлетворению он шел всеми способами, до самой дешевой рекламы включительно, но при этом он был человек безусловно храбрый, не только с военным, но и с гражданским мужеством. Мы знали, что своего Деникин не упустит, а при случае захватит и чужое, разумеется, не в материальном, а в моральном смысле; хорошее дело раздувалось в выходящее за обычные рамки. Для рекламных целей Деникин держал при себе специального адъютанта (забыл фамилию), который посылал корреспонденции во все мелкие бульварные южные газетки, откуда в перепечатке реклама попадала и в большую прессу. <…>
Деникин не выделялся острым, живым умом и способностью быстро схватывать и правильно оценивать обстановку, т. е. качествами крупного начальника, не любил штабную службу и вообще представлял собою чисто строевого начальника, мужественного и отважного, способного на личный пример и самопожертвование. Поэтому в роли корпусного командира он чувствовал себя не в своей тарелке, ему необходима была близость боевых частей, но опять-таки не крупного масштаба, с которым он разбирался плохо» [75]75
Соколов В. И.Заметки…; сайт «Русская армия в Великой войне»: http://www.grwar.ru/library/Sokoloff-Impression/SI_01.html.
[Закрыть].
Барон Петр Николаевич Врангель, генерал, преемник Деникина на посту главнокомандующего Вооруженными силами Юга России; как аристократ и как бывший подчиненный, ставший преемником, относится к Деникину положительно, но немного свысока:
«Среднего роста, плотный, несколько расположенный к полноте, с небольшой бородкой и длинными черными с значительной проседью усами, грубоватым низким голосом, генерал Деникин производил впечатление вдумчивого, твердого, кряжистого, чисто русского человека. Он имел репутацию честного солдата, храброго, способного и обладавшего большой военной эрудицией начальника. <…>
Один из наиболее выдающихся наших генералов, недюжинных способностей, обладавший обширными военными знаниями и большим боевым опытом, он в течение Великой войны заслуженно выдвинулся среди военачальников. Во главе своей „железной дивизии“ он имел ряд блестящих дел. <…> Он отлично владел словом, речь его была сильна и образна. В то же время, говоря с войсками, он не умел овладевать сердцами людей. Самим внешним обликом своим, мало красочным, обыденным, он напоминал среднего обывателя. У него не было всего того, что действует на толпу, зажигает сердца и овладевает душами. Пройдя суровую жизненную школу, пробившись сквозь армейскую толщу исключительно благодаря знаниям и труду, он выработал свой собственный и определенный взгляд на условия и явления жизни, твердо и определенно этого взгляда держался, исключая все то, что, казалось ему, находится вне этих непререкаемых для него истин. Сын армейского офицера, сам большую часть своей службы проведший в армии, он, оказавшись на ее верхах, сохранил многие характерные черты своей среды – провинциальной, мелкобуржуазной, с либеральным оттенком» [76]76
Врангель П. Н.Записки. Кн. 1. Гл. 2; сайт «Русская императорская армия»: http://www.regiment.ru/Lib/B/41/2.htm, 3.htm.
[Закрыть].
Священник Георгий Шавельский, в 1914–1917 годах протопресвитер (руководитель духовенства) русской армии и флота, в 1919–1920 годах протопресвитер Вооруженных сил Юга России, добавляет тонкой нравственной позолоты:
«К сожалению, надо сказать, что ни в гражданских, ни в военных кругах ген. Деникин особой любовью не пользовался. Кроме его замкнутости, этому в сильной степени способствовало следующее обстоятельство. И офицерство, и все чины Добровольческой армии, и сам ген. Деникин влачили нищенское существование. <…>
Сам генерал Деникин летом 1919 г. ходил в теплой черкеске. Когда его спросили, почему он это делает, он ответил:
– Штаны последние изорвались, а летняя рубаха не может прикрыть их.
Все обвиняли ген. Деникина в скупости. Между тем скупость Деникина вызывалась его поразительной честностью и опасением, как бы потом не обвинили его в расточительности. Но толпа видела крохотные оклады, особенно заметные при сравнении их с донскими и кубанскими окладами, испытывала нужду и не замечала чудной души, прекрасных порывов, кристальной честности Деникина» [77]77
Шавельский Г. И.Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Т. 2. Нью-Йорк, 1954. С. 326–327.
[Закрыть].
Относительно замкнутости отец Георгий, думаю, ошибается: Деникин был вполне общительным человеком – правда, в своем кругу. Среди пестрой публики, составлявшей окружение главнокомандующего Вооруженными силами Юга России в 1919 году, он чувствовал себя непривычно, неловко, оттого и казался замкнутым.
ХарактерНа фоне осторожно-сочувственных или прямо хвалебных отзывов о Деникине диссонансом звучит краткий фрагмент в мемуарах Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича:
«Антона Ивановича я знал еще по Академии Генерального штаба, слушателями которой мы были в одно и то же время. Приходилось мне встречаться с Деникиным и в годы службы в Киевском военном округе.
Репутация у него была незавидная. Говорили, что он картежник, не очень чисто играющий. Поговаривали и о долгах, которые Деникин любил делать, но никогда не спешил отдавать. Но фронт заставляет радоваться встрече с любым старым знакомым, и я не без удовольствия встретился с Антоном Ивановичем…
Деникин был все тот же – со склонностью к полноте, с такой же, но уже тронутой сединой шаблонной бородкой на невыразительном лице и излюбленными сапогами „бутылками“ на толстых ногах.
Я пригласил генерала к себе. Расторопный Смыков, мой верный слуга и друг, мгновенно раздул самовар, среди тайных его запасов оказались водка и необходимая закуска, и мы с Антоном Ивановичем не без приятности провели вечер.
– А знаете, Михаил Дмитрич, я ведь того… собрался уходить от Брусилова, – неожиданно признался Деникин…
– С чего бы это, Антон Иванович? – удивился я. – Ведь оперативная работа в штабе армии куда как интересна.
– Нет, нет, уйду в строй, – сказал Деникин. – Там, смотришь, боишко, чинишко, орденишко! А в штабе гни только спину над бумагами. Не по моему характеру это дело…» [78]78
Бонч-Бруевич М. Д.Вся власть Советам. М., 1957. С. 29.
[Закрыть]
О генерале Бонч-Бруевиче у нас речь впереди. Многое из того, что он пишет, надо читать как шифровку, в которой слова иногда меняют значения на противоположные. В своих мемуарах, написанных в советские времена, бывший царский генерал, исполнитель тайных поручений великого князя Николая Николаевича, многие годы ходивший под ножом сталинских чисток, естественно, не мог положительно отозваться о враге советской власти номер один, каковым считался Деникин. Отсюда эти навязчивые негативные эпитеты: если бородка, то шаблонная; если лицо, то невыразительное; если ноги, то толстые. Отсюда же бездоказательные, на уровне клеветы, обвинения в нечистой картежной игре. Все остальное построено по принципу: знающий – поймет. «Знающий» читатель понимал, конечно, что долги, которые якобы «любил делать» Деникин, обусловлены были скудостью жалованья армейского офицера. Многие офицеры жили в долг, и особенно – слушатели Академии Генерального штаба, из непритязательной провинции попавшие в столицу с ее блеском и дороговизной.
Главное, Бонч-Бруевич признает, что рад был встрече с Деникиным. В Советской стране такое признание уже стоило дорого и могло обернуться для пишущего крупными неприятностями. Суть их разговора в том, что Деникин высказывает намерение с теплого, карьерно выгодного штабного места уйти в строй, то есть, в условиях того момента, – прямо на передовую. Начальник бригады, каковым был назначен Деникин в сентябре 1914 года, – это командир, непосредственно руководящий боем, не засиживающийся на командном пункте, в штабе или в укрытии. Из всех генеральских должностей эта была связана с наибольшим риском для жизни, ведь «боишки» на фронте шли жестокие, кровавые. А вот в отношении «чинишек» она особых перспектив не сулила: служба начальника бригады проходила где-то там, в строю, а генерал-квартирмейстера – на глазах высокого начальства.
Кстати, и заключительная фраза, насчет характера, – тоже для посвященных.
Бонч-Бруевич окончил Академию Генштаба на год раньше Деникина, но был, конечно же, наслышан о скандальной истории следующего выпуска, 1899 года. Историю эту Деникин потом подробно опишет в книге воспоминаний «Путь русского офицера».
А дело вот в чем.
Для простого армейского офицера без связей едва ли не единственный путь к чинам в мирное время открывался через Академию Генштаба. Окончившие ее по первому разряду причислялись к Генеральному штабу, что впоследствии давало преимущество при замещении различных командных и штабных должностей. Однако достичь вожделенного первого разряда было трудно. Из примерно полутора тысяч офицеров, ежегодно устремлявшихся на штурм академических высот, более тысячи отсеивались на экзаменах в штабах округов. Из оставшихся только полтораста человек, после сдачи экзаменов в самой Академии, зачислялись на первый курс; многие потом отсеивались; третий (последний) курс оканчивало около сотни, из них лишь первые пятьдесят – по первому разряду. Как раз перед деникинским выпуском в Академии сменилось начальство. Новая метла – генерал Сухотин, креатура военного министра Куропаткина, – выметая старинный сор, задела и слушателей третьего курса. В последний момент перед выпуском была изменена система начисления баллов (по утверждению Деникина, изменена произвольно, сумбурно и незаконно). В результате несколько выпускников, уже состоявших в списках перворазрядников, были из него вычеркнуты. Один из них – штабс-капитан Деникин. Крах карьеры.
И вот Деникин сделал то, на что никогда не решились бы 999 из тысячи самых храбрых офицеров русской армии. Он подал жалобу непосредственно государю императору. Можно представить себе, какой переполох поднялся в Академии, в Генштабе, в министерстве! О поступке Деникина только и говорили выпускники и слушатели Академии. Дело пытались замять всеми способами. Предлагали подать «прошение о милости», обещая благоприятный ответ. Деникин отрезал: «Милости не прошу, а добиваюсь того, что мне полагается по праву».
Жалоба штабс-капитана завертелась в водовороте придворно-правительственных интриг. Обвинение начальника Академии в беззаконии било по Куропаткину. Враги военного министра, имевшие поддержку в лагере министра финансов Витте, рьяно взялись помогать «бедному офицеру», постарались довести историю до императора в выгодном им свете – и, видимо, перестарались. Разумеется, Деникин не имел понятия об этих тайных пружинах своего дела. Он ждал правды от государя.
Настал день, когда выпускники Академии должны были представиться Николаю II. Во дворце они были выстроены в порядке полученных баллов. Деникин оказался за роковой чертой, во втором разряде. Наконец вошел государь император.
Из воспоминаний Деникина:
«По природе своей человек застенчивый, он, по-видимому, испытывал немалое смущение во время такого большого приема – нескольких сот офицеров, каждому из которых предстояло задать несколько вопросов, сказать что-либо приветливое. Это чувствовалось по его добрым, словно тоскующим глазам, по томительным паузам в разговоре и по нервному подергиванию аксельбантом.
Подошел, наконец, ко мне. Я почувствовал на себе со стороны чьи-то тяжелые, давящие взоры… Я назвал свой чин и фамилию. Раздался голос государя:
– Ну, а вы как думаете устроиться?
– Не знаю. Жду решения Вашего Императорского Величества.
Государь повернулся вполоборота и вопросительно взглянул на военного министра. Генерал Куропаткин низко наклонился и доложил:
– Этот офицер, Ваше Величество, не причислен к Генеральному штабу за характер.
Государь повернулся опять ко мне, нервно обдернул аксельбант и задал еще два незначительных вопроса: долго ли я на службе и где расположена моя бригада? Приветливо кивнул и пошел дальше.
Я видел, как просветлели лица моего начальства. Это было так заметно, что вызвало улыбки у некоторых близ стоявших чинов свиты… У меня же от разговора, столь мучительно жданного, остался тяжелый осадок на душе и разочарование… в „правде воли монаршей“…» [79]79
Деникин А. И.Путь русского офицера. С. 81–82.
[Закрыть]
Так что слова о характере, произнесенные Деникиным в разговоре с Бонч-Бруевичем (или приписанные ему Бонч-Бруевичем) имели определенный и весьма лестный для репутации Деникина подтекст. Не причислен за характер.
Правда, в капитаны он был-таки при выпуске произведен. Вернулся в бригаду. Но не успокоился. Через два года написал письмо Куропаткину. И получил неожиданный ответ в виде телеграммы: высочайшим повелением он включен в списки офицеров Генерального штаба. Видимо, в Петербурге, в министерстве или в Зимнем дворце, изменилась погода.
В мемуарах Деникин приписал это чудо раскаянию Куропаткина. Но, надо полагать, и в первом и во втором случае решение определялось все-таки именно «волей монаршей». Тогда, на церемонии представления, самодержец не мог оказать высочайшую милость офицеру, потому что это было бы расценено всеми как выражение немилости министру. В чуткой к интригам придворной среде такой афронт имел бы непременным следствием бегство сторонников Куропаткина от него на противоположную сторону. Шаткое равновесие группировок было бы нарушено, «система сдержек и противовесов» пришла бы в опасное движение… Нельзя!
Нельзя сейчас. Надо выждать. Придет благоприятный момент.
Эти слова часто, слишком часто вынужден был говорить себе последний российский самодержец. В случае с капитаном Деникиным благоприятный момент пришел. Но в других случаях его так и не удалось дождаться: в очень важных случаях, на судьбоносных переломах. И вот в итоге император с «добрыми, словно тоскующими глазами» оказался жертвой собственного бессилия. И с ним – тысячи, десятки тысяч, миллионы…
Впрочем, это все станет явью через пятнадцать лет после благополучного завершения истории о деникинском характере.