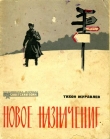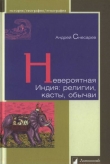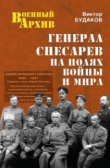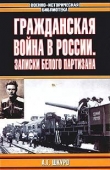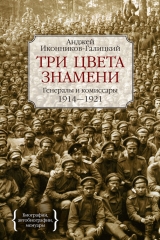
Текст книги "Три цвета знамени. Генералы и комиссары. 1914–1921"
Автор книги: Анджей Иконников-Галицкий
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Люди взрыва, или Сойдется Запад с Востоком
Корнилов
Лавр Корнилов принадлежал к категории людей, которых можно назвать неуемными. Ему не сиделось на месте. Он никогда не был доволен занимаемым положением. Он всегда рвался куда-то – вперед и вверх. Где бы он ни служил, служба заканчивалась ссорой с начальством. Сейчас уже невозможно понять, кто был прав, а кто виноват в этих столкновениях. Ясно только одно: на мировую Корнилов не соглашался. Конфликт и риск необходимы были ему как воздух. Он сам шел прямиком на опасность, тянул за собой и подчиненных, и вышестоящих, и близких. Казалось, он был начинен каким-то взрывчатым веществом. Сама его гибель от случайного фугасного снаряда (в те времена такие снаряды называли гранатами) выглядит трагически символично. Как будто ушел в энергию взрыва, до конца растворился в ней.
В манерах угловатНеуемность была, по-видимому, у него в роду. Его старший брат Александр был исключен из военной прогимназии за «предерзостное поведение». Другой брат, Автоном, страдал эпилепсией – болезнью, вызванной той неуправляемой энергией, которая бывает спрятана внутри человека. Впрочем, проследить в поколениях истоки корниловской неуемности не представляется возможным: родословная его родителей неизвестна.
Известно, что отец его, Георгий (Егор) Николаевич Корнилов, был семиреченский казак, из рядовых, дослужившийся до младшего офицерского чина – хорунжего. Перешел на гражданскую службу, но там не преуспел, поднялся лишь на одну ступень Табели о рангах, в коллежские секретари. Однако был человек не простой: с ним водил дружбу Григорий Николаевич Потанин, знаменитый путешественник, географ, этнограф, ссыльнокаторжный и тоже яркий представитель породы неуемных людей. О матери Корнилова Прасковье Ильиничне [116]116
В некоторых источниках мемуарного характера встречаются другие имя и отчество матери Корнилова – Мария Ивановна.
[Закрыть]говорили, что она калмыцкого (ойрат-монгольского) рода, и чуть ли не ханского. Никакими документами это не подтверждается; ее девичья фамилия – Хлыновская – указывает на происхождение от переселенцев (крестьян? чиновников? ссыльных?). Но все же очевидно: кто-то из предков передал в наследство Лавру Георгиевичу монгольский разрез глаз и горячую кровь кочевника.
Родился он, по документам, 18 апреля 1870 года в Каркаралинске, уездном городе Семипалатинской области (по другим сведениям – в Усть-Каменогорске, куда на некоторое время переехал его отец по делам службы). Впоследствии, когда Лавр Георгиевич стал знаменит, пошла гулять легенда: будто бы был он сыном не своих официальных родителей, а казачки, сестры Егора Николаевича Корнилова, и некоего крещеного калмыка Гильджира Дельдинова. Никаких доказательств этому нет, но легенда живет, как отблеск того романтического сияния, которое всегда окружало образ Корнилова.
Обратим внимание на один крохотный, но любопытный завиток того узора, которым Творец истории любит украшать ткань бытия. Всего через четыре дня после того, как в доме Корниловых запищал младенец, нареченный Лавром, за две с половиной тысячи верст от Каркаралинска, в городе Симбирске, в семье инспектора народных училищ Ильи Николаевича Ульянова тоже родился сын. Его назвали Владимиром. Пройдет сорок семь с половиной лет, и ровесники – Лавр Корнилов и Владимир Ульянов-Ленин – станут заклятыми политическими врагами, главными фигурами-символами двух противоборствующих лагерей.
Но тогда родители ничего подобного предвидеть не могли и просто радовались своим малышам.
Мальчик Лавр рос смышленым, активным. Рано проявил способности к учебе. Начальную школу окончил в Каркаралинске. Оттуда семья Корниловых перебралась в совсем уже пограничный Зайсан. Там год подготовки к серьезнейшему испытанию – поступлению в Сибирский Императора Александра I кадетский корпус. В корпус, в Омск, двенадцатилетнему мальчишке пришлось отправиться из привольных казахских степей и чистых предгорий Алтая. Затем – шесть лет учебы и окончание корпуса с отличием. Такой успех давал ему право продолжения образования и выбора военного училища. В 1889 году из Омска Лавр отправляется в Петербург и поступает в Михайловское артиллерийское училище [117]117
В мемуарах генерал-лейтенанта Самойло есть упоминание о Корнилове как об однокашнике автора по Московскому Алексеевскому училищу: Самойло А. А.Две жизни. М., 1958. С. 36. Одно из двух: либо память подвела мемуариста, либо Корнилов на какое-то время был переведен в Алексеевское училище – факт, насколько нам известно, не отмеченный его биографами.
[Закрыть].
Интересно, что в характеристиках, выданных кадету и юнкеру Корнилову, преобладают вовсе не бунтарские, а идиллические мотивы: «В классе внимателен и заботлив, очень прилежен… Скромен, правдив, послушен, очень бережлив… К старшим почтителен, товарищами очень любим…»; «…тих, скромен, добр, трудолюбив, послушен, исполнителен, приветлив…». Правда, намечаются и другие оттенки образа: «В манерах угловат»; «Вследствие недостаточной воспитанности кажется грубоватым… Будучи очень самолюбивым… серьезно относится к наукам и военному делу» [118]118
Цит. по: Цветков В. Ж. Лавр Георгиевич Корнилов // Вопросы истории. 2006. № 1. С. 57; http://www.dk1868.ru/statii/kornilov1.htm (более полный текст).
[Закрыть].
Училище окончено в 1892 году по первому разряду. Как следствие – право выбора места службы. Подпоручик Корнилов мог бы выбрать столицу, но он выбирает близкий ему Туркестан. И через месяц прибывает в Ташкент, в 5-ю батарею Туркестанской артиллерийской бригады. Три года службы под Среднеазиатским солнцем, производство в поручики и новый рывок – в Николаевскую академию Генштаба. И вновь успех за успехом: поступил с наивысшим баллом, окончил в 1898 году с малой серебряной медалью. За академическими успехами – рост в чинах: на втором курсе – штабс-капитан, по окончании Академии – капитан.
Капитан – это старший обер-офицерский чин. Ступень серьезная. И возраст уже зрелый. Настало Корнилову время жениться. Невеста его – Таисия Марковина, дочь петербургского чиновника средней руки. Отныне маленькая, худенькая, как бы фарфоровая Тая станет спутницей своего беспокойного Лавра в его многотрудных походах.
А походы начались сразу же по окончании Академии. Корнилов снова отказывается от столичной карьеры и снова едет в Туркестан. На сей раз – в пограничный Термез, в распоряжение начальника 1-й Туркестанской линейной бригады генерал-майора Михаила Ефремовича Ионова.
Все дальше к востокуОт Термеза начинаются две дороги. Одна ведет в Душанбе и оттуда – на высокогорья Памира; другая соединяет цветущую Фергану с суровым Афганистаном. На этом пути, кратчайшем из пределов Российской империи в Индию, русским пограничным войскам противостоял афганский гарнизон Мазари-Шарифа и крепость Дейдади, прикрывавшая дороги к перевалам Гиндукуша. Крепость возводилась афганцами под руководством английских инженеров в спешном порядке и, разумеется, очень интересовала русское военное командование. Однако сведения, получаемые о ней традиционным способом – от платных осведомителей (таджиков и узбеков), – были непрофессиональны и ненадежны.
И тут Корнилов впервые показывает характер. На свой страх и риск, без ведома начальства, с двумя спутниками из местных совершает разведывательный рейд через границу. Помогли азиатская внешность и знание языков.
Из отчета Корнилова:
«План мой заключался в следующем: переодевшись туркменом, скрытно пройти у Чушка-Гузара линию афганских пограничных постов, далее же идти совершенно свободно, днем – на Балх, Дейдади, Тахтапуль, Мазар-и-Шериф и через Сиягырт вернуться в Патта-Гиссар. <…>
В ночь с 12 на 13 января мы переправились через Аму-Дарью на гупсарах (бурдюках) в кишлак Шор-Тепе. В последнем Худай-Назаром заблаговременно подготовлены были лошади» [119]119
Цит. по: Белоголовый Б. Г.Кашгарские письма Лавра Корнилова // Московский журнал. 1995. № 11.
[Закрыть].
Вернувшись через несколько дней, капитан Корнилов предоставил генералу Ионову подробное словесное описание, профессионально выполненные кроки` – эскизы крепости, и даже фотографии (что уж совсем удивительно: как удалось скрытно пронести туда и обратно громоздкий фотоаппарат, верный признак шпиона, да еще переправиться с ним вплавь через широкую Амударью?). За успешно проведенную операцию Ионов представил Корнилова к награде – ордену Святого Владимира, но от начальства получил два выговора: на свою долю и на долю Корнилова. Ташкентское начальство можно понять: обстановка на границе опасная, в любой момент жди войны; за спиной афганского правительства стоит могучая Британская империя… А тут такой случай: русский офицер незаконно пересекает границу, проникает на секретный объект, фотографирует, срисовывает план. Хорошо, что все обошлось, а если бы попался?
В этом эпизоде – тот Корнилов, который потом войдет в историю. Храбрец, азартный до безоглядности, не думающий о возможных последствиях своих действий, неуправляемый, привлекающий к себе и увлекающий, опасный и для врагов, и для своих.
Что делать с таким офицером? Через полгода после дейдадинской эскапады Корнилова переводят в штаб Туркестанского округа, а еще через несколько месяцев отправляют в Синьцзян, на должность офицера Генерального штаба при Императорском Российском Генеральном консульстве в Кашгаре. Если перевести на общепонятный язык – чрезвычайным и полномочным разведчиком в пограничной с Российским Туркестаном области Китайской империи. Уже в декабре 1899 года он с небольшим отрядом казаков отправляется разведывать горные дороги и тропы, ведущие из Кашгара на восток, в Яркенд.
Первый, декабрьский поход – разведка пути от укрепления Иркештам до города Кашгар (216 верст за девять дней). В марте 1900 года – изучение путей от Кашгара к Яркенду (в сопровождении двух казаков). В октябре – ноябре того же года – дальняя и трудная разведка (совместно с подпоручиком Кирилловым и двумя казаками): от Кашгара к Яркенду через Янги-Гиссар (187 верст по труднейшим горным тропам; шесть переходов); от Яркенда к Каргалыку (72 версты, два перехода). От селения Каргалык до города Хотана через Гуму (259 верст за двенадцать дней). В апреле 1901 года Корнилов отправляется в Сарыкол «для осмотра нашего поста и для личного ознакомления дел в Сарыколе». Затем, тою же весной, вместе с подпоручиком Кирилловым прошли и описали пути: от укрепления Таш-Курган до Кашгара через перевал Улуг-Рабат и укрепление Булун-Куль (261 верста за четырнадцать дней); от Таш-Кургана до Яркенда через Шинди, Чехил-Гумбез и Якка-арык (303 версты, четырнадцать дней марша); от Таш-Кургана до селения Янги-Гиссар через перевалы Тер-Арт и долину Кингулсу (284 версты за двенадцать дней) [120]120
Данные о походах Корнилова в районе Кашгара в статье: «По следам Богдановича и генерала Корнилова. Загадка перевала Старый Караташ» (без указания автора): http://www.risk.ru/users/leb/192008/.
[Закрыть].
Надо пояснить: горы над Кашгаром – не просто горы, а всем горам горы. Тут сходятся и в тугой узел завязываются хребты Памира, Тянь-Шаня и Кунь-Луня. Перевалы на путях от Кашгара и Яркенда к Таш-Кургану лежат на высотах четыре-пять тысяч метров, а окружающие вершины вздымаются еще на два – два с половиной километра выше. Тропы пролегают по каменистым осыпям, по моренам, по ледникам. Даже лошади не всегда могут их одолеть. Особенно впечатляет путь из Таш-Кургана на Янги-Гиссар. Вначале подъем из зеленой долины, постепенно все круче и круче; слева сине-белая громада ледника, взбирающегося к вершине Музтагата на высоту семь с половиной тысяч метров. Обогнули ледник, по осыпям все вверх и вверх – и вот вышли на перевал Тер-Арт. Кругом – необозримая горная страна, бурый вздыбленный камень, снежные вершины, ледяные реки, небо – и ничего более. Вода из-подо льда струится по камушкам; один, другой, третий поток сливаются в речку Кингулсу. По ней – долгий, опасный спуск на широкие просторы долины Яркенда.
Результаты походов отложились в обширной монографии «Кашгария или Восточный Туркестан. Опыт военно-статистического описания», изданной в Ташкенте в 1903 году малым тиражом для служебного пользования. И тут же, конечно, новый конфликт с начальством. На сей раз не поладил Корнилов с российским консулом в Кашгаре Петровским. Консул обвинил Корнилова в сборе недостоверной информации, Корнилов резко возражал… Но, надо думать, причина конфликта заключалась не в методике разведывательных действий, а в неуправляемости Корнилова: никак он не хотел признавать над собой власть гражданского чиновника. Кончилось дело рапортом о невозможности совместной работы с Петровским, отзывом в Ташкент, награждением орденом Станислава 3-й степени, производством в подполковники – и скорой отправкой на новое разведывательное задание, в Персию, в Хорасан. Снова дороги, описания, полусекретные публикации. В 1903 году – командировка в Британскую Индию, на сей раз вполне официальная.
В январе 1904 года Генерального штаба подполковник Корнилов в сопровождении британских офицеров изучал военные объекты в Пешаваре. Тут он узнал из газет о нападении японского флота на Порт-Артур и о начале Русско-японской войны. Немедленно выехал в Петербург, представил отчет о командировке в Генеральный штаб, получил выгодное назначение в Главное управление Генштаба – и тут же написал прошение о переводе в действующую армию в Маньчжурию.
Но оказалось, что до фронта добраться не так-то легко. Сначала не находилось должности, потом долго формировались части Сводно-стрелкового корпуса. Только в ноябре эшелоны двинулись на восток. Корнилов – штаб-офицер при штабе бригады. Должность, конечно, не по нем, да и с командиром бригады отношения сразу не заладились. Ехали долго: Транссибирская магистраль была плотно забита военными эшелонами, товарными составами, санитарными поездами. На театр военных действий прибыли в середине декабря. Настроение в войсках было мрачное: неудачи в этой войне обретали характер фатальный; за бестолково проигранным сражением под Ляояном последовало долгое и безрезультатное пролитие крови на реке Шахэ. Затем – многонедельная томительная пауза.
Через два дня после прибытия бригады к месту дислокации телеграф разнес по всему миру известие о капитуляции Порт-Артура. Потом еще полтора месяца прошло в ожидании чего-то. Из России приходили тревожные вести: беспорядки и кровопролитие в Санкт-Петербурге, взрывы эсеровских бомб… Наконец главнокомандующий генерал Куропаткин двинул войска в осторожное наступление. Впрочем, какое это было наступление! Как робкий купальщик входит в холодную воду: шаг сделает – остановится, другой раз шагнет – отпрыгнет. Стратегические просчеты сочетались с тактической робостью и неразберихой в управлении войсками. В феврале японцы нанесли контрудар; главные силы русских очутились в Мукденском мешке. Полтора полка из бригады, в которой служил Корнилов, попали в окружение у деревни Вазые; командиры куда-то делись. Один подполковник Корнилов оказался на высоте: принял командование, организовал рассыпающиеся боевые порядки, ободрил бойцов, повел в атаку и вывел из окружения вместе с артиллерией, обозом и ранеными.
Это был его первый боевой подвиг. За него он получил Георгия четвертой степени, золотое оружие и чин полковника.
Война закончилась, отшумела первая революция. В 1906 году Корнилов опять назначен в Главное управление Генштаба – курировать разведывательную деятельность на Кавказе и в Туркестане. В Генштабе он близко сошелся с группой амбициозных интеллектуалов, реформаторов, без пяти минут революционеров в мундирах с аксельбантами. Во главе этой компании – начальник Главного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Палицын; рядом с ним обер-квартирмейстер генерал-майор Алексеев. Еще – подполковник Романовский, капитан Марков: с ними пересекутся дороги Корнилова в будущей смуте.
А ведь смута вызревала уже тогда, и не только в подпольных ячейках революционных партий, но и в кругах военной и бюрократической элиты. Штабные полузаговорщики имели связи с лидерами нарождающихся политических партий (с честолюбивым Гучковым, во всяком случае) и пользовались покровительством великого князя Николая Николаевича, председателя Совета государственной обороны. Все это отзовется эхом в событиях февраля – марта 1917 года.
Генштабовская фронда обеспокоила высшие сферы. В 1907 году Палицын был уволен, а Корнилов, недолго думая, вновь подал по начальству рапорт дерзкого содержания. Он, мол, «вследствие отсутствия работы не считает свое дальнейшее пребывание в Управлении Генерального штаба полезным для Родины и просит дать ему другое назначение». Скандал замяли при участии генерала Алексеева, а бунтаря отправили подальше от Петербурга. И вновь поезд уносит нашего героя на восток: военным агентом (по современной терминологии, атташе) в Пекин.
Служба в столице великого Китая, конечно же, не могла обойтись без нового конфликта – на сей раз с первым секретарем посольства Арсеньевым. Полковник смог победить дипломата: Арсеньева отозвали, а Корнилов остался в Китае еще на два года. В конце 1910 года, совершив долгое, но весьма познавательное в военно-политическом отношении путешествие через Внутреннюю и Внешнюю Монголию, Синьцзян и Туркестан, он вернулся в Петербург. В Генштаб сданы отчеты о состоянии войск и администрации Китая.
Китай стоял тогда на пороге революции. В Петербурге задумывались о том, как бы прибрать к рукам отваливающиеся окраины империи Цин. В 1914 году было совершено последнее территориальное присоединение в истории Российской империи: под протекторат русского царя перешел Урянхайский край (Тува), ранее подвластный Китаю. Хотя Корнилов через Урянхай не проезжал, но непрочность китайской власти в соседней Монголии видел отчетливо. Возможно, решение о принятии Урянхая под царскую руку было принято не без влияния докладов Корнилова.
И опять счастливая судьба предлагает Корнилову процветание на благословенном Западе; и снова он выбирает дикий и трудный Восток. В феврале 1910 года он получает полк в Варшавском военном округе, а через четыре месяца, по собственному прошению, отбывает в Харбин на должность начальника 2-го отряда Заамурского округа пограничной стражи. (Начальник округа генерал-лейтенант Евгений Иванович Мартынов впоследствии станет первым советским биографом Корнилова, и, конечно же, биографом недоброжелательным.) По численности подчиненных войск это должность генеральская, вровень с командиром дивизии. В декабре того же года погоны генерал-майора ложатся на плечи Корнилова. Ему идет сорок второй год.
Два года проходят в пограничных хлопотах, и что же? Лавр Георгиевич оказывается инициатором и героем нового скандала, прогремевшего теперь уже на всю Россию.
Из письма Корнилова сестре Анне:
«…В конце 1913 года у нас в округе начались проблемы по части довольствия войск, стали кормить всякою дрянью. Я начал настаивать, чтобы довольствие войск было поставлено на других основаниях, по крайней мере у меня в отряде. Мартынов поручил мне произвести расследование по вопросу о довольствии войск всего округа. В результате открылась такая вопиющая картина воровства, взяточничества и подлогов, что нужно было посадить на скамью подсудимых все Хозяйственное управление округа во главе с помощником начальника округа генералом Савицким. Но последний оказался интимным другом премьер-министра Коковцова и генерала Пыхачева, которые, во избежание раскрытия еще более скандальных дел, потушили дело. В результате Мартынова убрали, а я, несмотря на заманчивые предложения Пыхачева, плюнул на пограничную стражу и подал рапорт о переводе в армию…» [121]121
Цит. по: Цветков В. Ж. Лавр Георгиевич Корнилов // Вопросы истории. 2006. № 1. С. 60–61; http://www.dk1868.ru/statii/kornilov1.htm.
[Закрыть]
Корнилов недоговаривает, не хочет слишком тревожить сестру. Скандал вышел превеликий. Дошло до государя. Премьер Коковцов лично уговорил доброго царя закрыть официальное расследование, которое начинало уже пахнуть десятками каторжных приговоров для самых высокопоставленных лиц. Мартынов подал в отставку, а после этого опубликовал собранные комиссией Корнилова факты военно-тылового воровства в газетах и отдельными брошюрами. Кого же наказали? Все воры остались на свободе и при чинах. Мартынов был отдан под суд, хотя и оправдан после долгой волокиты. Корнилов ушел из пограничной стражи в армию, отправлен (фактически с понижением) командовать бригадой во Владивосток, на отрезанный от всего мира остров Русский.
Это – самая восточная точка жизненных странствий Корнилова.
Отделенный от Владивостока проливом Босфор Восточный, остров этот скалист, его гранитные осыпи поросли лесом. Хоть называется он Русский, но пейзажи здесь русскому глазу непривычные, японско-корейские. Даже березы, невысокие, раскидистые, выглядят как на японских гравюрах. Сверху, с горы Русских, видны внутренние озера, пляжи и бухты, бесконечные тихоокеанские дали. На вершине в зарослях высоких трав греются на солнце два береговых орудия. Огромные стволы высовываются из гигантских вращающихся башен. Внутри, в скале, – устрашающее сооружение: шесть этажей, лифты, казармы, снаряды, подъемники – батарея береговой обороны, возведенная, точнее, врубленная в скалу в 1930-х годах. Строительство фортов и батарей на Русском началось на полвека раньше, так что помнят они и генерал-майора Корнилова. Правда, командовал он гарнизоном на острове Русском недолго: около года.
Из письма Корнилова сестре, апрель 1914 года:
«…Занимаем небольшую квартирку в неотстроенном доме, квартира сырая, климат здесь суровый, крайне резкий. Таиса и Юрка (жена и сын Корнилова. – А. И.-Г.) стали болеть… Таисе необходимо серьезно полечиться, так как у ней болезнь почек, которая под влиянием климата и др. неблагоприятных условий жизни сильно обострилась… Я остаюсь здесь, т. к. мне придется до октября командовать дивизией… В конце октября выяснится окончательно, – останусь ли я здесь или же перевожусь в Евр[опейскую] Россию: мне обещан перевод или в строй или в Гл[авное] Управление Генерального Штаба» [122]122
Там же. С 61.
[Закрыть].
Но не перевод в Генеральный штаб и не продолжение службы во влажном климате Приморья ждали Корнилова. Его ждала война. Как всю Россию. Как и весь мир.