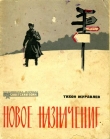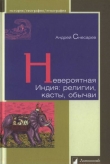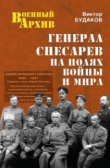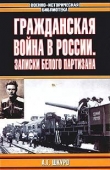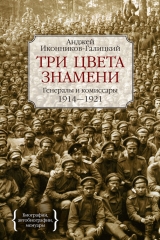
Текст книги "Три цвета знамени. Генералы и комиссары. 1914–1921"
Автор книги: Анджей Иконников-Галицкий
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
12-я кавалерийская дивизия, входившая в состав XII армейского корпуса [9]9
В дореволюционное время имело место относительное единообразие в обозначении соединений и объединений русской армии. В частности, номера полков, дивизий и армий писались арабскими цифрами, а номера корпусов, как правило, римскими. После Октябрьской революции, в период Гражданской войны единообразие было утрачено, что отразилось в первоисточниках и исторической литературе.
[Закрыть]Киевского военного округа, дислоцировалась в Подолии, вблизи от австро-венгерской границы, за которой – Галиция. Штаб дивизии находился в городе Проскурове [10]10
Совр. Хмельницкий.
[Закрыть], на Южном Буге. Отсюда до Винницы, до штаба корпуса, чуть больше ста верст. Летя с непривычной даже для кавалериста скоростью – в автомобиле! – по хорошо укатанной дороге, Каледин не мог не наслаждаться видом пышно-густых садов, расписных хат, начинающих золотеть полей, за которыми темнели живописные рощицы. Утреннее солнце играло на водах Буга. Над высоким берегом слева показались и поплыли мимо романтические руины Меджибожского замка. Все это радовало и умиротворяло душу. Но все же что-то беспокоило генерала. Какая-то колючка засела внутри, поблизости от сердца, и ворочалась там, не давала покоя.
Зачем ни свет ни заря вызвал корпусной командир генерал от кавалерии Брусилов? Почему он вернулся из отпуска на две недели раньше срока? Казак Каледин недолюбливал выпускника Пажеского корпуса Брусилова и считал, что тот недооценивает его. Поговаривали, что корпусной скоро уйдет на повышение, – может быть, хочет попрощаться? Это бы ладно, а то – чего хорошего можно ждать от внезапных вызовов к начальству?
Позавчера в Проскурове был получен секретный пакет из штаба округа о приведении войсковых частей в предмобилизационное положение. Что это означает? Проверка готовности? Учебная тревога? Не воевать же, в самом деле, собрались там, наверху! С кем воевать? Решили погонять этих строевых хорошенько. Однако же предмобилизация – дело нешуточное. Вторые сутки в дивизии никому нет покоя. И мчится автомобиль, сжигая казенный бензин, из Проскурова в Винницу средь роскошных полей Украины, один вид которых, счастливый и безмятежный, исключает всякую мысль о какой-то там войне.
И тут случилось нечто странное. Беспокойная колючка разорвалась в сердце Каледина маленькой злой шрапнелью… и исчезла. В ту же минуту генерал понял: будет война. Вокруг все кипело и наслаждалось жизнью. Но он уже знал: что-то страшное, смертельное, отвратительное притаилось за горизонтом. Оно наползало. Оно подбиралось к нему.
Политика – не его, не офицерское дело. Но тут вспомнились недавние телеграммы о сараевском убийстве. Антисербская истерика немецких газет. Всеславянский пафос газет русских. Удивленная настороженность, внезапно появившаяся в движениях офицеров, – напряжение натянутой струны. И что-то странное в глазах солдат, какие-то блики и тени: то ли преданность, то ли ненависть. Все эти люди хотели жить. Но слишком многие из них хотели убивать. Были готовы убивать.
Адъютант провел Каледина в кабинет Брусилова. Первые же слова командующего, услышанные после уставного рапорта и приветствий, ударили в ту самую точку.
– Алексей Максимович, не знаю, успели ли вам передать: только что получен приказ о мобилизации.
Невольная пауза. Командующий продолжал:
– Я два дня как из Германии. В Берлине творится нечто неописуемое: наше посольство в осаде; тысячные толпы требуют крови. Не буду от вас скрывать: ситуация развивается так, что, по-моему, война неизбежна.
Брусилов помолчал, призадумался, тронул кавалерийские усы, подошел к штабной карте:
– Не знаю нынешних планов Генштаба, но полагаю, что нас ожидает выдвижение на запад, в общем направлении на Дружкополь, Каменку-Струмилову и Львов. В связи с этим я вызвал начдивов, а вам, дорогой мой, вам надлежит…
…Через несколько часов, выходя после совещания из здания штаба корпуса, Каледин остановился на ступеньках, осмотрелся и, прежде чем надеть фуражку, тряхнул головой. Как будто хотел вытряхнуть больные, мрачные мысли. Огляделся. Милейший городок раскрывал ему свои объятия. Тихий вечер плыл над Бугом. Светились маковки Спасо-Преображенского собора. Гуляла молодежь. Слышались обрывки напевно произносимых фраз:
– Я бачу, що вы якая-то до мене нерасположенная…
– От дурашку, я ж тебе кохаю…
Невозможно было представить, что через несколько дней, недель или месяцев будет война. Что она вообще будет. Что весь этот мир вскоре полетит в тартарары.
Из воспоминаний Брусилова:
«Винница – очень хорошенький, уютный городок, живописно расположенный на холмистых берегах красивой реки… – удивительное сочетание культуры и захолустья одновременно. Рядом с целыми старосветскими усадьбами в садах и огородах посреди города – театр, который смело можно перенести в любую столицу, шестиэтажная гостиница с лифтом, электричеством, трамваи, водопровод, прекрасные парные извозчики. И тут же боковые улички и переулки, заросшие травой, и мирно разгуливающие поросята, куры и цыплята. Окрестности очень красивые, много старинных польских и украинских поместий, монастырей и хуторов» [11]11
Брусилов А. А.Воспоминания. С. 54; 04.html.
[Закрыть].
Из мемуаров Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича, летом 1914 года полковника, впоследствии – генерал-лейтенанта Советской армии:
«Лето было в разгаре. Кое-как сколоченные столы на городском базаре ломились под тяжестью розовых яблок, золотых груш, огненных помидоров, лилового сладкого лука, „шматков“ тающего во рту трехвершкового сала, истекавших жиром домашних колбас – словом, всего того, чем так богата цветущая Украина. Безоблачное, ослепительно-голубое небо стояло над сонным городом, и, казалось, ничто не может нарушить мирного течения тихой провинциальной жизни…
Полковые дамы наперебой варили варенье и бочками солили превосходные огурцы; господа офицеры после неторопливых строевых занятий шли в собрание, где их ждали уже на накрахмаленных скатертях запотевшие графинчики с водкой; полк стоял в лагере, но ослепительно-белые палатки, и разбитые солдатами цветники, и аккуратно посыпанные песочком дорожки только усиливали ощущение безмятежно мирной жизни, владевшее каждым из нас» [12]12
Бонч-Бруевич М. Д.Вся власть Советам. М., 1957. С. 11–12.
[Закрыть].
Из воспоминаний Брусилова:
«Винница – это последний этап нашего мирного, тихого бытия в прошлом. Всего год мы там прожили до войны. Наш скромный уютный домик с садиком, любимые книги и журналы, милые люди, нас окружавшие, масса зелени, цветов, прогулки по полям и лесам, мир душевный… А затем – точка… Налетел ураган войны и революции, и личной жизни больше нет» [13]13
Брусилов А. А.Воспоминания. С. 54; 04.html.
[Закрыть].
23 июля (10 июля по принятому в России юлианскому календарю [14]14
В данном случае даты по григорианскому календарю (новому стилю) даются в начале и без скобок. В остальных случаях (кроме специально оговоренных) даты событий, имеющих преимущественное отношение к российской истории и произошедших по 31 января 1918 года включительно, даются по юлианскому календарю (старому стилю). Даты, имеющие преимущественное отношение к истории зарубежных стран, и даты всех событий, произошедших после 31 января 1918 года, даются по григорианскому календарю. (Отметим, что в источниках белогвардейского происхождения старый стиль широко использовался и после перехода Советской России на григорианский календарь.)
[Закрыть]) 1914 года правительство Австро-Венгерской империи предъявило ноту правительству королевства Сербия. Возлагая на сербскую сторону ответственность за убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, венский кабинет в ультимативной форме выдвигал ряд требований, несовместимых с государственным суверенитетом Сербии. Говорили, что, утверждая текст ультиматума, император Франц-Иосиф произнес:
– Россия никогда не примет его. Будет большая война.
Германия поддержала требования Австро-Венгрии.
25 июля, после напряженных консультаций с Петербургом и Лондоном, правительство Сербии заявило о готовности принять все пункты ультиматума, кроме одного – об участии австрийских властей в расследовании сараевского убийства на территории Сербии. В тот же день Австро-Венгрия приступила к частичной мобилизации войск против Сербии.
26 июля (13 июля по юлианскому календарю) начальник российского Генерального штаба генерал-лейтенант Янушкевич известил командующих войсками в округах о начале подготовительного к войне периода. (Приказ о приведении войск в предмобилизационное состояние был получен в частях Киевского военного округа только к вечеру 16 июля.)
28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии и всеобщую мобилизацию.
30 (17) июля Николай II санкционировал приказ о всеобщей мобилизации в Российской империи.
31 (18) июля в России началась мобилизация. Император Германии Вильгельм II направил Николаю II требование немедленно прекратить мобилизацию. Требование было отклонено. В то же утро командир XII корпуса Брусилов прибыл из отпуска в штаб корпуса в Винницу.
1 августа (19 июля) Германия объявила войну России и одновременно приступила ко всеобщей мобилизации. Телеграмму об этом Брусилов получил в Виннице вечером того же числа. В тот же день всеобщая мобилизация началась во Франции.
2 августа (20 июля) Николай II назначил Верховным главнокомандующим русскими войсками великого князя Николая Николаевича; начальником штаба Главковерха – генерал-лейтенанта Янушкевича. Образованы фронты: Северо-Западный (главнокомандующий – генерал от инфантерии Яков Григорьевич Жилинский) и Юго-Западный (главнокомандующий – генерал от артиллерии Николай Иудович Иванов). В составе Юго-Западного фронта образована 8-я армия под командованием Брусилова. 12-я кавдивизия влита в ее состав.
3 августа Германия объявила войну Франции. В тот же день германские войска вторглись в Бельгию.
4 августа королевское правительство Британии объявило войну Германии.
6 августа (24 июля) Австро-Венгрия объявила войну России. В этот же день произошла первая перестрелка между австрийскими войсками и русской пограничной стражей у железнодорожного моста через реку Збруч у станции Волочиск.
27 июля по русскому календарю (9 августа – по европейскому) два эскадрона 12-го уланского полка 12-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенанта Каледина атаковали восточнее Волочиска полуэскадрон 2-го австрийского полка.
2 (15) августа командование 8-й армии получило директиву главнокомандующего фронтом: «наступая на фронт Ходоров – Галич, атаковать противопоставленные ей войска противника, имея в виду воспрепятствовать отходу значительных сил их за Днестр. Начать наступление 5 августа и 7 августа главными силами достичь реки Збруч» [15]15
Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 16: Период от объявления войны до начала сентября 1914 г. Первое вторжение русских армий в Восточную Пруссию и Галицийская битва / Сост. Я. К. Цихович. М., 1922. С. 133–134; http://www.grwar.ru/library/Strateg_Essay_1/SE_01_03.html.
[Закрыть].
5 (18) августа части 8-й армии переправились через реку Збруч, по которой проходила российско-австро-венгерская граница.
17 (30) августа на фронте 8-й армии развернулись первые большие бои, вошедшие в историю как сражение на реке Гнилая Липа. Брусилов впоследствии напишет: «Должен отметить серьезную услугу, которую в первый день сражения оказал армии генерал Каледин со своей 12-й кавалерийской дивизией. Она заняла разрыв фронта между 12-м и 7-м корпусами по собственной инициативе и боролась с подавляющею силою противника до подхода бригады 12-й пехотной дивизии…» [16]16
Брусилов А. А.Воспоминания. С. 92; 06.html.
[Закрыть]
Так начиналась Первая мировая война – для всего мира и лично для Каледина. Бои на Гнилой Липе стали в жизни пятидесятидвухлетнего генерала боевым крещением и одновременно полководческим экзаменом. Экзамен был сдан весьма неплохо.
«Кровь – это грязь, текущая внутри нас»Не будем подробно рассказывать о боях, в которых участвовала дивизия Каледина. Развернувшаяся в августе – сентябре 1914 года Галицийская битва представляла собой хаотичное столкновение и взаимоистребление двухмиллионной массы людей на огромной территории между Вислой, Западным Бугом и Днестром. Никто из военачальников – ни русских, ни австрийских – не умел управлять таким огромным количеством войск на таких обширных пространствах. Имевшиеся средства связи не годились для своевременной передачи информации; разведданные устаревали, не успев достигнуть штабов. Штабы не поспевали за событиями; командующие принимали решения вслепую. Эффектно задуманные удары приходились по пустым местам, а в то же время целые полки на марше попадали под густую шрапнель, под сабли неведомо откуда взявшейся кавалерии, вырубались и расстреливались без остатка. Тыловые коммуникации не справлялись с переброской резервов и подкреплений; эшелоны и обозы с продовольствием и боеприпасами безнадежно отставали от наступающих войск, обрекая их на бессилие, голод, скорое и неминуемое отступление. Раненых не на чем было вывозить и негде размещать. В тылах царил хаос.
Из дневника Александра Ивановича Верховского, в начале войны капитана, впоследствии военного министра Временного правительства (запись относится к военным действиям на Северо-Западном фронте, но то же самое происходило и на Юго-Западном):
«Семь суток мы ходили без отдыха и перерыва вперед и назад, днем и ночью между Лыком и Маркграбовым, не зная зачем и почему. Три раза наша бригада попадала в одну и ту же деревню Калиновен и готовилась принять в ней бой. Могло создаться впечатление, что люди, руководившие нами, сошли с ума…Наше маневрирование, не руководимое из штаба армии, носило хаотический характер. Никакой связи между частями, никакой ориентировки начальников о том, что происходит, и о целях действий… Все, чему мы, молодежь, учились о современной войне, все было позабыто, все не исполнялось. Мы не знали, куда и зачем идем, откуда гремят выстрелы, кто и почему стреляет. Мы не знали, кто вправо и влево от нас, где нам получать наше продовольствие и снаряды» [17]17
Верховский А. И.Россия на Голгофе. Пг., 1918. С. 20.
[Закрыть].
Никакие результаты, достигнутые в такой войне, не могли быть прочными.
Вначале австрийцы разбили 5-ю армию Плеве под Томашувом на Люблинско-Холмском направлении. Потом 3-я армия Рузского и 8-я Брусилова сокрушили австрийцев на Гнилой Липе и рванулись на Галич и Львов. Австрийцы из Львова бежали, но через несколько дней нанесли встречный удар в районе Городка и Самбора, едва не окружили русские корпуса, едва не отобрали Львов. Когда Брусилов и Рузский уже не чаяли отбиться, австрийский фронт вдруг затрещал и покатился назад, за реку Сан, за Вислу и Дунаец, за хребты Карпат. Но и русское наступление вскоре захлебнулось: тылы отстали, убыль в войсках была колоссальной, а северо-западнее Галиции в начале октября германо-австрийские войска мощным ударом пробили фронт в направлении Варшавы, угрожая выйти во фланг и тыл всей галицийской группировке русских. Пришлось откатываться назад. Потом и рывок немцев на Варшаву обернулся их отступлением. Снова русские армии в Галиции двинулись вперед и снова уперлись в Карпаты.
Австрийские офицеры прозвали эти бесконечные растягивания и сжатия линии фронта «гуммикриг» – резиновая война.
В конце августа дивизия Каледина двигалась на Самбор, южнее Львова. Потом была выброшена навстречу прорвавшимся австрийцам у Комарно на реке Верещице западнее Львова. Здесь, во встречном бою, впервые дивизия понесла серьезные потери. Потом, в сентябре, был бросок на Сан и трудное отступление вдоль горных кряжей под холодными осенними ливнями. Потом короткий отдых в тылу – и снова наступление, встречные бои, броски, отступление…
Лили дожди, потом падал снег. Деревья оголились. Земля кругом была опустошена, разорена, загажена, вытоптана, выворочена наизнанку. К исходу осени стало ясно: война будет долгой, очень долгой. И неизвестно, сколько еще людей, полных жизни и сил, будет убито, искалечено, изуродовано, сколько рук и ног оторвано, сколько черепов пробито, сколько животов распорото штыками, сколько человеческих и конских внутренностей выворочено осколками снарядов, сколько криков, стонов, хрипов, ругательств еще пронесется под этим хмурым, задымленным военным небом.
Война была грязна и топила человека в безысходной грязи.
Из рассказов подполковника (с декабря 1914 года полковника) Эрнеста фон Валя:
«Из Хырова оттянули 12-ю кав[алерийскую] дивизию за фронт пехоты в резерв в дер[евню] Максимовцы. Это мирное передвижение участникам его показалось более отвратительным, чем предшествовавший отход. Важная дорога в ближайшем тылу армии была приведена в такой вид, что конные люди рисковали жизнью, двигаясь по ней. Ямы на шоссе были залиты водой, а на дне их лежали трупы утонувших в них лошадей и развалившиеся повозки.
<…>
…Белая лошадь с громадной раной в голове от попавшего в нее осколка гранаты стояла, вытянув шею, обливаясь кровью и шатаясь на ногах. Рядом в крестьянском дворе за избами лежали раненые гусары; прислоненный к стене в судорогах корчился контуженый бар[он] Черкасов…
На мосту лежали трупы и раненые лошади, брыкающие ногами. Когда все перебежали, вдоль обстреливаемого шоссе подлетала батарея. Очередь шрапнелей: часть лошадей падает, другие бьются в постромках…
<…>
В том месте, где накануне переправилась вброд через Быстрицу [Кавказская] туземная дивизия, на следующий день и 12 кав[алерийская] дивизия перешла на тот берег. <…> На том берегу Каледин слез, чтобы выждать сбор всей дивизии. Зайдя в избу, он отшатнулся от луж крови на полу. Хозяин рассказал, что накануне здесь спрятались два австрийских офицера. Они на коленях умоляли туземцев (солдат Кавказской туземной дивизии. – А. И.-Г.) о пощаде – но их зарезали на полу кинжалами» [18]18
Валь Э. Г.Кавалерийские обходы генерала Каледина. С. 10, 56–59; 01.html, 10.html, 11.html.
[Закрыть].
Замечателен финал последнего процитированного эпизода воспоминаний фон Валя: «Каледин поморщился и вышел на свежий воздух».
Что еще может сделать генерал-лейтенант, командир дивизии его императорского величества, при виде крови зарезанных пленных? Поморщился и вышел на свежий воздух…
В этот день – 16 февраля 1915 года, на речке Быстрице, к юго-западу от Станиславова [19]19
Совр. Ивано-Франковск.
[Закрыть] – военная судьба, доселе к Каледину благосклонная, впервые грозно обернулась против него. Шел артиллерийский бой возле деревни Беднарово. Генерал отправился на батарейный наблюдательный пункт.
Рассказывает фон Валь (в это время исполняющий должность начальника штаба дивизии):
«Ехал он, как раньше часто случалось, впереди фронта позиции и свернул назад на батарею. Полковник Богалдин, который сделал все, чтобы его батарея стала на позицию незаметно для противника, увидев начальника дивизии с группой сопровождавших его чинов, слезших с коней и подходивших по снегу к батарее, выбежал вперед и сказал начальнику штаба (фон Валю. – А. И.-Г.): „Неужели вы не можете его удержать от этого? Теперь будет обнаружена и батарея и мой наблюдательный пункт…“ Противник немедленно открыл огонь и уничтожил наблюдательный пункт, ранив сперва солдата-артиллериста, а потом и остальных наблюдателей. Тогда Каледин отошел на несколько сот шагов назад, и стал открыто, несмотря на просьбу начальника штаба, прислоняться к дереву. <…> Но вот новый разрыв шрапнели – и Каледин падает на спину. Солдат ординарец и корнет Скачков его хватают под мышки и тащат в лощину, что была вправо и назад от рощи. Противник, замечая выход людей, открывает ураганный огонь по оставшимся, которые выбегают по очереди. Рощица превращается в ад… Но вот все собрались в лощине, покрытой высоким кустарником, около лежащего бледного с стиснутыми зубами Каледина… Шрапнельная пуля попала в толстую стопу туалетной бумаги в кармане Каледина, пробила ее и проникла в ляжку» [20]20
Валь Э. Г.Кавалерийские обходы генерала Каледина. С. 60; 11.html.
[Закрыть].
Показная храбрость, ненужное упрямство, ввержение окружающих в опасность, бессмысленное ранение. Прав, видимо, был Брусилов, характеризуя Каледина как человека «характера твердого и несколько упрямого». Но, может быть, виновата тоскливая, засасывающая жуть бессмысленной и беспощадной бойни? Может быть, генерал восчувствовал всю безнадежность резиновой войны – и пошел под шрапнель, дабы избавиться от этого невыносимого чувства?
ПереломРанение оказалось серьезным. Пуля ударила в бедренную кость и скользнула по ней вниз почти до коленного сустава. Врачи говорили, что пройди она еще три-четыре сантиметра – не избежать было бы ампутации. Но обошлось. Недели через три Каледин пошел на поправку. Однако в строй вернуться смог только в июле.
Его карьере эта история пошла на пользу. Он был представлен к награде: «За то, что, состоя начальником 12-й кавалерийской дивизии, в середине Февраля 1915 года, будучи направлен во фланг противнику, теснившему наши войска от гор. Станиславова к Галичу и угрожавшему последнему, лично командуя дивизией и находясь под действительным огнем противника, причем 16-го Февраля был ранен, энергичными действиями сломил упорное сопротивление бывшего против него противника в районе с[ела] Беднаров» [21]21
Высочайший приказ от 3 ноября 1915 года. Цит. по: сайт «Русская императорская армия. Каледин Алексей Максимович»: http://www.regiment.ru/bio/K/23.htm.
[Закрыть]. И осенью того же года петлица его кителя украсилась крестом ордена Святого Георгия третьей степени. (За сражения на Гнилой Липе и подо Львовом он еще в октябре четырнадцатого получил георгиевское оружие и Георгия четвертой степени.)
Но главное: пока он лежал в госпиталях, пока отбывал положенный отпуск, ситуация на всем восточном театре мировой войны роковым образом изменилась.
В конце апреля 1915 года германо-австрийская группировка войск под командованием Макензена нанесла по центру Юго-Западного фронта мощнейший удар. Бои у Горлице привели к тяжелому поражению 3-й армии генерала Радко-Дмитриева, прорыву фронта и отступлению русских войск на огромном пространстве от Балтийского моря до Днестра. Галиция, на протяжении девяти месяцев ежедневно удобряемая трупами и поливаемая кровью – русской, австрийской, немецкой, чешской, польской, украинской, венгерской, – была полностью потеряна. Отбиваясь от фланговых ударов и испытывая острейшую недостачу во всем – в винтовках, в снарядах, в медикаментах, в обмундировании, в людях, – русская армия с боями оставила Польшу, Литву, Курляндию. Приняв на себя 23 августа Верховное главнокомандование, Николай II смог добиться лишь относительной стабилизации фронта. К началу второго года войны людские потери России исчислялись уже семизначными цифрами, и конца-краю этой бойне не было видно. В победу верить становилось все труднее. В умах и душах людей что-то сдвигалось и надламывалось.
Злоба. Вот какое растение все гуще, все заметнее пробивалось сквозь унавоженную войной почву. Кто виноват? Кто враг? Его надо найти, убить, растоптать, уничтожить. Нет, мало: разорвать его на куски, содрать с него шкуру, зарыть живьем в землю – и его самого, и его жену, и его детей… Так прорастала великая и неделимая российская ненависть – исходная причина революции, Гражданской войны, красного и белого террора, массовых бессмысленных репрессий…
А первым делом надо было найти тех, кто виновен в весенне-летнем поражении. Давление общего настроения стопятидесятимиллионного народа было таково, что даже государь император, лучше других понимавший, что виновных нет или, что то же самое, – виноваты все, все общество, отравленное неверием, наполненное враждой, разделенное своекорыстными интересами, не желавшее ничем жертвовать для общего дела, для подготовки к войне, – даже он, государь, вынужден был выдать первую жертву на расправу. В июне был уволен в отставку военный министр Сухомлинов, и в отношении его началось судебное расследование. Юридических результатов оно не принесло: ничего преступного в деятельности бывшего министра обнаружено не было. Вокруг Сухомлинова бытовали обыкновенные для военного ведомства воровство, подхалимаж и разгильдяйство – так ведь то же самое творилось и при его предшественниках. Но был явлен образ врага народа российского: вот он, в министерском кресле, в генеральском мундире. По всем углам огромной страны разлетелось слово «измена» – произносимое сначала шепотом, потом все громче и громче. Враг – там, наверху. А кто выше всех?
Не будем забегать вперед. Тогда, летом 1915 года, эти события только способствовали продвижению Каледина по службе. За время военных действий в Галиции он завоевал репутацию умелого, храброго, толкового военачальника. Многие генералы в хаосе этой войны оказывались не способны принимать своевременные решения, теряли управление войсками, а порой и самообладание. Он – нет. Он всегда оставался внешне спокоен, никогда не выпускал командирскую узду из рук. В июле 1915 года он был назначен командиром XII армейского корпуса – того самого, в котором раньше состоял под началом Брусилова (свою «родную» 12-ю кавдивизию Каледин, будущий глава Вольного Дона, сдал генерал-майору барону Карлу Маннергейму, будущему главе независимой Финляндии). Брусилов еще год назад поднялся на ступень командующего армией. Теперь он поднял – поближе к себе – давно и хорошо знакомого генерала. Конечно: Каледин надежен, Каледин упорен. А главное – он не амбициозен, не лидер, не вождь. Брусилову, который всегда метил высоко, нужны были именно такие подчиненные – чтобы не вырвались вперед и вверх из-под его (несуществующего, но снившегося ему, наверно, по ночам) фельдмаршальского жезла.
Что подарила жизни Каледина новая должность? Да ничего. Все та же упорная, въедливая военная работа; за ней – то успехи, то неудачи. Ничего великого корпус под командованием Каледина не совершил.
Из воспоминаний Брусилова:
«Командиром корпуса он был уже второстепенным, недостаточно решительным. Стремление его всегда все делать самому, совершенно не доверяя никому из своих помощников, приводило к тому, что он не успевал, конечно, находиться одновременно на всех местах своего большого фронта и потому многое упускал. <…> На практике на нем ясно обнаружилась давно известная истина, что каждому человеку дан известный предел его способностям, который зависит от многих слагаемых его личности, а не только от его ума и знаний, и тут для меня стало ясным, что, в сущности, пределом для него и для пользы службы была должность начальника дивизии; с корпусом же он уже справиться хорошо не мог» [22]22
Брусилов А. А.Воспоминания. С. 176–177; 10.html.
[Закрыть].
Впрочем, Брусилов едва ли объективен (почему – узнаем позже). К тому же 8-я армия, в состав которой входил корпус Каледина, со второй половины лета 1915 года находилась в стороне от главных военных событий: постепенно отступала, сначала за Западный Буг, потом за Стырь, отбиваясь от не слишком назойливых, тоже измотанных и обескровленных австро-венгерских войск. Некомплект в частях достигал пятидесяти процентов. Почти треть сил армии была переброшена в Белоруссию и Литву, где складывалась угрожающая ситуация. Полководческому гению в таких условиях не развернуться. И все же в чем-то Брусилов прав: после ранения в Каледине произошла неуловимая перемена. Какая-то в его облике проявилась безнадежная понурость, следствие душевной усталости, неверия в успех.
«…Из него как будто вынут был тот „аршин“, который полагается „проглотить“, чтобы получить настоящую военную выправку. Однако дело было уж не в этой внешней выправке, когда ему были вверены Брусиловым силы, действующие на ведущем участке фронта: важна была выправка внутренняя – армия в голове, и об этом был острый разговор по существу дела между двумя генералами от кавалерии, из которых один был старше другого на восемь лет, но смотрел на него с сожалением, недоумением и горечью, которую не только не мог – даже и не хотел скрывать.
Правда, и два предыдущих дня, и этот, в который приехал Брусилов, были днями ожесточеннейших контратак немцев по всему вообще фронту и главным образом на участке восьмой армии, однако такой прием немецких генералов не был новостью для Брусилова, и он не понимал, почему им так явно даже для невнимательного глаза удручен боевой командир Каледин.
<…>
– Мы чтобы шли в наступление? – изумился Каледин.
– Непременно, – тоном приказа ответил Брусилов.
Но Каледин, вдруг насупясь, глядя не на него, а куда-то вбок, буркнул:
– Наступать мы не можем» [23]23
Сергеев-Ценский С. Н.Преображение России. Горячее лето. Гл. VI, III: http://www.classic-book.ru/lib/al/book/1092.
[Закрыть].
Этот отрывок из «Горячего лета» Сергеева-Ценского относится уже к событиям следующего, 1916 года – к событиям, с которых начинается последний взлет в жизни Каледина: начало славы и исходная причина гибели.