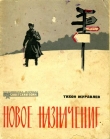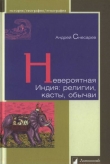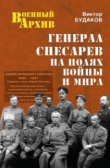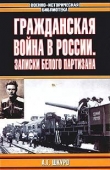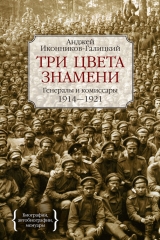
Текст книги "Три цвета знамени. Генералы и комиссары. 1914–1921"
Автор книги: Анджей Иконников-Галицкий
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Удар был нанесен противником в двадцатых числах апреля. Брусилову повезло: его армия оказалась в стороне от главных и грозных событий. Под германский каток попала 3-я армия, та самая, которая отобрала у Брусилова славу львовского взятия; ею после Рузского командовал болгарин Радко-Дмитриев. Но прорыв немцев и австрийцев в районе Горлице поставил под угрозу окружения части 8-й армии, сильно растянутые вдоль Карпат. Пришлось отступать. К началу мая отошли за реку Сан; в мае был сдан Перемышль, в июне – Львов. Потом, из-за поражений на Северо-Западном фронте, пришлось отступать еще дальше на восток, за Буг, за Стырь. К осени положение на всем Юго-Западном фронте стабилизировалось.
Отступление было бедственным. Армии оказались безоружны. У артиллерии не было снарядов. Потери росли изо дня в день с пугающей быстротой. Впрочем, все это многократно описано в книгах и показано в фильмах. Но у эпопеи «великого отступления» была еще одна сюжетная линия – кадровая. Тяжелые поражения привели к перестановкам в высшем командовании. Великий князь Николай Николаевич был отправлен наместником на Кавказ, смещен его начальник штаба (наштаверх) Янушкевич – и тоже услан на Кавказ, подальше от реальных дел. Отстранение главкоюза Иванова было только вопросом времени – особенно после провальной неудачи наступления Юго-Западного фронта в конце 1915 года. Образован был новый, Северный фронт, – стало быть, появились новые высокие посты. На лестнице чинов и должностей пошло активное движение.
17 марта 1916 года Верховный главнокомандующий государь император Николай Александрович подписал приказ о назначении генерал-адъютанта Брусилова главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта.
Все-таки отчасти правы те, кто называет Брусилова любимцем счастья. Он стал во главе фронта не потому, что одержал выдающиеся победы, а лишь потому, что избежал крупных поражений. Избежал же он их не благодаря талантливым стратегическим решениям, а в силу того, что его армия оказалась в стороне от направления главного удара неприятеля. Конечно, как командующий армией он оказался на высоте; неплохо себя проявил в трудных условиях военных действий в Карпатах и во время боевого отступления под натиском прекрасно вооруженного и оснащенного противника. Но все же главный мотив его назначения сводился к тому, что его имя не связывалось в сознании офицеров и солдат с провалами и потерями, не наводило уныния, не создавало ощущения безнадежности. И внешний облик, и манера поведения выгодно отличали его от других больших военных начальников русской армии. В особенности же от предместника, Николая Иудовича Иванова, топорного, медлительного, обросшего дремучей бородой, – генерала с внешностью отставного унтера. Брусилов, легкий, подвижный, быстрый, щеголяющий прекрасной гвардейско-кавалерийской выправкой, пробуждал бодрость в людях. Такой главнокомандующий был нужен изверившимся в успехе войскам.
Счастье Брусилова проявилось и в том, что командование фронтом он принял после длительного, почти трехмесячного перерыва в боевых действиях. Состояние войск в марте 1916 года было несравненно лучше, чем в декабре 1915-го. Они отдохнули, они получили обученное пополнение. Они наконец-то были вооружены: винтовки, пулеметы, снаряды подвозились вовремя и лежали в запасе на складах. Ощущался недостаток в артиллерии, особенно тяжелой, но все же не в такой катастрофической степени, как полгода назад. Наладилась и работа тыла. К войне стали привыкать, на войну научились работать. В общем, Брусилов принял фронт, состоящий из боеспособных частей и соединений, во главе которых стояли офицеры и генералы, поднабравшиеся боевого опыта. Конечно, это была не прежняя, довоенная, вышколенная армия. Старые кадровики глядели на нее с опасливым недовольством: ополчение, вооруженный народ, милиционная армия. Но зато она была куда лучше приспособлена к современной войне. Многому научилась эта армия, многое знала такого, о чем и не слыхивали два года назад. Как зарываться в землю, как проделывать проходы в колючей проволоке, как надевать противогазную маску, как вести огонь по вражеским аэропланам…
1 апреля в Ставке Верховного главнокомандующего в Могилеве состоялось совещание. Кроме самого Верховного, на нем присутствовали: генерал-инспектор артиллерии великий князь Сергей Михайлович, наштаверх Алексеев, генерал-квартирмейстер штаба Ставки Пустовойтенко, военный министр Шуваев, генерал-адъютант Иванов, главкосев Куропаткин, главкозап Эверт, главкоюз Брусилов, начальники штабов фронтов Сиверс, Квецинский, Клембовский. На совещании обсуждался общий план военных действий на германском и австро-венгерском фронте летом 1916 года.
Странное это было совещание.
Главная установка не подлежала сомнению: необходимо наступление, и наступление могучее. Все присутствующие знали, кожей чувствовали: войну надо заканчивать как можно скорее. Страна не может нести далее великие жертвы. Страна не понимает, зачем эти жертвы нужны. Народ страны прошел военную школу и держит в руках семь миллионов винтовок. Эти винтовки могут повернуться против них, командующих, если они не завершат войну победой. Лучше всех это знал Верховный главнокомандующий. Поэтому сомнений быть не могло: летнее наступление должно обеспечить коренной перелом в ходе всей войны.
Докладывал Алексеев.
– Итак, учитывая степень готовности наших союзников и имея в виду упредить противника, надо готовиться к наступлению в конце мая, – журчала негромкая, бесстрастно-убедительная речь начальника штаба Верховного главнокомандующего. – Наиболее целесообразным, учитывая пожелания союзников, следует признать нанесение главного удара силами Западного фронта одновременно со стороны Молодечно и Двинска на Ошмяны и Вильну… Северный фронт должен содействовать наступлению Западного фронта, нанося удар четырьмя корпусами из района Риги на Митаву… Юго-Западный фронт готовится к производству атаки из района Ровно ко времени развития наступления севернее Полесья…
Все знали, что содержание доклада еще накануне согласовано с государем и, стало быть, решение предопределено. После Алексеева должны были высказаться главкомы по старшинству чинопроизводства. Первым поднялся с места генерал-адъютант Куропаткин.
– Ваше императорское величество! Господа! – произнес он хорошо поставленным, приятно-вкрадчивым голосом. – По моему мнению, сил Северного фронта к исходу мая будет недостаточно для осуществления той задачи, которую предлагает нам господин начальник штаба вашего императорского величества. Имеющимися в моем распоряжении силами и средствами прорвать фронт немецких войск совершенно невероятно, ибо их укрепленные полосы настолько развиты и сильно укреплены, что трудно предположить удачу…
Проговорив еще несколько минут о причинах провала декабрьского наступления на Нарочи, Куропаткин умолк и с верноподданным вниманием направил взор на погоны Верховного.
– Благодарю вас, Алексей Николаевич, – произнес государь. По его лицу невозможно было понять, удивлен ли он речью Куропаткина, доволен ли, сердится ли. Кивком он разрешил генерал-адъютанту сесть. – Что скажет нам главнокомандующий Западным фронтом?
Встал мрачный темнобородый Эверт:
– Ваше императорское величество! Господа…
Речь главкозапа сводилась к тому, что выполнить любой приказ он готов, но фронт наступать не может. Упомянул он о самом больном:
– Неудача произведет тяжелое впечатление не только на войска, но и на всю Россию… При недостаточном материальном обеспечении войск задача, на них возложенная, не может быть выполнена…
Император вновь кивнул. Эверт поклонился и сел, угрюмо насупившись. Очередь дошла до Брусилова.
– Ваше императорское величество! – В волнении он как бы забыл обратиться к другим присутствующим. – По моему мнению, наступление не только необходимо, но имеет все шансы на успех. Войска вверенного вашим императорским величеством мне фронта к наступлению готовы.
Из воспоминаний Брусилова:
«Я заявил, что, несомненно, желательно иметь большее количество тяжелой артиллерии и тяжелых снарядов, необходимо также увеличить количество воздушных аппаратов, выключив устаревшие, износившиеся. Но и при настоящем положении дел в нашей армии я твердо убежден, мы можем наступать. Не берусь говорить о других фронтах, ибо их не знаю, но Юго-Западный фронт, по моему убеждению, не только может, но и должен наступать, и полагаю, что у нас есть все шансы для успеха, в котором я лично убежден. На этом основании я не вижу причин стоять мне на месте и смотреть, как мои товарищи будут драться. Я считаю, что недостаток, которым мы страдали до сих пор, заключается в том, что мы не наваливаемся на врага сразу всеми фронтами, дабы лишить противника возможности пользоваться выгодами действий по внутренним операционным линиям, и потому, будучи значительно слабее нас количеством войск, он, пользуясь своей развитой сетью железных дорог, перебрасывает свои войска в то или иное место по желанию. В результате всегда оказывается, что на участке, который атакуется, он в назначенное время всегда сильнее нас и в техническом, и в количественном отношении. Поэтому я настоятельно прошу разрешения и моим фронтом наступательно действовать одновременно с моими соседями; если бы, паче чаяния, я даже и не имел никакого успеха, то, по меньшей мере, не только задержал бы войска противника, но и привлек бы часть его резервов на себя и этим существенным образом облегчил бы задачу Эверта и Куропаткина» [48]48
Брусилов А. А.Воспоминания. С. 210–211: 12.html.
[Закрыть].
Выступление только что назначенного главкоюза произвело впечатление. Алексеев улыбался в усы; Куропаткин закивал головой; даже на мрачном лице Эверта появились пятна света. Только государь знал, что смелая атака Брусилова опиралась на заранее подготовленные позиции. Несколько дней назад, в Каменец-Подольске, при высочайшем посещении войск Юзфронта, Брусилов уже докладывал ему об этом же и этими же словами.
Государь прекрасно понимал их всех, понимал и Брусилова. Куропаткин не хочет рисковать: после несчастной Японской войны, после нелепого мукденского разгрома, он впервые получил высокую командную должность; удержаться на своем месте любой ценой – вот его главная задача. Эверт всегда шел вослед Куропаткину или кому-нибудь еще, когда Куропаткина не было поблизости; сам никогда ничем не командовал, ничего не решал и ответственности нести не хотел. А вот Брусилов – честолюбив. Ему нужна слава, а следовательно, победа в наступлении. Боевитый Брусилов – хороший противовес опытному интригану Куропаткину. Да, надо его поддержать.
Государь не кивнул, а слегка наклонил голову в сторону Брусилова и милостиво улыбнулся:
– Что ж, Алексей Алексеевич, я весьма рад слышать от вас слова о готовности фронта к наступлению, сказанные с такой уверенностью и с таким знанием дела. Господа! – добавил он, вставая. – Перерыв. Прошу к завтраку.
Прорыв…Решение было принято. Главный удар по-прежнему предполагался на Западном фронте, на Виленском направлении. Но начинать общее наступление должен был фронт Брусилова в первых числах июня. Удар этот планировался как отвлекающий. Однако все понимали: сила австро-венгерских войск, противостоящих Юзфронту, совсем не та, что у германцев. Шансов на успех у Брусилова куда больше, чем у Эверта.
Собственно говоря, у Эверта и у Куропаткина шансов на успех не было никаких по одной простой причине: ни тот ни другой не хотели наступать. Оба боялись поражения и не знали, что делать в случае успеха. Видя это, Верховный должен был бы немедленно отстранить их от командования, заменить другими, подобными Брусилову… Но он, самодержец и хозяин земли Русской, не мог этого сделать, потому что зависел от многих людей, сообществ, традиций и взаимоотношений, был опутан множеством нитей, натянутых вокруг него как тонкая, почти невидимая, но прочнейшая паутина. Он зависел от союзных правительств, зарубежных финансовых кругов, от собственной родни, от министров, от этих вот генерал-адъютантов, которые так преданно, так умильно смотрят ему в лицо и которые за его спиной ведут свои хитроумные игры.
Высший генералитет русской армии представлял собой тесный и единый круг. Как бы ни ненавидели порой эти люди друг друга и как бы ни интриговали между собой, решительное вмешательство императора в их карьерные расчеты грозило сплочением их всех против него одного. А за этим в условиях войны следовала неминуемая гибель монархии. Николай II не был нерешительным человеком – он принужден был быть нерешительным. Он должен был выжидать, лавировать, терпеть, выказывать милость…
Характерен пример с увольнением генерала Иванова с поста главнокомандующего Юго-Западным фронтом. Наштаверх Алексеев в письме представителю русского командования во Франции Жилинскому так характеризовал деятельность главкоюза в декабре 1915 года: «Отсутствие, по-видимому, веры в операцию у ген. Иванова и его индифферентное отношение к разработке; много в сношениях хитрил, а в самый важный период подготовки менял начальника штаба; оттянул без нужды начало операции на четыре дня, утратив всякое подобие внезапности; не давал руководящих указаний для объединения работы армий, ограничиваясь писанием после совершившихся фактов критического обзора» [49]49
Цит. по: Ветошников Л. В.Брусиловский прорыв. Оперативно-стратегический очерк. М., 1940. С. 6.
[Закрыть]. Даже одного из этих пяти пунктов достаточно для того, чтобы отрешить военачальника от командования, а то, по условиям военного времени, и под суд отдать. Перед нами факт явного саботажа. Между тем Иванов оставался в должности главкоюза еще три месяца, а после отстранения, в виде особой милости, был назначен состоять при особе государя императора.
Но и эта почетная отставка насторожила высший генералитет и околоправительственные круги. Странные слухи стали распространяться по армии, по России. Сплетни о Распутине, слухи об изменниках в окружении царя, о придворных шпионах… Они не имеют под собой ни малейшего реального основания, но отравляют сознание миллионов людей в столице, в стране, а теперь уже и на фронте. Где источник этих слухов? Думские болтуны из Прогрессивного блока? Политический интриган Гучков, тесно связанный со многими чинами военного ведомства? Отставленные министры? Обиженные генералы из окружения великого князя Николая Николаевича? Или сам «дядя Николаша», уязвленный отправкой на Кавказ?
К лету 1916 года Николай II чувствовал, что окружен врагами со всех сторон. Он не был и не мог быть настоящим Верховным главнокомандующим, потому что не пользовался поддержкой генералов. Он проводил совещания в Ставке, он выслушивал мнения, противоречившие друг другу, зачастую продиктованные корыстью и амбициями, он скреплял своим словом компромиссные решения, которые потом не выполнялись, он нес всю ответственность за последствия этих решений… И ничего не мог изменить.
Войска Юго-Западного фронта начали усиленно готовиться к предстоящему наступлению. Личный состав неустанно копал траншеи, щели, ходы сообщения, готовил мостки и мешки с землей, учился преодолевать проволочные заграждения. Артиллеристы оборудовали позиции и наблюдательные пункты, пристреливались. Все виды разведки действовали и доставляли сведения в штабы. В штабах кипела работа днем и ночью…
Наступление Юзфронта было намечено на 10 мая; потом его отложили на начало июня; потом пришли известия о разгроме итальянцев австрийцами в Трентино; ради помощи Италии передвинули срок наступления на более раннее время, на две недели. Окончательное решение в виде директивы Ставки было дано 18 мая.
22 мая – началось.
Евгений Эдуардович Месснер:
«Артиллерийская подготовка атаки – 28 часов методической, прицельной стрельбы – была отлична: проволочные заграждения были сметены (не были в них, как приказано, сделаны проходы, просто они были уничтожены); все важные точки неприятельской позиции разрушены; окопы, убежища обвалены, батареи приведены к молчанию… Пошла работать пехота: первые ее волны накатились на передовой неприятельский окоп и заполнили его, выбивая, добивая уцелевших от канонады врагов; последующие волны, обогнав первые, кинулись вглубь атакуемой позиции…» [50]50
Месснер Е. Э.Луцкий прорыв…
[Закрыть]
Леонид Николаевич Белькович, в 1916 году генерал-лейтенант, командир XLI армейского корпуса:
«Переживания, которые испытывает человек во время боя, есть высшая степень душевных страданий человеческих. Все, что пришлось переживать раньше, – все беды, несчастья, печаль и слезы, пролитые человеком среди юдоли этого мира, покажутся ему такими ничтожными, мелочными в сравнении с тем, что ему приходится переживать вот здесь, в этом окопе, или в узкой щели, вырытой им параллели плацдарма, которая вот-вот может обвалиться от громоподобного взрыва тяжелого снаряда и похоронить его заживо под своей тяжестью… Все эти люди, набитые в окопах и параллелях, знают, что через час-другой, но им неизбежно придется выйти из этих закрытий и стать во весь рост перед противником, который устремит против них всю силу своего огня, и что под этим металлическим дождем придется преодолеть известное расстояние, и ожидание этого момента значительно более ведет к смятению душевному, нежели его переживание…» [51]51
Белькович Л. Н.Заметки о майском прорыве 1916 года // Военно-исторический сборник. Труды Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг. Вып. 3. М., 1920. С. 68.
[Закрыть]
Месснер:
«Странное было это сражение и страшное. Только мгновеньями были видны с артиллерийских наблюдательных пунктов и с командных пунктов передвижения по земле наших атакующих частей. И это не потому, что их скрывали дым и пыль от тысяч артиллерийских разрывов, а потому, что значительная часть боя взводов, рот, батальонов, полков велась в земле, в траншеях, где смельчаки, пользуясь ручными гранатами, штыками, прикладами (при поддержке бомбометов и минометов), теснили врага шаг за шагом, зигзаг за зигзагом ходов сообщений» [52]52
Месснер Е. Э.Луцкий прорыв…
[Закрыть].
Главная особенность операции Юго-Западного фронта заключалась в том, что удары одновременно наносились не на одном или двух направлениях, а сразу на четырех. Самая мощная 8-я армия Каледина наступала на Луцк – Ковель; 11-я армия Сахарова на Зборов – Злочев; 9-я армия Лечицкого севернее Черновиц; 7-я армия Щербачева должна была ограничиться тактическим прорывом обороны противника в районе Язловец. С одной стороны, такой разброс сил сбивал противника с толку в определении направления главного удара и ограничивал его возможности маневрировать резервами. Но, с другой стороны, в этих условиях невозможно было создать мощные группировки, обеспечивающие не только прорыв обороны противника, но и быстрое продвижение вглубь его территории. Это было наступление, заранее обреченное на ограниченный успех.
На всем планировании летнего наступления русских войск лежала печать половинчатости, нерешительности и компромисса. Переносились сроки, менялись направления главных ударов, пересматривались стратегические цели. Вначале главный удар Западного фронта планировался в направлении Вильны, потом был перенесен на Барановичи. Время начала этого наступления (по замыслу Ставки – главного) откладывалось трижды. Впоследствии именно задержке с наступлением войск Эверта Брусилов будет приписывать неудачу второго этапа своего наступления на Ковель. Но и сам Брусилов, запланировав в мае двойной удар по Ковелю – со стороны Ровно через Луцк и со стороны Рафаловки вдоль железной дороги Сарны – Ковель, в дальнейшем не настоял на осуществлении этого многообещающего плана.
Кстати, интересно почему?
Смысл двойного удара по Ковелю заключался в следующем. Главные силы противника и наиболее развитые рубежи его обороны располагались вокруг Луцка. Со стороны Рафаловки Ковель был прикрыт лесами и болотами, и здесь сплошной обороны у противника не было. Расстояние от Рафаловки до Ковеля примерно в полтора раза меньше, чем при наступлении через Луцк. Если бы частям IV кавалерийского и XLVI армейского корпусов (группа генерала Гилленшмидта) удалось, обходя очаги обороны австро-венгерских войск, через леса и болота выйти к Ковелю, как это было намечено в плане Брусилова, то вся луцкая группировка оказалась бы под угрозой окружения. Именно такого рода маневры будут через двадцать восемь лет осуществлены советскими войсками в ходе операции «Багратион» и приведут к полному разгрому мощнейшей германской группы армий «Центр». (Заметим в скобках, что танкам Второй мировой войны было отнюдь не легче маневрировать в лесисто-болотистой местности, нежели кавалерии Первой мировой.)
Однако ни 23 мая, как было намечено, ни на следующий день группа Гилленшмидта к осуществлению плана не приступила.
24 мая Брусилов телеграфирует Каледину: «Приказываю во что бы ни стало спешить действиями XLVI армейского и IV кавалерийского корпусов». 25 мая – новая телеграмма с повторением «непреклонного требования» о производстве набега и с предложением «сменить Гилленшмидта, если он не может выполнить этого». В тот же день – телеграмма от наштаверха Алексеева: «Весьма важно, чтобы ген. Гилленшмидт проникся мыслью необходимости во что бы то ни стало использовать свою сильную конницу, не долбя своею пехотою сильно укрепленные участки без артиллерийской подготовки, оставаясь во время этого боя безучастным зрителем». На следующий день Брусилов опять телеграфирует Каледину: «Прошу передать ген. Гилленшмидту мое полное неудовольствие его слабыми действиями и плохою распорядительностью». В ответ – телеграмма Гилленшмидта Каледину от 28 мая: «В виду силы противника и наличия у него тяжелой артиллерии, успех набега нельзя считать обеспеченным».
Свидетельствует начальник штаба Юго-Западного фронта генерал от инфантерии Владимир Наполеонович Клембовский:
«Передавая эту телеграмму главнокомандующему, ген. Каледин прибавил с своей стороны, что вследствие малых шансов на успех он полагал бы с набегом „повременить“. Идея набега была совершенно оставлена; неосуществление или неуспех ее можно было заранее предсказать, в виду несочувствия исполнителей, т. е. командарма и в особенности самого ген. Гилленшмидта» [53]53
Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 5. Период с октября 1915 г. по сентябрь 1916 г. Позиционная война и прорыв австрийцев Юго-Западным фронтом / Сост. В. Н. Клембовский. М., 1920. С. 47–48; сайт «Русская армия в Великой войне»; http://www.grwar.ru/library/Strateg_Essay_5/SE_05_04.html.
[Закрыть].
Итак, пажу и гвардейцу Гилленшмидту не хотелось лезть в болото; Каледин не верил в успех, Брусилов не настоял… В результате две кавалерийские дивизии и одна пехотная простояли без всякого толка неделю, не сходя с места, пока остальные корпуса армии с большими потерями прорывали оборону Луцка с фронта. За это время противник успел перебросить в Ковель несколько германских дивизий и подготовить оборону этого важнейшего коммуникационного узла.
Самое удивительное – это объяснение невыполнения приказа главнокомандующего, которое дает Гилленшмидт: «Успех набега нельзя считать обеспеченным». А когда на войне успех можно считать обеспеченным? Когда враг заранее схвачен, связан и положен на землю? Вновь – прямой саботаж. Никакого наказания за свое бездействие командир IV кавкорпуса не понес: не мог же паж Брусилов обидеть Гилленшмидта – пажа, да еще к тому же генерала свиты его императорского величества…
Успех у Луцка был все же достигнут – и, главное, широко разрекламирован прессой (с которой Брусилов умел дружить – не без помощи своей второй жены, Надежды Владимировны, урожденной Желиховской, причастной к газетно-журнальному делу). Взят сам город Луцк, взяты трофеи и пленные. Но уже к исходу мая стало ясно, что 8-я армия увязла на Ковельском направлении. Крупных резервов, которые можно было бы использовать для развития первоначального успеха Луцкого прорыва, у Брусилова не было. Полнейшая пассивность армий Западного фронта в течение всего мая и половины июня позволила противнику перебрасывать на угрожаемое направление новые и новые дивизии, прежде всего германские, значительно более боеспособные, чем австрийские. Бои на Ковельском направлении приняли затяжной характер.
В начале июня неожиданно определился крупный успех на левом фланге Юзфронта. 9-я армия овладела Черновицами и быстро стала продвигаться к Карпатам, южнее Станиславова. Но и этот успех развить было нечем. В двадцатых числах июня противник и здесь смог организовать ряд контрударов. Продвижение 9-й армии замедлилось и вскоре остановилось.
Наступил «второй этап наступления Юго-Западного фронта». Начала работать страшная мельница, в которой без всякого видимого результата и смысла ежедневно перемалывались тысячи человеческих жизней.
Генерал Соколов:
«…Опьяненный первыми успехами и, главное, огромным количеством пленных, что всегда нам мешало должным образом учитывать степень успеха, Брусилов гнал нас вперед всем фронтом без резервов, без пополнений, результат такого общего фронтального наступления сказался быстро: распыляясь и неся потери с каждым переходом, мы быстро обессилили, и резервам неприятеля легко было обратить наш успех в катастрофу. Если этого не случилось, то только благодаря необычайному подъему духа в войсках, явившегося еще до начала наступления; об этот дух разбились даже подведенные на помощь австрийцам отборные германские войска, но зато успех Брусиловского наступления выразился лишь в незначительном территориальном приобретении, вернее, возвращении полоненных наших земель и занятии Восточной Галиции» [54]54
Соколов В. И.Заметки…
[Закрыть].
Конечно, не один Брусилов ответствен за огромные и бесплодные потери, понесенные на втором и последующих этапах летнего наступления. И еще того менее виновен в них Каледин, которого страстно обвиняет тот же генерал Соколов. Кто же виновен? Ставка? Эверт? Союзники? Безынициативные корпусные командиры? Неумелые командиры дивизий? Штабные генералы, выслуживающие звездочки ценой человеческих жизней? Выбирайте ответ по вкусу.
Составить представление о ходе второго этапа Брусиловского прорыва можно на примере одного боя, произошедшего 22 июня – какая примечательная дата! – возле неведомой деревни Живачов на реке Черешне, к югу от Станиславова. Обстоятельства этого боя подробно и по горячим следам зафиксировал в своем дневнике начальник штаба 12-й пехотной дивизии генерал-майор Снесарев.
«23.6.[19]16 г.
Вчера с 4.30 ч. было дело у д. Завачув [55]55
Совр. Живачов.
[Закрыть], кончившееся изничтожением 45-го полка. (Вся дивизия понесла [тяжкие потери]: в 45-м офицеров убито 3, ранено 15, контужено 4 (из 31 в ротах осталось 9); нижних чинов: убито 367, ранено 1458, контужено 46, остал[ось] на поле сражения [не подобранные] 186, [итого] 2057; осталось людей (штыков) 983; <…> Общие потери дивизии за 22.6: офицеров убито 11, ранено 38, нижних чинов (убито, ранено и не подобрано) 4698. Осталось в дивизии 5900 шт[ыков].)
Приказ был хорош, но не выполнен: на [взятие] 304-й [высоты] началось накопление, протолкнуты взводы, но в 9.15 [второй] приказ: атаковать с 10 часов высоту 353. А в [первом] приказе было: останавливаться на рубежах и закрепляться. Результаты: пошли на 304-ю и Безымянную к северу, но пока шли, были искрошены и разбиты ураганным огнем противника (пошли волнами, как учили, а ходить ими можно и должно сейчас же после артиллерийской подготовки с переносом огня дальше). На рубеж вышли изнемогшие, подпер[ли] 3 бат[альона] украинцев: первый – направо, второй – влево, третий – за прав[ым] флангом. Они шли легче, но тоже под огнем. Конечно, люди залегли вокруг Завачува. В 3.30 часа категорический приказ кор[пусного] командира и нач[альника] дивизии (какое-то „двойное“ [отношение к нам]: „Мне дела нет, если не найдут 4-й бат[альон] 47-го полка… Пусть становятся командиры полков впереди“). Мысль правильная, но выражена: 1) хамски, 2) трусом). Пробовали идти в атаку, но и силы, и порыв, и сердце были прикончены. Бросались, кричали „ура“, резали проволоку. Бронированный автомобиль был мною выпущен в момент „ура“, но шофер ранен, 1 пулемет уничтожен, другой поврежден, радиатор испорчен, лица других обожжены. Я с 4.30 часов до часу на 317-й [высоте] под артиллерийским огнем, а затем на выс[оте] 290 под непр[ерывным] ружейным и артиллерийским до 21 часу. <…>
24.6.[19]16 г.
Вспоминаем позавчерашнее дело (22.6 у Завачува). Характерна потеря пульса боя около 13 часов. Я чуял, что что-то не так, начинаются сетования, пересуды и страшное вранье. Предлагаю отправиться на [высоту] 290 (наблюдательный пункт командира 45-го, бывший под страшным огнем). Отправляюсь на 290-ю, а буде нужно, пойду дальше (т. е. в цепи). Я чувствовал, что нужно изменить точку наблюдения.
Отпущен. На лошади еду, сколько можно, а затем иду окопами, дохожу до 290-й и застаю всех прижавшимися к ямкам в передней крутости окопа. [Докладывают: ] „Убиты в 2 шагах такие-то, перебиты 8 телефонистов, связь потеряна, высунешь голову – стреляют“. Командир 45-го [полка] в удрученном состоянии: полк разбит (осталась треть), офицеры перебиты (выбыли все батал[ьонные] командиры, один до ранения 3 раза падал в обморок от жары), а приказывают наступать; кругом огонь, впереди форт, сердце людей ослабло. И когда мне было ясно, что дальше двигаться нельзя, что „сердца нет, значит и успеха нет“, в это самое время „крикуны в безопасном наблюдательном пункте“ развоевались. Ком[андир] корпуса и начальник дивизии приказывают в 5 часов атаковать и непременно взять Завачув и [высоту] 353. Что же? Взять – так взять. Поднялись и вновь умерли.
Дивизия в ночь с 21 на 22 [июня] заступила на позицию, и ей было приказано атаковать. Для изучения [обстановки] нужно было бы как минимум 2 дня, а могли наскоро осмотреться лишь от 16 час[ов] до 20 часов накануне. Что же дал [командир] 33-го корпуса, приказавший атаковать? Ничего! Ни [сведений о том], сколько артиллерии у врага, ни его пристрелочные данные, ни что такое Завачув, ни что на 353-й, ни про основную позицию, на которую [сам] готов был отступить и действительно отступил на нашем правом фланге („победой“ здесь страшно играли). Что же должен был делать начальник дивизии? Или просить 2 дня для осмотра, или требовать обстановки.
Ни то ни другое сделано не было, и дивизия легла.
26.6.[19]16 г.
Все еще переживаем думы за 22.6. Обнаруживаются такие факты. Доносилось, что в батальонах 45-го оставалось по одному офицеру; к вечеру явилось 9 целых. „Доносите одно, а выходит другое“, – говорит штаб. Не понимает. При том ужасе, который был, оказались отсталыми и спрятавшимися не одни нижние чины (этих было 355), но и офицеры, а к вечеру (затишье боя) подошли и подползли все. В разгаре-то были, конечно, не все. Кап[итан] Лобза (Петр Степанович) вел на позицию последний украинский батальон, после уже 2 часов, когда было сравнительно тихо, и до того был удручен и подавлен огнем, что „заболел“, отправился в обоз и выразился так: „Не могу больше, готов быть кашеваром, но дальше от этих ужасов“. Конечно, не всем дано. Дерганье исходило от корпусного [командира], который трепещет пред армией, а начальник дивизии не имел мужества, потеряв пульс боя, да никогда его и не имев, представить свое дельное возражение. Корпус[ной командир], передав директиву армии, построил коридор для дивизии и в нем указал рубежи. Считал, что этим дело его сделано, а затем начал толкать ругательствами и угрозами – картина довольно обычная» [56]56
Фронтовые дневники генерала А. Е. Снесарева // Военно-исторический журнал. 2003. № 8. С. 38–39.
[Закрыть].