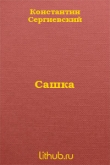Текст книги "Гримасы улицы"
Автор книги: Андриан Шульгин
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Через минуту был другой. По–прежнему лилось вино, и чувства, купленные, безразлично отдавали тело тому, кто покупал…
Глава XIII
Марфутка
Сережка Фокин, придя в ночлежку, обегал все корпуса, заглядывал в чумазые лица, не нашел знакомых ребят и решил в ней не оставаться, но вспомнив, что Марфутка согласилась пойти с ним, задумался. «Один везде пропадешь, а вдвоем – смотришь, и выручка будет, и при ночевке веселей. Дал слово, надо сдержать», – подумал он вслух и, сунув руки в карманы, пошел по углам смотреть, как ребята, стоя, мечут. Игра заманчивая – денег гора, уйму денег с кона снимают. «Вот здорово! Хорошо бы мне так, – вечера в два выставить ребят, ну и живи припеваючи» – мелькают мысли. Часов в одиггадцать влез он под шкаф головой и беззаботно проспал до рассвета. Утром у выхода Марфутка поджидала его.
– Ну, ты, чиво так заспался? Мне уж надоело ждать.
– А я думал, что рано.
– Неравно рано, а то влезет и полбарана, – осадила его Марфутка.
– Куда теперь?
– Ты иди на Трубную к столовке, а я на Самотеку сбегаю. Может, попадет какой в семейную, – петуха заработаю, а то, гляди, шамать нечего.
– На Неглинку бы–там верней. Все же городские бани.
– Сам иди к армяшке, он тебе чирика даст. – Ну, ступай–тебе видней. К обеду ждать буду.
– Не удавимся, так явимся, – сказала Марфутка и пошла.
Сережка проводил ее взглядом и тоже пошел.
День проходил тоскливо и ничего не обещал. Напрасно Сережка пробовал просить копеечку. Никто не подавал. Пробовал в чужой карман, и тут ничего не выходило. «Ну, и денек же выпал», – думал он и сердито чесал затылок.
Марфутка задержалась долго и вернулась к пяти часам усталая и распаренная.
– Я думал, ты под машину попала, все кишки перевернуло, – заговорил Сережка.
– Сволочь, легаш проклятый! Доверила иму, дура, вымыла и все прочее, а он, стерва, в шею мне. Так и ушел. Только задарма бутылку пива с им выпила. Другого сблатовала, а он говорит: «есть вот 3 целковых – хочешь, идем». Ну, знамо, и на это согласилась. На, держи – И девка, вынув из чулка три замусоленных бумажки, протянула их Сережке.
– Сволота! Ты бы в морду ему хряснула, ну, и вся. А там хоть выспится на тебе–все равно терпеть, а зло сорвать бы надо. Ну, пойдем теперь выпьем у армяшки, закусим, да и ночлег искать пора, – предложил Сережка, и они спустились в низок по Садовой.
Как ни тяжел был их трудовой день, а все же скоро терялся он в памяти. Каждая выпитая рюмка вина являлась возбудителем героизма и проказ. Только тот, кто не пил вина, не испытал этих дразнящих чувств, зовущих равно на подвиг, как и на преступление.
Поздно вечером они шли на покой, стараясь уйти подальше от людей, уйти в тихую сторону, где ни злые, ни добрые люди не остановят их. Шли они в парк, где лежит спокойный пруд, покрытый зеленой плесенью.
– Ну, вот здесь и уснуть можно. Знаешь, вдвоем все же верней и дело какое обсудить, а в ночлежке нынче не того. Из МУРа погуливают, да все такие, что и не узнать: свои ли, чужие ли, потому из своих много теперь скурвилось.
Марфутка ничего не ответила. В голове у нее кружилось и хотелось спать. Она молча опустилась к дереву и, широко открыв рот, сразу захрапела. Из–под грязного платья виднелись голые ноги, похожие на обрубленные куски почерневшего от дождей дерева. Сережка прилег к ней и, вытянувшись, прислушивался к долетавшему говору. Слышалось, как на пруду бабы, плескаясь, полоскали белье и, брызгаясь, заливались долго не смолкавшим смехом, катившимся далеко по вершинам потемневшего парка.
– Уморилась, бедняжка, – заглядывая в лицо Марфутке, прошептал парень и, как бы невзначай, забросил руку ей на грудь и прижался.
– Отстань, без тебя тошно, – протянула Марфутка.
– Я так, немного, – тихо ответил он и смелей к ней прижался.
Ночь, как старуха, нарядившаяся в лохмотья опускавшихся облаков, прикрыла их. Куча грязных лохмотьев долго ворочалась, временами, казалось, вздымалась и росла…
– Спи. Светать скоро будет. Чиво это развозился, как жеребец, – оттолкнув его, лениво простонала Марфутка. Парень сунул руку ей под голову, крепко прижал ее к себе, немного подумал и живо захрапел, пригретый ее дразнящим телом. Нежная пелена выплывавшего месяца дразнящей лаской озарила их. Город давно замолк, прервался топот тяжелых колес, на площадях беззвучно замерли автомобили. И парк, выравниваясь косматыми вершинами, молча оглядывал себя в гладком зеркале уснувшего пруда. Большие окна домов глядели розоватыми глазами ночников, как будто притаились и лениво молчали…
Вскоре стало светать. Где–то на фабрике протяжно завыл гудок, как бы от злости врывался в Сережкины уши, будил его. Он повернулся на другой бок, но свист гудка заставил его подняться.
– Ну, гадина! Чем свет разорался, – выругался он и, потягиваясь, засмотрелся на девку.
Марфутка, вывернув голову на корнях дерева, протяжно всасывала утренний туман, который, неохотно отрываясь от пруда, стелился по шершавому косогору. Ее посиневшие ноги были покрыты затасканной бахромой кружев опустившейся юбки.
– Тоже краля, – присмотревшись, подумал парень. – Как есть такая, какими на Смоленском торгуют…
Далеко на горизонте уже зажигалось зарево восхода. Позолоченные кудри облаков, как сгустки акварели, разбросались далеко по голубоватой синеве неба и глядели бледными спинами. Красота далеких родных степей вспомнилась Сережке, и что–то больно ущемило ему сердце. Вспомнилось ему, как он с отцом в такое же утро разбрасывал сеть и громко аукался. Вода подхватывала его и живо перебрасывала на другой берег. И показалось ему, что вот и теперь он там хлещет веслами по воде, набирает в себя свежего воздуху и аукает, что есть только силы.
– А–у–у-у… – И не заметил, как вскочила от испугу Марфутка, как пнула его в рыло башмаком и как спросонку, что есть силы, заревела.
– Бе–е–жи–ым…
– Куда еще бежим–постой, дура, постой, – кричал Сережка.
А она, как обезумевшая, бежала И не понимала, куда…
Весь день он сегодня бродил по городу, все искал ее и не нашел. Разбитый и усталый, с пятиалтынным в кармане, шел он в ночлежку с тупым, подавленным чувством. И казалась теперь ему Марфутка чем–то близким, родным и незабываемым.
Глава XIV
После дневных тревог
По утрам, когда еще крепко спит ночлежка, заглушая хрипоту, тоскливо и протяжно воют вентиляторы, высасывая зловоние. Воют они так, будто стараются вытянуть всю гниль лохмотьев, в три ряда вытянувшихся по большому темному корпусу. Теперь они походят на большую площадь, после базарного дня заваленную мусором и отбросами. В эту пору просыпается слепой Кондрат и долго водит бельмами выхлеснутых глаз, как будто собираясь взглянуть через окно на восходящее солнце. Катя просыпается в одно время с ним и, подолгу оглядывая ребят, ворочается на жестком, грязном паркете.
– Дедушка, посмотри, как ребята в клубочки съежились, – прошептала Катюша.
– А чем я смотреть–то буду, – ворчит старик и грозит пальцем. – Усни, время мало, – гляди, и шести еще нет.
– Асташка все еще спит и тоже согнулся, холодно иму, – надоедает Катюша.
– Усни, я тебе говорю; нельзя рано разгонарнвать, – останавливает ее старик. – Филат Кузьмич сегодня дежурит, он строгий человек.
Девочка поглядела в покрытые бельмами глаза и задумалась. Детский дом не выходил из ее памяти. Помнит она, как одевали ее в новое платьице, ласкали и носили гулять. А здесь что? Грязные все и усталые… Глаза ее бегают по тесным кроватям громадного корпуса, ища хоть бы одну светлую точку и, не найдя ее, уныло опускаются вниз.
– Ты чиво не спишь, лупоглазая? – приподымаясь на локоть, спросил Асташка.
– Я выспалась, не хочу.
– А днем опять зевать будешь?
– Усните вы, рано еще, – черти в кулачки не бьются, а вы уже на ногах. – Кондрат потушил цигарку и пристроился к ним.
Утренняя заря уже забросала золотистыми брызгами окна, и видно было, как вдали густым облаком подымался сизый дым и, развертываясь кольцами, исчезал. Бронзовые дорожки ярко восходившего солнца раскаленными прутьями ложились на грязный пол и долго шаловливо играли, будто собираясь пробудить кучу свернувшихся и скорчившихся людей. Хмурые лоскутья, вытягиваясь сплошными рядами нар и кроватей, прикрывают посиневшие тела. Суровые лица их уродливо искажены, как обезображенные трупы после страшных мучений. Из углов долетает шепот: ребята, пугливо оглядываясь по сторонам, прячут краденое под гнилое тряпье.
– Ты их, деньги–то, далеко не прячь, я стирки найду – в стос промечем, – прошипел сиплый голос.
Лежавший невдалеке от Кондрата старик тяжело закашлял, ударяясь лысиной об изголовье кровати, выплюнул сгусток крови к ногам Катюши и захрипел. На губах его почерневшая кровь стала похожей на куски печенки. На полу, изогнувшись полукругом, храпел Кондрат. Прижавшись к нему и прильнув к его бороде, жалобно, как свирель, свистел носом Асташка – фы–э–ы-э…
Катюша, уткнувшаяся в колени старика, походила на горелый, изгнивший пень, выброшенный на песок сердитой бурей. Маленькие ручонки ее были так грязны, что подходили под цвет утоптанного паркета. Солнце, игравшее на лицах затихших друзей, завернуло и поднялось на закоптелые стены…
– Вставать уж, поди, пора, гляди–семь будет, – ворочаясь на кроватях и нарах, в сизом дыму переговаривались ночлежники.
Усталые, заспанные, бледные лица задвигались и скоро оживилось все.
Нервный звонок известил о выходе.
Тогда они, как стая перелетных птиц, усталые, больные и общипанные, уныло ковыляя, рассыпались по улицам. Вот и слепой Кондрат, придерживаясь за рукав Катюшки, идет к Арбату.
Глава XV
Под говор волн
Немилосердно палило и пекло южное солнце. Море величаво вздымало свою сильную груды бросало пенистые гребни волн по отлогому песчаному берегу. Вдали, по голубоватой синеве, лениво барахтались лодки и словно чайки, кувыркаясь белыми крыльями парусов, тянулись к гавани. Невдалеке от развернувшейся бухты, в мареве раскаленных плит, чуть–чуть виднеется коричневатая точка вытянувшегося человека, похожая на обвалившийся от черноземного берега ком земли…
– Гляди, эти сволочи, барчуки, никак целый день в море. Видно, жир сбавить сюда приехали, – поворачиваясь потным лицом к приятелю по пляжу, сказал Сашка.
Парень, лежавший рядом, неохотно приподнял брови, сурово взглянул из–под них и, молча переменив бок, устремился в плещущее море.
Солнце уже садилось. Волны, принявшие темно–зеленоватый вид, ровными рядами катились к берегу, с шумом взбегали на песок, рассыпались тонкими кружевами, будто собирались нарядить его пушистою пеной, но, отринутые берегом, с тихим плеском откатывались назад…
– Ну, и денек задался, – год будто, а в брюхе гляди уж того, кишка кишке… Слышишь?
– Ну, слышу, чиво тебе, – недовольно ворчит парень.
Сашка приподнялся и, привалившись спиной к голубой ели, пристально посмотрел на него.
– Ничего, так я… Знаешь, ведь, что у меня на сердце, – не могу вот я ее забыть, Наташку то – и баста. Верно, хорошая она была.
– Ну, и помни про себя, а мне, что касается, на ухо не жужжи. Подумаешь, небось, какая невидаль!
– Не невидаль, а ты, Митька, такой не видал,
– Ты только видывал.
– И видывал, краля она была.
– Ну тебя… С ней. Разворчишься, как кила, – выругался Митька и, сбросив пиджак, без рубахи, прикрывавшей его тело, пошел в море.
– Иди, иди. Может, акула тебя проглотит, или кит, – крикнул ему велел Сашка и стал смотреть, как он, ловко врезаясь в ряды волн, высоко взмахивал руками. Волны, набегая, хлестали ему в лицо, Как будто гнали на берег. Временами он, как играющая рыба, взмахнув ногами вверх, то нырял, то всплывал и долго фыркал от соленой воды, которая проникала ему в нос и в горло.
Солнце все ниже опускалось к земле, покрывая морской простор перламутровым переливом…
С моря потянул ветерок. Яркое зарево заката начинало бледнеть. Волны, как бы затаив дыханье, седыми гривами тише взбегали на берега. Приятели, оставляя следы своих ног на влажном песке, ровными шагами шли к гавани.
– Через неделю я укачу в Москву. Не могу я здесь жить, когда наших людей не вижу. Тут, брат, легаши все в белых штанах, подтянутые; нам с ими не по пути, – тяжело вздыхая, говорил Сашка.
– Поезжай. Я тоже в Симферополь катануть думаю, потому, все же верней, – последним в деле не буду. А в Москве нашего брата полно. Здесь вот каждый день мы не одно, так другое срубим, а там не то, – живо голова вспухнет.
Впереди них, у пристани, толпился народ, и два большие глаза, зеленый и красный, из глубины моря приближались к ним. Было слышно, как пароход резал упругую воду и шумел винтом.
– Ты знаешь что? – сегодня выбирай чемоданы потяжелее и обязательно у баб. Если баба трекнется, – в зубы ей, а сам тягу.
– Знаю. Чиво льнешь, – огрызнулся Митька, но, не отставая, пошел за ним.
На пристани стояла давка, толкотня, и шли споры, на подмостках пищали стиснутые толпой женщины и слышался смех. Сашка важно шел впереди как надсмотрщик, оглядывал солидные чемоданы и узлы. Глаза его оживленно бегали по рядам пассажиров и время от времени задерживались на заманчивом куше. В это время он, останавливаясь, говорил движением глаз приятелю: «Добро бы» и проходил. Пароход уже дал свисток, подходя к гавани. Публика густо сгрудилась и рвалась вперед. Митька продвигался сбоку и внимательно наблюдал.
– Разрешите донести, за три гривны все сделаем, – сняв картуз перед солидной надушенной дамой, предложил Сашка. Пока она презрительно оглядывала его, он уже прощупал глазами багаж, состоящий из двух чемоданов и узла.
– Да–да, – согласилась дама, завидя, что пароход уже причалил к пристани. – Только попрошу вас не отставать.
– Слушаемся, – в один голос ответили Сашка с Митькой и, пристегнув на перевес, взяли ношу.
– Не зевай, – подмигнул Сашка приятелю…
Вечер уже плотно насел на морской простор, соединяя его в одно целое с берегами. Волны, взбудораженные пароходом, злее заворчали у берегов, сливаясь с гулом человеческих голосов. Сашка, оглядываясь, выжидал момент, когда народ проломит первую стену и бросится в черед. Такой момент ежедневно наступал. Сначала тихо и спокойно все движутся вперед, а потом как нажмут, так все и завертится, и люди, толкаемые крепкой стеной, с шумом вливаются через трап на широкую палубу.
– Не на–пи–раа-й, – катились выкрики, но ими никого удержать не удалось.
Сашка, пользуясь моментом, прислонился к барьеру, делая вид, что меняет плечо для груза. Человеческая волна с визгом прорвалась, отбросив хозяйку багажа далеко на палубу. Ребята, воспользовавшись этим случаем, задыхаясь побежали с грузной добычей…
– Фу, ну я же и натер сурепицу, не знаю, как ты, – устало падая на песок, заговорил Сашка.
– Да и я не меньше твоего. Все–таки надо сперва зарыть, а потом задом круга два сделать, штоб, ежели искать по следам будут, не трекнулись.
– Давай прямо здесь зароем, а потом по следам ногами; тогда и собаке не разыскать потому след–то дальше будет показывать.
Сашка согласился и они, в четыре руки наскоро схоронив добычу, пошли на пляж освежиться в море. Синее море было особенно ласково в этот час. Волны его уже стихали и с слабым бесшумным плеском целовали людям ноги и, казалось, манили к себе в темно–бархатную даль. Только где–то вдали еще слабо слышался шум воды от уходившего парохода.
– А в чемоданах–то того, тяжеленько. Комиссарша, поди. Губы красные, – кровь будто выступила.
– Тряпки одни, – золото на руках осталось. Небось, видел, сколько обручей на пальцах, а на руке змея золотая и часы…
Придя на пляж, они наскоро выкупались и бодрыми шагами, минуя богатые дачи и санатории, поспешили к Камбале (так называли они кривую бабу, торговавшую пирожками).
Хорошему покупателю везде почет, думали они, и, конечно, не ошибались. Камбала с улыбочкой встретила их и ухаживала, как за принцами, боясь отпугнуть от себя. А они за это краденые вещи за бесценок ей сплавляли…
Далеко за полночь, еле передвигая ноги, пьяные от усталости, шли они на берег. Впереди них шумел прибой. Вода высоко взбегала на берег и с тихим шумом, как бы смеясь, скатывалась назад. А вдали, у высокого мыса, волны с грохотом разбивались и шипели, обдавая каменную груду пенистыми слезами, отчего зловещим шумом наполнялись берега.
Подойдя к заветной голубой ели, они молча опустились между черных плит россыпи, как будто ушли в землю до очередного дня. С темно–синего неба нежно глядела луна и, чудилось, улыбалась круглым лицом, заглядывая на храпевших приятелей.
Волны сильней взбегали на берег и о чем–то тихо шептали…
Рано утром, когда курортная жизнь побережья еще спала, Сашка с Митькой уже возвращались от Камбалы.
– Сорок червонцев, это значит четыреста рублей, – перебирая бумажки, сказал Сашка, собираясь спрятать их в карман.
– По двадцать на рыло выходит.
– По двадцать? – переспросил Сашка. – А не хочешь три штуки получить, а?
Митька, вспыхнув злостью, как бы ненароком пощупал нож, который торчал у него под блузой и, успокоившись, ответил:
– Все бери, если ты их своими считаешь, – мне не надо.
Сашка шел рядом с ним и, дразня, шуршал деньгами.
– Подачку ты, видно, мне дать хочешь, но я от тебя не возьму, – продолжал Митька.
И под разговор, сверкнув ножом, нанес удар в голову Сашке. По щеке брызнула кровь, он вскрикнул и, отскочив назад, схватил булыжину.
– А–а–а, ножом, подожди же, я тебя смажу, стерва, подожди, – рычал Сашка, вытирая рукавом кровь и подкрадываясь к Митьке, который, крепко сжав нож, готовился нанести второй удар.
– «Три штуки не хочешь получить?» – повторял Митька Сашкины слова.
– Н–на–на, бери, – взревел Сашка и тяжелым булыжником ударил Митьке в грудь.
Митька крякнул и, отступив несколько шагов, мягко вытянулся на свежей гряде песку, намытой за ночь. Из ушей, изо рта и из носа заструилась кровь, глаза, точно собираясь выскочить из орбит, шире раздвинулись и посоловели, крепко сжатый нож вздрагивал в руке, как будто грозя кому–то. Солнце, отрываясь от горизонта, брызнуло им в лицо теплыми лучами и, слабый, затихавший ветерок бессильно повеял прохладой.
Сашка сошел к воде, омыл свою рану и, как бы прощаясь, посмотрел в лицо Митьке, который протяжно хрипел, захлебываясь вскипавшей изо рта кровавой пеной. Волны, закончив ночной прибой, слабо ласкались к берегу. Сашка взял Митьку за ногу, повернул на живот и, сунув несколько белых бумажек в его карман, скрылся за густыми аллеями.
Глава XVI
Встреча
Время, как весенняя вода, быстро бежало. Агенты МУРа прошлой осенью раскрыли притон Петрушкова. Нить пьяного разврата оборвалась. Наташа, отсидев в тюрьме шесть недель, была выпущена на волю. Недавнее прошлое, опьянившее ее разгулом беспечной жизни ресторанов, кабачков, снова потянуло к себе, на улицу. Целыми ночами она бродила по бульварам, крадучись от людей, в церковных дворах, в глухих безлюдных переулках и редко по кабинетам в кабачках продавала она свое износившееся тело. Бескорыстная добрая улица дала ей свой приют. Только холодные ранневесенние ночи загоняли ее в ночлежку. Вот она лежит на голых досках кровати и долго мечется, как больная, задыхается и бредит, бредит не во сне, а живым потоком воспоминаний о родном селе и родных людях. Помнится ей, как когда–то в шумных хороводах она резвилась среди детей и взрослых девушек. В эти минуты как–то живо все переворачивается в ее уме, и светлые мысли, снова опьяняя ум, живыми образами представляют беззаботное детство. И не слышит она, и не замечает, как кругом нее кипит жизнь детей улицы, а синеватый дым табаку все гуще и гуще наполняет ночлежный корпус… По утрам она уходила на рынки и долго безразлично оглядывала ларьки и публику. Недавний вид крикливых нарядов, который опьянял ее, поблек и потерял свою вульгарную прелесть. Когда–то белое, шуршащее платье ее теперь стало коричневым, расползлось и неуклюже прикрывало грязное тело…
На улице лил дождь. На жестяных подоконниках подпрыгивал каплями и с глухим шумом обдавал брызгами, будто собираясь шумным ливнем ворваться в окно и омыть нарядные лохмотья.
В углу кто–то вяло и жалобно пьяным голосом тянул песню:
Девицу–красавицу…
Рядом с Наташей лежала худенькая девушка лет девятнадцати с бледным лицом и с широко открытыми черными большими глазами, смотревшими в окно с какой–то жаждой и упоением. Сухая, обвисшая грудь тяжело дышала, в горле слышалась хрипота, в отброшенной руке слабо дымилась папироска. Густо накрашенные губы горели как яркий мак, расцветший на белой глине.
– Ира, пойдем? Дождь прошел, – толкнув ее, спросила проходившая девушка.
– Нет, я не пойду, – душа болит. Раздумалась я сейчас и вижу, будто Сашка подошел ко мне и долго смотрит в глаза суровым, обиженным взглядом.
– Пойдем, сегодня суббота, – франтов на Неглинке теперь полно.
– Не пойду, – тихо вскрикнула девушка и отвернулась к Наташе.
Мысли оборвались.
Наташа, услышав знакомое имя, схватилась за голову, и перед ней живым призраком встал хмурый заботливый Сашка. Живые вереницы воспоминаний полились в ее голове. Когда–то там, далеко, в теплушке, он, уткнувшись ей в колени, рассказывал ей, а она плакала, стыдливо скрывая слезы. И Наташа рассказала девушке про своего знакомого Сашку.
– Это тот самый Сашка, – заговорила Ира, выслушав ее. – Он часто говорил мне твое имя, часто вспоминал о тебе. Я ходила в колонию справляться о нем, но ребята сказали, что он удрал.
Они замолчали. Шумный говор пьяных девиц и старух стал слышней. Тяжелый смрад, казалось, еще сгрудился и не давал дышать. В углу кого–то тошнило. Нестерпимо пахло вином. К часу ночи они, захлестнутые волной раздумья, сладко спали, улыбаясь чему–то. Тяжелая жизнь оборвалась до рассвета, и мученья мгновенно отошли в бездну глубокого сна…
Утром, когда еще ранняя заря не успела
Окрасить лежавший трупом чудовища город, к они уже шли в него. Через час он был таким же хвастливым, обманчивым, наружно–красивым, как всегда. Уличный человеческий поток проглотил их, и те же старые, тоскливые будни серыми днями закружились вокруг них.
Ранним весенним утром, вернее, в конце зимы, когда каменные спины улиц не освободились еще от снега, а лужи лежали тоскливыми заплатами, поблескивая от лучей слабо согревающего солнца, они, усталые, сидели на улице. Мимо них под барабанный бой и с оркестром проходили пионеры и рабочие демонстрации. Красные знамена, купаясь в воздухе, кричали лозунгами о борьбе, о красивой свободной жизни. Красные косынки работниц и комсомолок, чудилось, подмигивали им и звали. Оркестр, раздирая души бездомных, будил сознание и громко с отчаянием плакал в ушах.
– Нет, нет, я не могу здесь, пойдем на Трубную, – подымаясь, сказала Ира. И с тупыми, невнятными мыслями, осмеянные иронией судьбы, пошли они мимо богатых, блестящих витрин Петровки…
К вечеру они сидели в «низке». Это укромный уголок в подвальном этаже вблизи Александровского вокзала, с крупной надписью «Сапожный мастер». В первой комнате сидел здоровый армянин, лет тридцатипяти, выпроваживая ненужных заказчиков
– Заказам много, не бером, – говорил он густым басом.
За «сапожной мастерской» шли кабинеты, перегороженные тесом, с керосиновыми лампами, и темный коридор с такими же дощатыми загородками.
Наташа с Ирой устроились на видном месте, чтобы не пропускать гостей, и угощались спиртом. С наступлением сумерек парочки и одиночки быстро наводнили притон. Публика задерживалась недолго, – новые лица быстро сменяли одни других.
– Эй, хозяин! – приоткрыв дверь, крикнул парень. – Дай нам еще одну.
Одет он был в поношенный коричневый костюм, волосы куделями торчали впереди. Это был Сашка. Наташа по голосу узнала его и бросилась к нему навстречу.
– Саша, ты ли это?
– Я, – тихо ответил он, присматриваясь.
– Помнишь Наташу? – воскликнула она и, покачиваясь от охватившего ее волненья, схватила его за руки.
– Так это ты? – сжимая ей руки и оглядывая с ног до головы, спросил Сашка. – А та кто, что с тобой?
– Ира. Ты знаешь ее, – на дело вместе ходили.
Он, казалось, растерялся и не знал, что им сказать.
– Ну, пойдемте.
Взяв их под руки, он повел в кабинет. При входе вынул мятую бумажку и, сунув в руку сидевшей девушки, весело заговорил: «Ну, теперь ты ступай, я своих встретил». Через минуту было подано вино, а за ним полились расспросы. Рассказала ему Наташа, как она рассталась с Катюшей и куда попала сама. Сашка с удивлением смотрел на нее и думал: «А я боялся поцеловать, сберег для чужого дяди»…
На ночь Сашка увел их в развалины и, одурманивая себя прошлым, думал о новом счастье с Наташей в родном селе.
Г лава XVII
В пути.
В полном разгаре наступала весна. На полях зазеленела кучерявая, шелковистая озимь, лес покрылся молодой листвой и разливал аромат. По кустам, взъерошивая серые перья, перелетали воробьи, как бы ища прохлады. Внизу, за порослями тупых холмов, изгибаясь голубоватой лентой, протекала река, гладкая, сильная и могучая, ласкаясь к берегам, окаймленным кустами ракит и отцветающей вербой.
Над крутым берегом, свесив ноги, сидели Аста шка и Катюша, устремив свой взгляд в голубую даль, куда, змееобразно вытягиваясь в густом лесу, тянулась проселочная дорога. Невдалеке от них лежал Кондрат, уставший от тоски и гнетущей его болезни. Сегодня шесть дней, как они покинули Москву, перебираясь в другой город. Теплые лучи падая на белокурую головку Кати, золотили грязные волосы. Глаза Кати были задумчивы, что наводило уныние и на Асташку, который, опустив голову, сидел задумавшись. Кондрат, приложив к уху ладонь, прислушивался в сторону ребят, как бы собираясь рассмотреть, что они там делают. Потом менял бок, ощупав землю ладонями, часто курил, подолгу кашлял и тяжело вздыхал. Его старый кожух с густыми сборками, который он называл «епанчей», теперь казался ему тяжелым и душил его.
– Дедушка, пароход идет, – радостно вскричала Катя и стала прыгать на берегу.
– Ну, и пусть его; он нам не попутчик, потому, до Саратова, ай до Самары не довезет, – вяло ответил старик. – Чайку бы теперь согреть, вот это другое дело.
– Давно ли пили? Ты чиво это, дедушка! Гляди еще и старый не остыл, – недовольно отозвался Асташка.
– Кашель меня душит, – надо быть, бронхит, потому, харкотины много стало отходить, а горяченького хлебнешь, гляди, и отхлынет немного.
Асташка тяжело поднялся, оттолкнул Катюшку от берега, пошел за водой.
– И я пойду, подожди.
– Куда еще тебя понесет? хворост собирай! Вернусь, огонь разводить буду.
– А я туда хочу, к воде.
Асташка пригрозил пальцем и она, недовольно отвернувшись, пошла вдоль деревьев…
Через четверть часа горел костер; сучья, потрескивая, прятали котелок в сизой кудели дыма. Асташка долго молча стоял над стариком, боясь спросить, что случилось, Перед ним, сгорбившись в клубок, лежал Кондратий. похожий на большой серый камень, обросший мохом, и тяжело дышал. На губах его и на земле горела кровь алая и коричневатая, как махровый мак, разбросанная плевками.
– Дедушка, вставай–котелок уже давно вскипел, – нагнувшись над стариком, сказал Асташка.
Кондрат часто замигал глазами, всосал в себя воздух и, подобно кузнечному меху, постепенно выпустил дух.
– Тяжко мне, Астаха, тяжко! Грудь во как сдавило, будто конец пришел, – прошептал он и вытянулся.
– Выпей чайку, горячий, хороший. Сам сказывал, – вот и отвалит от груди, значит.
– Верно оно, а все ж вода. Винца бы теперь, штоб харкотину отодрало.
– Хочешь, побегу. Те, что встретили нас, сказывали, что тут за леском село будет.
– Потерплю, Астаха, – нешто найдешь тут чиво–нибудь, глушь этакая. Давай чайку…
Пока они пили чай, солнце, опускаясь за горы, начинало быстрее исчезать, как бы вбираясь в землю. От леса легли тени и ветерок с реки потянул сырую прохладу– Катюша, подогнув ноги, сидела у костра и, что–то мыча себе в нос, всматривалась в угли, которые то вспыхивали жаром, то начинали темнеть. Полная грудь реки задернулась синевой морщин, нахмурилась и как бы от злости почернела. Только вдали, по широкому ее разливу, слабо горели живые краски заката. Розовый клин бронзового неба бледнел. Широкий круг распластавшейся степи начинал суживаться, и горизонт подходил к ней вплотную. Стало сыро и холодно.
У догоревшего костра молча лежал Кондрат; его лицо теперь становилось еще бледней и густые складки морщин, казалось, глубже избороздили широкий лоб и глубоко впавшие щеки.
– В деревню бы теперь, дедушка, – заглядывая ему в лицо, сказал Асташка.
Старик немного помолчал, потом, ловчей засунув руку под голову, нерешительно ответил:
– Не дойти мне: холки страсть как болят с икрами – будто шилом кто наколол. Чуть отекли они, да и голова тяжелей стала, клонит к земле, верно, она, земля–то, к себе зовет. – Старик тяжело вздохнул и часто замигал глаз ми, как будто нарочно выжимал слезы, чтобы напугать ребят.
– А ты вот давай мне денег, подряжу я мужика, довезет, – предлагал Асташка. Но старик не ответил.
Катюша влезла к нему под «епанчу» и скоро захрапела. Кондрат закусил губы, сморщил лоб густыми складками, как бы смотря в костер, который слабо тлел последними головнями. В голове Кондрата теперь стояла одна мысль: найдутся ли люди, которые приютят ребят. Асташка, как будто понимая его мысли, заглядывал в вытекшие глаза и вздыхал, припоминая, как Кондрат взял его с улицы так же, как и Катюшу, и обоих равно любил. В груди Асташки скребло и болело сердце. Он понимал, как тяжело без старика им будет жить на воле.
Ночь уже сошла. Асташка подложил последний запас сучьев на догоравшие угли, которые ярко озарили их и, вытянувшись на спине, стал глядеть на темно–синее небо. Внизу игриво шумела река и шептался лес, тоскливо рыдая сучьями, как будто пел глухие похоронные песни… Только небо синее, звездное безразлично смотрело на него…
Ветер врывался в костер и красные языки пламени, раздвигая тьму, тенями бежали к лесу.
Стало жутко. Кондрат тяжело храпел. Асташка приподнялся, взглянул на него, потом плотней завернулся в лохмотья и умолк. Ночь теснее надвинула тьму, ветер сильнее зашумел листвою, деревья, как высокие мачты, раскачиваясь, застонали вершинами, будто песню запели о нищете и бездомстве…
…Рано утром, когда еще только чуть–чуть брезжил рассвет и золотистые брызги солнца, как пожар, ярко вспыхивая за лесом, начинали проникать к ним, Асташку разбудил крик рыдавшей Катюши.
– Ты чиво скулишь? – испуганно вскакивая, вскричал Асташка.
– Да-а, он не пускает меня… – выла девочка. Глаза старика были открыты, но неподвижны.
Бледное лицо его было покрыто синевой, глубокими шрамами казались уродливые впадины щек. Руки, всунутые в рукава, были крепко сжаты. Солнце казалось, радуясь смерти старика, играло на его лысине. Асташка, освободив Катюшу, молча отошел к берегу. Перед ним также величаво катилась река, как и вчера, отражая в себе солнце и небо; голубая, прозрачная даль, вытягиваясь то степями, то лесом, манила к себе, на свой простор.