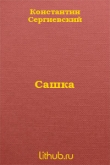Текст книги "Гримасы улицы"
Автор книги: Андриан Шульгин
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
– К тебе бы это пошло. Лицо у тебя нежное и характер добрый, хоть ты и испорченный человек.
– Нужда, значит.
– Да-а, – протянула Ира и с любопытством спросила: А что, ежели бы ты ее встретил, эту самую Наташу, обрадовался бы, а?
– Почем я знаю. Если не скурвилась, то так, а скурвилась, сразу убил бы, как Курузу.
– Сразу бы меня бросил?
– Зачем бросать? Вместе бы жить стали. Я к тебе тоже привык, да и… – Чья–то рука, вцепившаяся в воротник, остановила Сашку.
– Кто вы такой? – спросил незнакомец.
– Человек, беспризорный я, – спокойно ответил Сашка.
– А вы? – обращаясь к Ире. – Кто вы будете?
– Я тоже.
Послышался свисток и два подбежавших милиционера отвели их в отделение.
В отделении Сашка вел себя развязно.
– Как тебя звать? – допрашивал толстый обрюзглый милиционер, походивший на околоточного. – Да смотри, правду говори, а не то по статье уголовного кодекса отвечать будешь.
– Непомнящий Сашка.
– Так, а по отцу?
– Не знаю.
– Как не знаешь, мошенник!
– Не подсматривал, небось, кто отцом был.
– Та–ак. А тебя, красавица?
– Непомнящая Ирина.
– Ах вы, стервецы! Да я вас привлеку, как уклонившихся от следствия. Тарасов, сведи их в арестное. Ух, мошенница! А хороша она, так и ест глазами, как вымуштрованный солдат в старой роте.
– Я прошу вас, товарищ, без глупостей. Мне нужно получить чемодан с вещами, которые похитили они, – говорил потерпевший.
– Не волнуйтесь, вещи не пропадут, но пока их нет, – доказывал дежурный.
– Как нет? Этот голодранец со своей шмарой в моих костюмах изволит гулять.
– Что, шмара? Вы, кажется, тоже из блатных голубчик? – Бурчал милиционер и что–то непонятное строчил на бумаге.
Однако, это длилось недолго. Милиционер оказался под мухой и был посажен под арест. К вечеру Сашку с Ирой отвезли в колонию малолетних преступников.
Глава VIII
У Петрушковых
В два часа дня Наташа была уже у Петрушковых. В доме, казалось, готовился особый обед. Все суетились, бегали и куда–то спешили. Люди, как автоматы, поставленные на одну точку, бестолково бегали и кружились. Еще по дороге к дому Еремей Власыч, слегка покрякивая и расчесывая бакенбарды ладонью, строго сказал Наташе, что он не может терпеть непослушных. И тут же, ткнув ее в бок, оглянувшись, спросил на ухо:
– И замужем не была?
– Нет, Еремей Власыч,
– Значит, еще н-не того? А годков сколько?
– Семнадцать исполнилось.
– Как раз. Гляди, и шестнадцати можно, – прищурив глаза, сказал Петрушков. Ущипнув ее за руку, он прошептал вслух: товар добрый, гляди, свежиной пахнет.
По приезде, Петрушков, на всех прикрикивая, ухаживал за нею сам. Наташа в недоумении смотрела то на него, то на окружающих и пугливо оглядывала свое новое убежище.
– За что честь такая, Еремей Власыч?
– Полно тебе сейчас–то. Опосля об ефтом поговорим. А что касается нарядов, я пришлю Василису. Надобно сменить. Сама–то, гляди, толком не умеешь, так ли? Ну, пока. Да целуй, привыкать надо.
Наташа поцеловала его в мокрые усы и хотела обтереть губы.
– Не сме–еть! Никак бы не падаль поцеловала.
Наташа большими испуганными глазами смотрела на него и слезы обиды и горечи, выскользнувшие из глаз, задержались на темных ресницах.
– Смотри у меня! – Петрушков, крепко ударив дверью, вышел. Наташа тяжело дышала, вздрагивая всем телом.
Спустя час, одетая в изящный костюм, сидела Наташа перед большим трюмо. Василиса Петрушкова хлопотливо завивала кудельки ее волос, как то бережно прикалывала их шпильками.
– Страх, как наряд этот тебе идет! Красавицей ты в нем стала.
– Стыдно мне. Простая я, крестьянка, потому господские не к лицу, – говорила Наташа, и как бы не доверяя хозяйке, оглядывала себя.
А была она прекрасна. Робкая невинность глядела из голубых ее глаз опьяняющей лаской.
– Страшно мне здесь, – говорила она хозяйке. – Боюсь чего–то и не пойму…
– Еремей Власыч к столу просит вас пожаловать, – крикнул кто–то в дверь.
Наташа вздрогнула.
– Идем, – отозвалась хозяйка.
И они пошли. За обедом шел развязный разговор. Говорили, кто что хотел. Все пили спирт и дико хохотали. Петрушков без церемоний поил Наташу.
– По–нашему, все должны пить, потому ученый и зажиточный народ без этого не может.
Кроткая, юная простота Наташи не понимала хитростей, и простота Петрушкова скоро усыпила ее бдительность.
Ранним вечером, когда еще не угас закат, когда еще на спинах каменных богатырей лежали разбросанные слабые сгустки бледневшего зарева, козырный король Петрушков плескал извращенную похоть над своей жертвой. Напрасно рвется Наташа и беспомощно бьется в руках обезумевшего зверя. Старик, как тигр, сдавил ее горло, и казалось, готов был без сожаления высосать кровь. А когда стемнело, Петрушков, усталый от упоения, уткнувшись в обнаженную грудь девушки, чмокал губами и рычал голодным псом над куском обнаженного тела. А еще позднее, когда дико ревел притон и алчные покупатели гремели золотом, он до утра продавал ее, как и других, получая по золотому. Слепая страсть потонувших в омуте извращенной похоти неудержимо катилась в пропасть. Какой–то толстый, неуклюжий торгаш изливал животную похоть на лежавшую в обмороке Наташу, а за дверьми все еще шумели голоса и истерически то плакало, то хохотало пианино.
Глава IX
Кровь звала
Долго пролежал Сережка Жокин в больнице. Зима показалась ему за целую вечность, но он крепился и ждал. А ждал он весны, долго ждал и дождался. Теперь он целые дни проводил в больничном парке, часами плавал по пруду на плоту и пел. Пел простые, заунывные песни и тосковал по маленькой захирелой сестренке Кате. «Где она, бедная, живет?» – часто вслух, про себя говорил он и даже, бывало, плакал по ночам, плакал, как большой, навзрыд, как по покойнике. Иногда он убегал к решетке забора и подолгу глядел на игравших девочек и думал, думал о том, что, может быть, давно умерла его Катя, потому что тиф был у нее, как говорили на вокзале. А тиф ему знаком. Хоть сам он и не болел им, зато за дорогу много умерло на его глазах от этой злой и жестокой болезни. «Больше не могу терпеть, удирать нужно, а как? У ворот сторож, а кругом высокий забор и, главное, в чужие дворы выходит. Страшно, за мошенника сочтут», – думал он не переставая и строил детские планы.
Вечером, когда больные ужинали, Сережка выждал момент и, перебравшись через острый хребет забора, убежал. На улицах непрерывной нитью двигался народ. «Модный мир» не замечал, что среди них, ныряя, бежит маленький человек с бьющимся сердцем, как и у них, бежит, рвется к жизни. А ему казалось, что кто–то нагоняет его и кричит: «Задержи–и–и-те». Улицу за улицей, переулок за переулком большими прыжками отмерял он, задыхался, но не останавливался, стараясь живее добежать до того места, откуда его забрали в больницу. Вот и он! Восьмиэтажный дом по–прежнему глядит ярко освещенными окнами как чудовище, по–прежнему насторожился тысячью глаз, как бы выслеживая каждый шаг маленького беглеца. Сережка завернул в темный переулок, еще прибавил шагу и вдруг круто остановился. Перед ним стоял мрачный обгорелый дом и знакомые развалины. Некогда было ждать. Оглянулся по сторонам, прислушался. Было тихо. Потемневший дом хмуро смотрел на него, как большое кладбище, и молчал. Бр–рр, – протянул он от ужаса и новой мыслью успокоил себя: «А может, и ребята здесь, и Катюшка с Наташей вернулись, ждут меня». И он, согнувшись, шмыгнул под ворота и тихо вошел в развалины. Неприветливая мгла пахнула сыростью и непонятный кошмар встал перед глазами. Ноги оцепенели и не хотели идти вперед, а волосы, как поваленный ветром хлеб, чувствовалось, подымались под шапкой. Но минута, и он снова идет как хитрый вор, крадется в немую глушь, протянув свои руки, как будто собираясь сказать: «Возьми меня, я больше не буду». Под ногами, скатываясь вниз и шурша, громыхали кирпичи. Это пугливо отдавалось в пустоте и, глухо рассыпаясь, таилось вдали. Сережка опустился на колени и было пополз в угол, но в это время что–то с визгом, обдавая ветром, прыгнуло через него. И снова жуткой тишиной насторожились развалины. Сережка ткнулся лицом к земле и замер, притаив дыхание. В голове закружилось, зазвенело в ушах и тяжело заколотилось сердце в груди. Так всю ночь пролежал он на сырой земле. Повернувшись на спину, глядел ввысь и думал о сестре и о доме. А слезы неудержимым родником и влажной пеленой покрывали его глаза. И звезды ясные сливались воедино, как бы собираясь в кучу и кучами прыгали по темно–синему чистому небу. Мысли о былом и память о матери начинали душить его и он, долго всхлипывая, топил их и горечью и обидой безотрадного детства. Когда–то там, на родных полях, в копнах свежего, душистого сена, слушал он песни отца, в которых изливались горе и радость, которые были полны тоски и негодования. Казалось, все это было вчера и, однако, стало таким далеким; бывало беспредельной гладью раскинется ширь воды и голубые дали на твоих же глазах сменятся ярким заревом заката. Темно–красной полосой опояшет тебя горизонт… и потонет.
«Катя, Катюша!» В сладких раздумьях воспоминаний срывается с его губ это имя и картина светлых иллюзий, как незаконченная серия на экране, оборвалась. Снова уткнувшись лицом к земле, он долго вздрагивал маленьким надорванным телом, то бился головой о кирпич, то кувыркался и грыз себя, как будто хотел опомниться, но не мог. До рассвета полнились немые развалины воплями тяжелых переживаний и тенями близких людей, а кровь, родная кровь неудержимо влекла к себе, пьянила зовом.
Ранним утром ушел он на Смоленский рынок и долго бродил среди ребят. Тоска, как змея, сосала сердце, и хотелось есть, но нечего было. Вблизи его бродили ребята и о чем–то шептались.
– Пойду, попрошусьв компанию, может, возьмут, – подумал он и пошел к ним с тупым подавленным чувством.
– Ты чиво здесь околачиваешься? – спросил здоровый парень, смотря на него исподлобья.
– Делать нечиво, – вот и пришел.
– У нас не биржа.
– Я и не ищу биржу; чиво пристаешь? А тоже–товарищи.
– Свой, значит, коли не сробел, – одобрительно отозвался парень. – Садись, чиво зря ноги коверкать–еще пригодятся.
Сережка послушно опустился на бульварный железный прут и с любопытством оглядел соседа. У парня уже чуть пухом пробивались усы и красным пупрышем глядела рваная ноздря.
– Зачем у тебя нос–то так? – спросил Сережка.
– Так вот. Бусали со шмарами, ну и хапнула, дура, – целый месяц с бинтом ходил. Ты о деле говори. По виду, из другого города приехал.
– Нет, из больницы удрал. Видишь, лоб как испятнали. А теперь в артель думаю. Были у меня ребята свои, да где их теперь найдешь нешто?
– Если хваты, то на Сухаревой, а разини, то так, по–мелкой бьют где–нибудь. Понял?
– Понял.
– Ну, вот. Хочешь к нам–иди. У нас пока так себе, а все не на голодуху. Голос у тебя как?
– Пою. В деревне когдась был, и на крылости ставили.
– Значит, толк выйдет. Потому, жалостливый голос все же верней, – народ подает лучше. У меня вон Васька–заноза с ложками; подыгрывает и поет. Редко отказывают. Парень хитрун. Намедни инвалидом сделался, на карачках ползал, ну и подавали што надо. По двенадцать рублей стрелял.
– Привыкнуть надо; сразу, пожалуй, не сгожусь.
– Хочешь, к мокрушникам иди. Только тоже живут, как турецкие святые, – сказал парень и добавил пару крепких слов для остроты разговора.
– Куда мне! Я слабый, да к тому же родимец (припадок). Хлестал раньше. Крови боюсь, в деревне сказывали.
К вечеру Сережка сидел под забором ночлежки и о чем–то серьезно разговаривал с захирелой больной девкой. Голос у нее был сиплый и как–то странно хрипел. Сережка внимательно слушал и курил, часто втягивая дым, как будто куда–то спешил или не хотел оставить окурка.
– Чуда–ак ты человек! Влип, как муха в тенетину. Сколь тут не соберешь, все в стирки спустит, – говорила ему девка и тыкала в бок пальцем.
– Плохо будет–уйду. По–твоему терпеть не буду.
– Я тоже уйду, пойдем вместе.
– Пойдем. Куда только?
– Куда хочешь, по мне хоть в воду.
Девка живо уговорила его, и они с новыми мыслями спокойно разошлись по этажам шумевшей ночлежки.
Глава X
На свой страх
В семье Бузилиных шел званый обед. Именинник вежливо угощал гостей и говорил о переменах в семействе. Он даже снисходительно целовал Катю в голову, а она от страха ежилась в комочек, когда он подходил к ней, и дрожала. Но, однако, уважениям и ласке скоро пришел конец. Хмель делал свое дело. Именинник из–за пустяков побил жену и уже успел Катюше до крови нарвать уши. Теперь никакие уговоры не действовали на него. Часам к десяти он немилосердно исхлестал ребенка ремнем и как щенка выкинул в сырой коридор на улицу. Напрасно рыдала Катюша, искала милости и пощады, – чужое сердце не отозвалось. В разорванном платьице она долго вздрагивала маленьким телом на сыром холодном асфальте, горькие детские слезы неудержимо скатывались на широкие плиты, а в груди, как подброшенный мяч, торопливо стучало сердце. Рядом лежавший пес тоскливо визжал. Порой он подходил к дверям и долго царапал лапами, как бы собираясь крикнуть: «подберите ребенка». А когда возвращался, лизал Катюше лицо и ворчал с затаенной злобой.
Много времени прошло, пока Катюша пришла в себя. Она как–то не сразу и с усилием поднялась, и жутко стало ей. Кругом молчала притаившаяся тишина. Густою тяжестью нависла над городом ночь. Невдалеке прогремел трамвай, спугнул молчание ночи, и снова залегла в застенках узкого коридора тоскливая безмолвная тишь.
Катю, когда она задыхалась от бега и замедляла шаг, толкали с тротуара, как ненужный хлам, валявшийся на дороге. Никто не остановил ее, ни одна рука не скользнула по белокурой головке. Видно, одна мать, ласковая и приветливая, осталась у нее, это–бескорыстная, добрая улица.
В голове от усталости кружилось, в глазах играли золотистые метлички. Вон и ребята тянут без устали тоскливые слова о помощи.
И тоскливые голоса пробудили жуткое прошлое. Подбежала к первому попавшемуся парню, схватила его за рукав и тихо спросила:
– Где мой Сережа, ты его видел?
– Какой тебе еще Сережа? – недовольно оборачиваясь, переспросил парень. – Почем я знаю? Отстань!
– И Сашу с Антипкой, и Наташу тоже не видел?
– Сказал–нет, чиво прильнула? – Парень осторожно оттолкнул ее и отошел в сторону.
Катюша осмотрелась кругом и с радостью бросилась к слепому.
– Сережу не видел, дедушка, и не знаешь?
– Мало ли их тут, а какой он из себя?
– Большой.
– В ночлежке, небось. Озорной он, ай тихоня?
Но Катюша, не зная что говорить, расплакалась.
– Ребята все здесь, а иво нету.
– Где тут тебе всё! Их вона в ночлежке битком. Подожди, мы скоро пойдем туда, може, на счастье и встретим. – Старик тем временем окликнул парня и заиграл на бандуре, а детский голос подхватил, и снова полились знакомые песни про нужду и печаль, закачалась седая голова и жалобней, заунывней заиграла бандура. Так до позднего вечера неравномерные аккорды бандуры плакали о нужде, о несчастьях и бедах народных. Долго пели, пока не прервался голос певца и не отказались кривые пальцы старика ходить по струнам. Усталые, шли все в ночлежку.
– Ох, хо–хо, – тяжело вздохнул старик. – Сегодня, чувствую, опять долго не уснуть. Ребята приставать будут–грустную сыграть, и не отмолишься. И, как нарочно, принесут спирт, сами выпьют и изрядно угостят старика. Тут тебе и горе забудется, и язык развяжется, и мысли, как ручей, польются бесконечным ключом воспоминаний,
– Пришли, дедушка, – сказал, парень.
– Ну и хорошо, Астаха. Костям на место, – устало протянул старик.
Они потонули в огромном корпусе, который уже густо набился людьми и ревел тупыми невнятными голосами. Старик, расположившись у отопления, долго ворочался на полу, как будто выбирал место. В двенадцать часов ночи потушили свет. Ребята, пряча карты от дежурного, еще долго возились на нарах и по углам. Вокруг Кондрата густо сдвинулся молодняк и уже приставал за рассказом. Долго отказывался старик усталостью–не помогло. У ребят, сегодня, как и всегда, нашлась баклажка с горючим спиртом. Старик хлебнул – и на сердце повеселело, хлебнул еще – и сон и усталость рассеялись, развязался язык и прижав к себе Катю с Асташкой, тихо, отрывисто заговорил он:
– Это было на двадцатьпервом году моей жизни. Служил тогда я кучером в Смоленском имении моих господ. Красавцем был, сказывали, я тогда. В людскую хоть не ходи, – девки гурьбой бегали, да и от стариков был почет, потому вечерами за советами часто на конный захаживали ко мне и про слободу еще в те давние времена тайком говаривали. – Старик закашлялся, глотнул горючего, и продолжал:
– Так, вот помню, как сейчас будто произошло, а уж сколь десятков лет убежало. Было это на широкой масленице. Из Петербурга наехало гостей видимо–невидимо и все генералы, должно, – в иполетах, и барыни, говорили, из породы Барятинских. Ну и веселились же. А как человек сорок, должно, солдат с трубами приехали, так тогда и вовсе свет кругом пошел. Вечером в тот день, помню, лежу в людской и рассказываю про Пугачева. Вдруг как хлопнула дверь, и ввалилась Матрешка рябая с распоряжением от барина лошадей заложить. Ну, знамо, как есть приказанье – в минуту выполнил, потому, боялся. За политику прежде строго наказывали, житья не было. Жду я это у подъезда, а на дворе уж темно. Вижу–кто–то бойко сбежал по ступенькам лестницы и крикнул, бросаясь в кошеву: Вези!
– Подтянул я вожжи, да как гакну. Тройка серых рванула копытами снег, метнула комьями в лицо, заметалась снежною пылью. Я по голосу узнал–это была она, дочь нашего барина, красавица всей нашей округи.
Старик тяжело вздохнул, потянулся и как будто лениво, неохотно продолжал.
– Что случилось – я узнал только потом, когда завернули мы к управляющему на мельницу. Вытянувшись в струнку, я стоял у взмыленных лошадей, собираясь спросить, где ждать позволит, а она подошла ко мне и тихо сказала:
– Кондратий, иди за мной.
– Шел я, как пьяный, шел, и ног под собой не чуял, и не понимал, зачем. Распахнула горностаевую шубку, обняла меня, прижалась, как ребенок и, опустив глаза вниз, спросила:
– Ты не любишь меня?
– Язык мой как будто онемел, а она все говорила о любви, о каких–то страданиях. И тогда пробудился во мне зверь, закипела молодая кровь, в голове кругом пошло и не упомню, как уж я схватил ее, перегнул и–и–и-и совершилось недоброе. До рассвета так… Как змея, обвила мою шею, крепко целовала, жгла своим взглядом мои глаза и молчала. Не о чем нам было говорить. Эх, вы братики мои! Вот эта власть, сильная власть тела и погубила меня. И когда чуть серело небо и только начал приближаться рассвет, она выбежала из комнаты, а к восходу мы уже были там, в имении. Нас искали, вся дворня высыпала встречать; на террасе, как палач, стоял суровый барин, а мы с ней молчали…
– Когда взошло солнце, я пришел в себя. Не помню, как пороли, только страшно стало, тело болело, и я уже был слепой.
Кондрат низко опустил голову к лежавшей Катюше и тихо зарыдал. Как лесной ручеек в тихую ночь переливается серебристыми водами и катится в неведомую даль, так и слезы старика горячей струею непрерывно катились в неизвестность. И ночлежка будто поняла его. Тихо молчала она, и ребята, вытянувшись на полу, боролись с тяжелыми мыслями. Никому не хотелось говорить. Катюша, вытянув маленькие ручонки, не мигая, глядела на темный ком старика из глаз которого торопливо падали слезы на ее лицо. На сердце залегла горечь недавних обид и жуткое неизгладимое чувство доброты слепого Кондрата.
Глава XI
В исправительном доме
Кончался последний месяц зимы. Весенний рев уже врывался в мрачные корпуса, опьяняющим запахом сирени парка звал к себе. Сашка неустанно сидел над книгами. В последнее время он едва высиживал рабочий день, сапожный молоток работал медленно.
– Ну и сво–олочной народец! Загнали в берлогу и сиди. А теперь скоро лето, в деревне начнется сенокос, туда дальше незаметно и жатва подойдет. – Тоска по деревне росла, мысли бежали, и звали на родные поля. Однообразная жизнь начинала надоедать.
– Чиво это ты захандрил, али удрать задумал? – спросил комсомолец.
– Раздумался по деревне, вот и потянуло, потому, знаешь, Арон, деревенскому в Москве не житье, мученье какое–то. Народ лягавый, ей–богу вот, терпенья нет. Посмотришь на кого, а он смеется над тобой. Ну, думаешь–попался бы ты мне наедине – уж я б тебе так смазал, что забыл бы ты как косоротиться.
– Дурной ты, Сашка! С улицы подобрали тебя, выучить думаем, а ты удирать. Здесь одевают тебя, как нужно, и сыт ты, а главное, человеком быть можешь. Поверь мне – жалеть после будешь, а не вернешь.
– И хорошо, все равно мужиком подохну. Взяла тоска, да так, что и жить неохота, – в пору повеситься.
– Верно говорю тебе, – дурной ты, потому, посуди: здоровый парень, а дурь из головы не выкинешь.
По ночам, когда затихал корпус, Сашка боролся с мыслями, и животная похоть, зов к уличному разврату окончательно убивали его. Помнится ему и Наташа, смотревшая кроткими глазами и стыдливо молчавшая, помнится ему ярким пятном запечатлевшаяся Ира и пробуждает порыв, соблазн ярко вспыхнет и закипит кровь–не выдержит, шмыгнет в уборную, а оттуда придет усталый, но спокойный. Ребята как будто не замечали, каждый из них грешил втихомолку. Онанизмом заниматься не считалось позором, улица приучила ко всему. Разве так, иногда в разговоре между собой подсмеивались друг над другом: Кулакова Дунька приходила. На этом и кончалось.
Тысячи разнообразных воспоминаний каждый таил в себе, и слышалось в ночной тиши, как ребята, припоминая порывы наслаждений, долго вздрагивали, погружаясь мыслями в глубину прошедшего разврата…
Рано утром в теплый осенний день Сашка сидел у окна и думал: – «Скоро на волю выпустят». Близость свободы теперь не радовала его; он уже научился ценить покой, но не умел им владеть. Жизненный кругозор становился шире, книжки, прочитанные им, научили не тому, чему нужно было. Сказочный героизм захватил его. Сегодня он был задумчив и по случаю последнего дня в колонии не выходил на работу. Назавтра он ушел в парк и долго думал о том, что ждет его на улице. Возле него оказалась маленькая девочка лет тринадцати, с любопытством допытывавшаяся, как и за что он попал сюда.
– Глупа ты еще, чтоб знать про это. Потерпи годика три, наш брат всему научит, не забудешь быть блатной.
Девочка не понимала, о чем он говорит, а он хотел напомнить ей о гнусной похоти, которая при виде девочки пробудилась в нем.
– Хочешь, Лиза, пойдем в беседку, я покажу тебе, какие цветочки вырастил, – большие они у меня. Завтра я на свободу иду. Што-б другим не доставались, тебе оставлю. Хочешь?
– Конечно, хочу.
И Сашка повел ее за собой. Про себя он думал? Сделаю, что нужно, и улизну. Один конец будет…
Вечером он бежал. На утро в колонии шли толки, смутный разговор носился по комнатам.
– Здорово, говорят, он… – шептались ребята. Экономка, говорят, с ума сходит, а сама, небось, того. Только злая она, – не умеючи, не прильнешь. С Александром Макарычем, говорят, крутит. Башмаки намедни ей бесплатно чинил…
А Сашка в это время, спрятавшись в ящик под вагон, катил в Севастополь.
Глава XII
Нана
Много месяцев прошло с тех пор, как Наташа осталась у Петрушковых. Потянулись тяжелые долгие дни. Спрос на живой товар увеличивался с каждым днем, капитал рос, и ловкий изворотливый хозяин расширял доходность предприятия. За это время им было много принято новых девушек, таких же кротких и простых, как Наташа. Наташа уже не была той простой, наивной девушкой, какой она была до Петрушковых. Простое русское имя Наташа было заменено именем Нана. Кто из посетителей не знал ее, кто не проводил с нею длинные ночи, кто не надсмехался над ней? Не было такого посетителя, который бы хоть раз не покупал ее. Ей же было все равно. Она уже потонула в гнилом омуте, и мысли о красоте и честности давно были потоплены алкоголем.
Сегодня она совершала путешествие на автомобиле. Старый, седоволосый спец неустанно целовал ее руки, которые она так ловко подносила к его губам. Вернувшись с прогулки, она уже заманчиво бросала взгляды на мужчин, выбирая козырных тузов, глядевших на нее с упоением и предвкушавших наслаждение.
В правом углу, облокотившись, сидел бравый юноша, жадно выпивая вино и пристально смотря на девушку, которая, казалось, не замечала его. Это был молодой инженер, уже месяц ставший жалкой жертвой прекрасной Наташи. Он не один раз звал ее к себе, но она хохотала, как безумная смеялась над ним.
– Я пока еще замуж не собираюсь.
Как много было иронии в этих словах, в которых красивые чувства безжалостно были растоптаны развратом, а кроткая простота деревенской девушки потонула в гнойных язвах Петрушковской торговли живым товаром.
Так и сегодня она, увидев его, подошла к нему с громким возгласом:
– Сергей Владимирович, вы здесь?
– Как изволите видеть, Нана.
– Вы, кажется, каждый день здесь бываете?
– Да, я не могу без вас.
– Ха–ха–ха, что же, вы в меня влюблены?
– Я об этом вам говорил не однажды, разве вы забыли?
– Не помню.
– Не помните?
– Да и могу ли я помнить. Мне об этот говорили не вы одни. Ну, довольно о пустяках. Я сегодня в настроении и, если у вас есть на что, я согласна погулять с вами.
Он вынул сверток кредиток и дрожащими губами, с усилием произнес:
– Я хочу быть с вами. Я хочу вас видеть всегда.
– Где же подарок, который вы обещали мне?
Он засунул руку в боковой карман и вынул оттуда портрет.
– Возьмите.
– Спасибо. А что еще?
– Вам нужны ценности? Я их вам достану.
– Простите, Наночка, я обещал быть ровно в девять, но немного опоздал. Вы не сердитесь? – перебил новый посетитель, подошедший к столу.
– Долго, долго. Я вас давно ждала, – заметила она и небрежно бросила инженеру:
– Сегодня я с вами не могу, я занята.
Инженер, нахмурив брови, отошел.
– Наночка, пожалуйте к моему столику. Я его имею давно, он довольно дорого обошелся мне за эти четыре месяца. – Но это сущие пустяки. Я вот имею для вас дорогой подарок, – придерживая ее за руку, сказал гость.
– Говорите, дорогой, что именно. Не портрет ли? А то, вот видите, мне уже один подарили.
– Ха–ха–ха. Фотографию, недурно придумано.
– Мне интересно знать, что вы для меня придумали?
– Закройте глаза, и я вам одену на белоснежную шейку.
– Да–да? Ну что же, я с удовольствием. – И она, закрыв глаза, выставила перед ним свою красивую грудь.
Через широко декольтированное платье пахнуло теплом и запахом молодого тела. Гость взглянул и восторженно крикнул: «Можно».
На шее висел кулон.
– Мне он нравится, только я боюсь, что вы за него много захотите.
– Нана, к чему эти глупости! Я, право, не понимаю вас. А если уж так угодно, то, пока что, я прошу одного – уничтожьте этот портрет и больше смотрите на меня.
– Нет, я этого не позволю. Такие подарки делаются от чистого сердца. Он за этот кусок бумаги не собирался меня купить.
– Ха–ха–ха. Вы, кажется, влюблены? Посмотрите на него, Наночка; он, действительно, похож на влюбленного. Бедный юноша!
– Не смейте! Я не позволю вам смеяться над человеком!
Она обиженно посмотрела на него и вышла из залы. Инженер тоже поднялся и пошел к выходу. Посредине зала он остановился и долго смотрел на свой портрет, по которому цыган залихватски отплясывал чечетку. В висках стучало и на сердце зажглась слепая обида и жгучая ревность. Как обезумевший, промчался он через весь зал и выбежал из притона, Гежелевич – это он подарил кулон – тем временем, вспоминая о своем подарке, молча ходил по комнате.
– А, господин Гежелевич! – заговорил Петрушков, увидя гостя.
– Мое вам почтение, Еремей Власыч! Как ваше драгоценное?
– Вашими молитвами, господин Гежелевич!
– Спасибо.
– Что же вы один гулять изволите? Небось, ее ждете? – Петрушков щелкнул пальцем, подмигнул и показал на комнату Наны. – Мила она у меня, от гостей отбою не вижу.
– Н-да, недурна собой, только зарвалась, крупного покупателя признавать не стала, – заметил Гежелевич.
– Отчего? Что вы–желаете–с, позову.
– Да, да, конечно, но разрешите вас отблагодарить.
Гежелевич вынул кредитку и сунул ее в простертую, потную ладонь хозяина.
– Благодарю-с!
– Еремей Власыч, доктор просить изволит, – позвала жена.
– Что ему еще нужно? Где он ждет, – сурово крикнул Петрушков и ущипнул жену за грудь.
– Не догадалась, Еремей Власыч, простите!
– Дармоедка, – кричал он на жену и лез кулаком в физиономию. – Чай хлеб–соль жрешь. Забыла, гадина! А?
– А, господин доктор, – залебезил он, отталкивая ногой старуху.
– Я заехал к вам справиться о Наташе, которую вы взяли из больницы.
– Извольте-с, господин доктор, все расскажу. Она вышла замуж и с супругом-с уехали-с на Кавказ.
– Помилуйте, – перебил доктор, – ваша супруга изволила сказать мне сейчас, что она здесь.
Петрушков от злости наступил жене на ногу и зарычал:
– Змея, твое ли дело с грязным рылом соваться? Гади–ина! Глаза выхлещу. Поняла?
Доктор разделся и прошел в зал. Высокая, полная женщина, подойдя к нему, заговорила на ломаном языке:
– Ты кулять пришла? Мошно садись к тебе?
– Прошу отойти, я жду хозяина.
Женщина еще раз с улыбкой взглянула ему в глаза и направилась к другому.
Носившийся пьяный запах и женщины будили в нем давно минувшие времена, когда он впервые посещал кабачки. Он заказал вино, торопливо выпил, в груди приятно зажгло, голова закружилась и бурно вскипела кровь… Он встал и пошел по коридору, откуда навстречу ему шла Нана. Доктор остановился.
– Я к вашим услугам, приближаясь заговорила девушка.
– Вы не забыли меня? – спросил доктор.
– Я не забыла, но мне странно, зачем вы сюда пришли.
– Я пришел взглянуть на вас и узнать, что с вами стало… – Доктор опустил голову и замолчал.
– Я прошу вас заглянуть ко мне. – При этих словах она взяла его под руку.
– Наташа, мне стыдно смотреть вам в глаза, стыдно за вас.
– За меня? Напрасно. Я чувствую себя прекрасно. Прошу садиться. Мы с вами по–дружески поговорим.
– Я хочу только несколько слов сказать и уйти, чтобы больше никогда с вами не встречаться.
– Как вам угодно. Говорите, я вас слушаю. В двери раздался стук.
– Войдите. Ну, что еще там?
– Наночка, тебя гость ждет. Еремей Власыч просил – недолго.
– Зиночка, передай ему, что я уплачу за вечер.
– Хорошо.
– За кого это вы уплатите и за что?
– За вас, доктор.
– За меня?
– Да. Это первый случай в моей практике, когда я плачу, во всех остальных–платят за меня.
– Вы – проститутка?… Прощайте, я не собирался покупать вас.
Доктор тяжело встал, взгляд его упал на кровать, на простыне которой виднелись подозрительные пятна.
– Доктор, я думала, вы будете таким же, как и тогда. Помните, в больнице?.. – Да, я тогда хотел вас. Я хотел вашей близости, хотел навсегда. Теперь так поздно… Зачем не тогда? – Тихо сказал он и вышел.