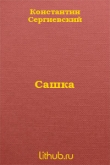Текст книги "Гримасы улицы"
Автор книги: Андриан Шульгин
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Annotation
Семнадцатилетняя Наташа Власова приехала в Москву одна. Отец ее не доехал до Самары– умер от тифа, мать от преждевременных родов истекла кровью в неуклюжей телеге. Лошадь не дотянула скарб до железной дороги, пала. А тринадцатилетний брат по дороге пропал без вести. Вот она сидит на маленьком узелке, засунув руки в рукава, дрожит от холода…
А. Шульгин
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVIII
А. Шульгин
Гримасы улицы
повесть
Глава I
На вокзале
Семнадцатилетняя Наташа Власова приехала в Москву одна. Отец ее не доехал до Самары – умер от тифа, мать от преждевременных родов истекла кровью в неуклюжей телеге. Лошадь не дотянула скарб до железной дороги, пала. А тринадцатилетний брат по дороге пропал без вести. Вот она сидит на маленьком узелке, засунув руки в рукава, дрожит от холода. И не обидно–не одна, только стыдно: рваное платье отказывается прикрывать тело, которое выглядывает черной синевой от холода. Язык слабо ворочается, губы плотно сжались и упорно молчат. На эвакопункте получит хлеб; съест кусочек, а остальной раздаст. Вокруг стонут дети протяжными голосами: «подай, дяденька, хоть корочку». Из беспрестанно открывающихся дверей несутся волны тумана, как клубки вертятся по полу и исчезают. Становится холодней. Ребятишки, приподняв лоскутья воротников, устало чмокают асфальт босыми ногами, пробираясь к буфету, там украдкой вымаливают хлеб, с жадностью схватывают на столах обгрызки костей, обсасывают свои грязные пальцы…
– Возьми, кусоцик, дяденька дал, – предложила трехлетняя девочка хлеб Наташе.
– Спасибо, Катюша, не хочу–сама скушай, – проглотив слюни перед корочкой белого хлеба, отказалась Наташа.
Но девочка сунула ей хлеб в подол и, плаксивым голосом протянув, обиделась.
– Я твой тозе кусаю.
– Ну, хорошо, я потом скушаю.
– А потом я исце выпласу, – настаивал ребенок.
Наташа взяла хлеб, прижала к себе девочку и, как будто кого–то боясь, съела кусочек.
– Ты, Катюша, не хочешь спать? Посмотри, как ножки твои застыли.
– Нет, я кусать хоцу, там сци кусают, – сказала девочка, вырываясь из рук Наташи.
– Хочешь, я немножко тебя погрею, а потом пойдешь.
– Нет, я кусать хоцу, – повторила девочка.
– Зачем же ты тогда отдала мне свою булку?
– Ты тозе кусать хоцес. Я исце выпласу, – уверенно заявила она и, выскользнув из рук, затерялась в толпе.
«Там сци кусают», – звенит над Наташиным ухом, и развивается аппетит. Но она пугливо бросает взгляды на окружающих, и кажется ей, как будто все заглядывают в ее глаза и чему–то смеются. Лицо ее делается лиловым и девичий стыд начинает душить ее, но она, как–то живо взмахнув головой, перебрасывается мыслями в иной мир, забывается, на лице украдкой пробегает улыбка и снова немая задумчивость начинает душить преддверием будущего. Вспыхнувшие глаза погаснут и сверкнувшая искра счастья догорит воображением. Вокзал уже полон народу, поезда прибывают, а с ними прибывает и босоногая детвора. И с улиц большого города начинают стекаться сотни разнообразных лиц, изгибаются суставчатым хвостом голов за билетными кассами.
– Колбасы срубил (украл), – пригнувшись к уху, сказал пятнадцатилетний Сашка. Наташа испуганно обернулась, чуть слышно прошептав:
– Саша, не нужно красть, отнеси обратно.
Но парень, разломив круг, уже аппетитно уничтожал его.
– Чиво не нужно! Добром просили, отказал спекулянт, стерва! Полмешка везет. Я первым стянул и наших ребят направил, – с трудом выговаривал Сашка, прожевывая колбасу. – На вот тебе, а я пойду хлеба стяну немного.
Наташа сунула в пазуху колбасу, провожая пристальным взглядом уходившего. Ребята любили ее, часто проговариваясь: «ты артельная девка, – одна не съешь все, пополам разделишь». Далекая дорога крепко сроднила их, ребята живо освоились, восприняли слова ругани и жаргона, в маленьких сердцах уже произошел перелом – с мирного пути на тернистый и скользкий. Только Наташа все еще чувствовала себя одинокой и чужой, босяцкая жизнь не прививалась к ней. За восемнадцать суток жизни в теплушке и на вокзалах она не успела свыкнуться с тягучим дурманом, который неизбежно наступал. Предводительствовал Сашка Кузюлин, ловкий парень, вечно живой и настойчивый. Ребята не один раз плакали от его кулаков, но все–таки любили его за правду и были с ним.
И оживают мысли о прошлом. Чудится ей, как нервно бьются колеса, а на коленях, склонив голову, прижавшись к ее груди, лежит Сашка и долго рассказывает про родные края, про деревенские вечера и хороводы. А она, бывало, целые ночи слушает его и тихо украдкой плачет, пока не уснет; и не слышит она, как, потирая глаза, заканчивает рассказ свой Сашка, как лениво потянется он и, тяжело вздохнув, топотом закончит: «теперь вот один остался». Хорошая детская память не изменяла ему, да и говорить он мастер, – как большой. Иногда под разговор частушки складывал и, забывая про нужду, заливался песней веселья. Не страшили его и мертвецы, которых часто выносили из теплушки. Помнится Наташе: как–то в полночь умерла женщина, осиротевшие дети подняли крик и шум, все заволновались. Только Сашка спокойно взял мертвую за ноги и, подтащив к выходу, сказал: «Пусть здесь лежит; на следующей станции заберут, штоб другие не заразились, – тиф у нее, сказывали».
– Бери ломтик. – Голос, прозвучавший над ухом, прервал ее мысли. – Закусывай, да пойдем; ребята место хорошее подыскали, – заговорил подошедший Сашка. – Ребята еще несколько кругов колбасы срубили, накормили Катюшку, теперича надо уложить спать.
Наташа, отрываясь от воспоминаний, пристально посмотрела ему в глаза, прошептала:
– Пойдем, я там вместе с тобой поем.
Сашка взял ее узелок и пошел к багажной, Наташа, сжав рукой разорванные полосы платья, не оглядываясь, пошла за ним. На ее ногах, болтаясь, шлепали мокрые тряпки вместо ботинок. Разве единственная шаль пригревала костлявые плечи, шаль, которую несколько дней назад Сашка снял с вынесенной из теплушки покойницы для Наташи с Катюшей.
– Ну, вот и место, – обернувшись, заговорил Сашка. – Ребята еще не все, на утро добыть хлопочут. Проходи. А я сбегаю, может, соберу их. Надо раньше лечь, – за дорогу измучились.
– Беги, а я уложу Катю.
Когда он ушел, Наташа заботливо уложила ребенка, завернув его в шаль, укачала на коленях и сама, привалившись к стене, уснула.
Ребята собрались поздно. Сашка отвел им место, уложил в углу, сам прилег к Наташе и долго не спал, о чем–то думая. Временами он приподнимался, заботливо прикрывал Наташу и что–то шептал. Ребята спали неспокойно, часто ворочались, матерно ругались во сне, разбрасывались на холодном–асфальте.
– Пить ходу, – простонала охрипшим голосом Катя.
Наташа испуганно вздрогнула и проснулась.
– Не вставай, я принесу; где–то у ребят бутылка валялась, – взяв за руку, остановил ее Сашка.
– Хорошо, – согласилась Наташа.
Парень скоро сбегал за водой, и снова в углу затихло. Сырой настывший асфальт точно пригвоздил их, и больше никто не замечал до утра, что кругом происходило. Только за барьером до рассвета глухо гудели голоса, все куда–то спешили, бегали, и неустанно скользили в общий гул плаксивые детские возгласы: «Хоть корочку».
В шесть утра первым проснулся Сашка. Он осторожно придвинулся к Наташе и долго оглядывал ее. Чувство юношеской привычки и долгое общение среди взрослых начинали выливаться в привязанность. Наташа сладко храпела, опустившись головой на зубчатую перегородку багажной. Ее тонкие, костлявые пальцы крепко держали Катюшу. Светло русые волосы слегка потемнели от грязи, но еще не потерявшие свой золотистый блеск, красиво обнимали бледные щеки множеством природных колец и опускались на плечи. Густые, черные брови бережно охватили глаза, опустились над веками. На щеках виднелись слабые ямочки и ровный, как отточенный, нос выделялся бледно–розовым мрамором на ее лице, которое только теперь, в глубоком сне было спокойно и ко всему безразлично. В Сашкину голову закрадывались и другие мысли, но они, не задерживаясь, исчезали. Он несколько раз намеревался поцеловать ее, но как–то останавливался. С каждой минутой становилась она ему родной и он ловил себя на гнусной мысли.
– Нет, я не буду обижать ее, она наша, – мелькало у него в голове, и он старался подавить свои чувства.
– Ты чего не спишь? – неожиданно открыв глаза, спросила Наташа.
– Выспался, больше не хочу.
– Тебе неудобно, приляг вот сюда, на руку, и поспи еще. Глаза у тебя красные, усталые.
При этих словах она взяла его за шею и, крепко прижав к себе, тихо, ласково прошептала: «Усни. Когда ребята встанут, я разбужу тебя. Хорошо?» Сашка ничего не сказал, только подбородком сдавил ее руки и прикорнул. Нежная ласка пьяной бражкой раскатилась по груди, защемила огрубевшее сердце. Хотелось ему заглянуть ей в глаза, да стыдно стало. Она уже спала. Хотел встать, – жалко будить было. А она, как нарочно, еще крепче сжала его и Катюшу.
Глава II
Встреча с Сусликовым
В восемь часов утра ребята были уже на ногах. Сашка, распределив колбасу, добытую поздним вечером, ушел посмотреть на московские улицы.
– Катюшку не отпускай, не то еще пропадет, заблудится, – уходя, наказал он Наташе. Четко помнились ей его слова и радовали заботой.
Долго Сашка шагал переулками, не останавливался на улицах, а просто сворачивал с одной на другую и шептал про себя: «Пойду вправо, куда вынесет–там и буду. Народом улица кишмя кишит, ребят босоногих много и все жужжат, как пчелы над ульем».
– Куда прешь? Разбогател, видно, здоровкаться не хочешь, – толкая в бок, остановил его парень. Сашка остановился. Перед ним стоял его старый друг, сын деревенского учителя.
– Ты зачем здесь? Я слышал, ты не хотел ехать, – воскликнул Сашка.
– Прежде давай лапу, а потом и поговорим.
Друзья далекой деревни крепко пожали друг другу руки и, устроившись на краю тротуара, углубились в разговор.
– Да ты знаешь, Сашка, – говорил Гришка Сусликов, – много я хватил горя. Отец мой не вынес нужды: как–то в субботу ранним утром ушел на Волгу и больше уж не возвращался. Береговые после сказывали, как плыла его старая студенческая фуражка, а самого так и не нашли. Голод в то время усиливался, началась нищета; ты знаешь, друг у друга «Христа ради» просили. Мать моя тоже страшно высохла и на Петров день умерла. Долгую ночь я просидел около нее, жутко было: ребята выли, как голодные волки, просили есть, но нечего было. Долго я боролся с чувствами, но оставался один конец: бежать из дому. На рассвете этой ночью я украдкой, как вор, убежал и от детей, и от покойницы матери. – Сусликов провел по лицу ладонью и замолчал, как будто собираясь что–то еще тяжелое и жуткое вспомнить.
– Ну, а как же ребята, небось, умерли? – спросил Сашка.
– Кому знать, а впрочем, не иначе: хлеба не было.
– Значит, и Серега умер, и Нютка. Славные они у вас были. Судьба так, значит.
– Наверное судьба, – тяжело вздохнув, подтвердил Сусликов.
– Ты, небось, не меньше нашего мурсовки хлебнул, пока до Самары добрался?
– А ты разве не один? – перебил его Григорий.
– Так тут я один, но со мной припарилось еще четверо. От Самары нас везли восемнадцать суток, ну, знамо, и свыклись. А теперь оно и не резон оставить, пропадут–жалко будет.
– Чужие, значит?
– Зачем чужие. Наши, волжские, нешто не все равно, – такие же голодранцы. Я, вот, хоть и одет немного; эти сапоги и полушубок стянул с умершего татарина, а они голые, что выйти стыдно.
– Да-а, – протянул Григорий.
– Тебе што, ты уж большой; кажись на два года меня старше, не пропадешь. Я тоже проживу, но мне двоих жалко: Наташа у меня есть, да Катюшка по четвертому году. Куда их бросишь?
– Уйти от их и все, а то и сам пропадешь с ими, – уговаривал Сусликов.
Сашка на минуту задумался.
– Нет, Гришка, я так не могу, не в моем характере, да к тому же один и тосковать будешь. А в компании–не один, так другой выручит. Хотя и впроголодь, а все же жить будем. Ну, довольно об этом! Ты вот лучше расскажи, как до Самары добрался.
– Ну, вот так, значит, как я уже сказал. На рассвете я убежал, захватив последний каравай хлеба, который еще при матери припрятал в сарай, и направился к крутому мысу. Два дня я прошел берегом и едва дошел до перевала, помнишь, где коленом протока выперла; там часто мы бывали с отцом: сетить ездили. Ну, вот пришел я туда вечером, когда начинало темнеть, а все еще жарко было. Хлеб доел. Тут и деревня рядом, а в ней ни души, – как будто все умерли, ни одного огонька. Страшно было, так и уснул. Утром слышу – кто–то орет над ухом, а пробудиться не могу; должно, дюже ослаб за дорогу. Когда проснулся, глядь, а передо мной бык стоит, здоровый прездоровый, и мычит над самым ухом. Испугался – и вот так затрясло меня, что едва успокоился. Гляжу вниз, а вода как кровью залилась, – от солнца это. Помнишь, красное оно тогда было. Гляжу я вдаль и себе не верю: из–за мыса пароход дымит. Ну, думаю, теперь спасут. Спустился я к берегу и ну орать. Из сил выбился, в глазах темно стало, упал. Матросы, поднявшие меня, после сказывали: страх как я шибко бился на камнях, а изо рта пена во все стороны брызгала.
– Родимец, значит, – добавил Сашка.
– В Самару приехал днем. Там я совсем поправился и решил в Москву. Вот уже неделя исполнилась, как прибыл; сплю на бульваре, а иной раз и на вокзале удается.
– А насчет фатеры не спрашивал, где жить можно?
– Где тут найдешь квартиру! Людей сколько, видишь–не пройти, и все они без комнат. По–моему и думать нечего, чтоб найти.
– Верно, пожалуй, – согласился Сашка и встал. – Довольно, кажись, сидеть, на вокзал пойду, а то ждать будут.
– Где встретимся? Я хочу с тобой, – сказал Гришка.
– Приходи, только тебе не поглянется; ты не любишь таких мест, не артельный, – заметил Сашка.
– Привыкну; ты, ведь, тоже не сразу. Одному не хорошо, правду ты говоришь, скушно. Я к тебе вечером зайду.
Когда приятель скрылся за углом, Сусликов еще долго глядел на улицу в глубоком раздумье и шептал: «Нет, уж видно, не по пути нам; он не такой, как я, – нянчиться любит».
А Сашка в это время, как заботливый отец, торопился к ребятам. «Как там Наташа с Катюшкой, думал он, они у меня самые слабые». Относительно ребят у него не было большой заботы; за них он мог поручиться–не пропадут. «А вот для этих двух придется искать приют – скоро зима», думает он и, невольно ежась, прибавляет шагу, а потом бежит. Людей на улицах много, но все они чужие, никто не приютит. У всех свое дело, своя забота. А там, в Никуловке, Сережка с Нюткой остались умирать. Большак их, Гришка, последнюю буханку спер и скрылся. «Вы, мол, как хотите, лишь бы мне», вспоминает Сусликова. «Еще немного, и вокзал», рассуждал он, отмеряя кварталы.
У подъезда встретили его ребята, взвинченные, сердитые.
– На вокзале не позволяют жить, только Наташу с Катюшкой оставляют. Как быть? – шипели в один голос.
– Подождите, не до вас тут. Чиво как шмели жужжите? Выгонют, в город перейдем, – не вечно же тута околачиваться станем.
– Катя захворала, – плаксиво шептал Сережка, ее брат. – В больницу возьмут, сказывали.
– Вот и хорошо, чиво нюнишь? Девять лет парню, а он все как баба мокрохвостая. К Иверской бы тебя, собаку, – там жалостливый народ, подают хорошо, – выругался Сашка и вбежал по ступенькам. Наташа, завидя его, воскликнула:
– Саша, ты пришел! А я думала, ты обманул, совсем ушел, думала; страшно было. Кушать, небось, хочешь? Вот хлеб, бери – я на пункте свежего получила, скушай, – уговаривала Наташа.
Но Сашка молча глядел то на нее, то на Катю, как будто что–то соображая. Ребята тоже молча стояли, привалившись к барьеру.
– Рвет, должно? – спокойно спросил Сашка.
– Захворала, скоро милиционер придет; сказал, в больницу отправят.
– И хорошо, – там ей тепло будет, а здесь–то што–холод, пропадет, – успокаивал он Наташу.
– Жалко, как своя она; все привыкли, тоска возьмет.
Время бежало, день был на исходе. Ребята рыскали по вокзалу и ныли сиплыми голосами. Некоторые из них собирались, оставляли собранное и опять уходили.
Только Наташа неспокойно укачивала Катюшу, которая, закрыв глаза, металась в жару и бредила. Порой начинала она тяжело стонать, – тогда становилось тяжело и досадно. Ребята молча переглядывались и, невольно отдаваясь тоске, задумывались.
– Тяжко ей, ишь как губы–то высохли, – заговорил Сашка. – Водицы бы ей, може, полегчает.
– Говорили, нельзя; хуже будет, – возразила Наташа.
– Дохтору отдадим, тама скоро выходится. – Сидевший в углу Сережка не выдержал и заревел. Слезы часто закапали с ресниц и покатились по грязным щекам, прокладывая дорожки. Голос прерывался и отрывисто выводил.
– А я ка–ак буду…
– Ну, погоди, сука бестолковый, я тебе зубы вычищу, – ворчал Сашка. Сколь раз тебе наказывал, не ори, а ты опять за свое взялся. Слышишь, гадюка!
– Не надо, Саша, Катя засыпать стала. Разбудите.
Ребята утихли.
– Гришку Сусликова сегодня встретил, – сын учителя он нашей деревни– успокаиваясь, заговорил Сашка. – Посмотрел я на него… Из дому один утяпал. В шляпе ходит и рубаха на шее ленточкой стянута, – прямо не узнаешь.
– Ну и пусть, чиво завидуешь. Может и мы поправимся, не хуже будем, – останавливала его Наташа.
– И не завидно, а так, за ребят обидно. У Сережки с Нюткой последний хлеб стянул и удрал, гадина. А тоже, смотри, в компанию метил. Ну я ему и ответил напрямик, – пусть помнит…
– Пи–ить хоцу, – простонала Катя.
– Антипка! Слышишь, непутевый, катись с бутылкой за водой, – небось, не оглох. Пока вам, чертям, не скажешь, сами не догадаетесь, – выругался Сашка.
– Сейчас, – крикнул парень и, перемахнув через барьер, затерялся в публике.
– Ну, а теперь и закусить можно. Колбаса где–то осталась, только вот, кажись, насчет хлеба плоховато. Надо ребят послать; на пункте, пожалуй, выдадут.
– Сходи сам, тебе лучше как–то, – сказала Наташа.
Сашка послушался ее, молча нахлобучил картуз и вышел. На эвакопункте стояли большие очереди, и ему в хвосте пришлось долго стоять. На улице начало уже темнеть, люди шумели, беспорядочно толкаясь к столу, вытягивали руки и гудели, как сердитое море тысячей голодных ртов.
– Куда прешь, сволочь. Не видишь, очередь, – взъелся Сашка на бабу. – Смотри, а то вот так я тебя пхну под…. Чертово рыло!
Маленькие дети лезли между ног и визжали как поросята, придавленные густым частоколом ног и грязных опорков. Каждый теперь помнил о себе, – до других нет дела. Все здесь равные, чувствовали они. Голод потушил жалость.
– Пропустите меня, вишь–те беременна, – голосила баба.
– А нам што! Своих вон куча, жрать просят, – не до тебя. Ты, гляди, и без того сырое перехватила, – ишь как разнесло. Не прись, говорю, а то вот суну кулаком, – лопнешь, косопузая, – ворчал Сашка.
Долго еще биться пришлось ему, но все же добрался, получил и на ребят выклянчил. Возвращался к Наташе радостный, бежал и ног под собой не чуял. Вот и он, барьер багажный, а вокруг него народ по–прежнему жмется, а за ним никого не видно. В левом углу кто–то бьется головой об асфальт, катается, закатываясь истерическим воплем. Это Сережка, а рядом, придерживая его рукой, сидел равнодушный Антипка.
– Где Наташа с Катюшкой, – спросил Сашка, озираясь кругом.
– В приемной. Должно быть, милиционер отвел, – не торопясь ответил Антипка.
– И Наташу тоже?
– С им пошла. Сказывала, вернется скоро.
– А вдруг их обеих оставят, – вслух подумал Сашка и, взмахнув ногой, собрался пнуть сапогом не успокаивавшегося Сережку, но пожалел. Не зря плачет, – по сестре. И в голове его завертелось. Только Антипка равнодушно смотрел на них, как будто не понимал, что с ними.
Глава III
В приемном покое
Крепко прижала к груди. «Не отдам, ты со мной будешь», – шептала Наташа. Катя увеличенными зрачками глядела ей в глаза, не плакала, а так, как в бреду, твердила:
– Я здесь не хоцу, я денезку пласить буду, – и прижималась.
– Нет, нет. Ты со мной будешь, я не отдам тебя, не оставлю.
– А Селеза где?
– Он тоже сюда придет.
– Пить хоцу, пить дай.
Не стерпела, дала. Руки отекли, отяжелели. Целый день и ночь на руках выдержала. Ноги дрожали. Когда же дождусь? – народу много, стон. На носилках кого–то вынесли, а вот еще и еще. Жутко. Люди в белых халатах торопливо ныряют в дверях. Сердце начинает замирать. Отошла в угол, ждала. Долго ждала. Теплый комнатный воздух опьянил ее, ноги болезненно ныли. Задремала…
– Кто к доктору? – разбудила сестра.
Наташа испуганно вскочила:
– Я к доктору, где он?
– Идите, я проведу.
– Катя спит, будить жалко, больная; подождать, может?
– Нельзя, в больницу направим. Проходите.
Вошла и робким ребенком стояла. Было стыдно.
– Присядьте. Сколько ребенку лет? – спросил доктор.
– Три года.
– Звать?
– Катя.
– Фамилия?
– Не знаю.
– Как это, – разве не ваш ребенок?
– Никак нет, господин доктор, сирота.
– Откуда вы ее взяли?
– В поезде пристала. Сначала так встречались, – ехала она в другой теплушке, а когда узнали, что сирота–мы взяли и ее брата Серегу, девяти лет.
– У вас семья, что вы говорите: «Мы ее взяли»?
– Никак нет, я одна, но со мной Саша, мальчик 15 лет… Вот с ним мы и решили ее у себя оставить.
– Положите ребенка на кушетку и разденьте.
– Я не хоцу здесь, хоцу к Селезке, – с мучительным усилием простонала Катя.
– Хорошо, хорошо. Я только посмотрю тебя, дам лекарство и отправлю к Сереже, – успокаивал доктор.
У ребенка оказался тиф, температура доходила до сорока. Катюша еще с минуту уродливо кривила губы, собираясь что–то сказать, и потеряла сознание.
– Куда ее, доктор? – спросила сестра.
– Направьте в детскую больницу, только сейчас же.
– Но она не хочет, господин доктор, – робко сказала Наташа.
– У нее тиф, – это заразная болезнь. Ее необходимо изолировать от других детей. Вот вам адрес, где вы сумеете видеть ее по выздоровлении.
Наташа взяла бумажку и вышла. Сердце с болью заколотилось тяжелей, в висках застучало. Чувствует она, как все кружится и бежит. Вот и пол пошел боком, какая–то пропасть показалась в глазах и в сладком переливе понесло ее. Был обморок. Люди в белом забегали кругом нее. Крепко стиснутые глаза не видели, как унесли Катю.
Рано утром, когда еще царила мертвая тишина, Наташа долго оглядывала палату и не понимала, где она. Кругом стояли густо сдвинутые кровати с бледными испитыми лицами женщин. Мысли путались и тяжело–пережитое казалось кошмарным сном. Она даже с недоверием оглядывала себя и с ужасом вспомнила Сашкин разговор, Катюшу и холодные бесприютные ночи.
– Нет, это не сон, это не больные мысли, но как, как я сюда попала? – Попыталась приподняться на локоть, не могла. Голова отяжелела и не поддавалась ей. Так, в борьбе с мыслями засыпала она, металась и бредила.
– Катя, где ты? Катюша! Саша, усни!
Около ее виска сквозь белую марлю просочилась кровь. Это она при падении разбилась о ручку двери…
Так тянулись дни. Около десяти дней Наташа находилась между жизнью и смертью, у нее был головной тиф. Мучительные, нестерпимые боли и воспоминания душили ее. Вот она мечется, разрывая зубами крепкий холст рубашки, кого–то зовет, простирая руки, и снова затихает в бессознании.
– Нет, девочка, видно, не судьба жить, не вынесешь, – качая головой, про себя шептала сиделка, отходя от кровати.
Даже доктор, при обходе, безнадежно оглядел ее. Однако, все они ошибались. Тернистый путь ее не пройден, он еще только открывался перед ней. Злая ирония судьбы ее еще не отплясала свою кадриль кошмара. Она только начинала плести свою длинную, длинную паутину безумий…
После двух недель болезни, когда миновал кризис, Наташа начала быстро поправляться. Теперь она, как сквозь завесу тумана, вспоминала друзей, которые казались ей чем–то далеким, неуловимым. На дворе зима уже развернулась кружевными покровами, на холодных стеклах иней изумрудными загорелся узорами. Падает пушистый снег, по ночам стонет ветер, по телу пробежит мороз и жутью ударит в голову. В памяти невольно промелькнет мысль: «На вокзале запретили жить».
– Мне хорошо здесь, – вырывается из ее уст, – чистая постель, тепло и не голодно. Как там в дороге и на вокзале?
– Наташа, не хочешь молочка? – спросила сиделка.
– Спасибо, мне нехорошо; за ребят страшно, раздетые они.
– Может быть, и они в тепле, в детдома их собрали, а там хорошо. Вот, когда выздоровеешь, найдешь их, в гости заходить будешь.
– Сашу бы с Катюшей найти. Привыкла, скушно теперь.
Горе крепко спаяло их, нужда сблизила, понимали они друг друга и ценили.
– Куда пойдешь, когда тебя выпишут из больницы? У тебя никого нет, а без родных трудно, тяжело, – вздыхая, спрашивала сиделка.
– На вокзал пойду, больше я никого не знаю. Только боюсь, выгонят, – спокойно отвечала Наташа.
…Вечерами Наташа подолгу рассказывала сиделкам, что она пережила, и всегда спокойно, как бы читая книжку из своей груди.
– Вдумаешься в уличную жизнь, и жуть возьмет. Пропадешь. Народ нынче плохой, а ты красивая девушка, – тебя не узнать теперь. Хорошо бы на доброго человека, – в заключение говорили сиделки.
По ночам, когда не спалось, Наташа выходила в коридор и подолгу просиживала с больными. Так и сегодня до глухой полночи засиделась она с больной, рассказывая ей о своем горе. Женщина молча выслушала ее и обещала взять в свою семью.
– У нас хорошо, – говорила больная. – Муж мой несколько лет содержал трактир и пивные. Теперь вот разрешили торговать, опять займется своим делом. Знакомых у нас и не сочтешь. Петрушкова, бывало, никто не обойдет. Всяк у нас перебывал: и начальство, и бедняки, а уж насчет тово, купцы, значит, постоянно дневали. Он обещался заглянуть ко мне, – поговорю. Обе просить станем. Хоть и капризный он у меня, зато добру выучит.
Наташа схватывала ее за руку и шептала:
– А вдруг не возьмет, куда я? Не оставьте сироту, Василиса Ивановна!
– Трудненько уговорить, ну, ничего. Поклонишься ему, зато жить барыней будешь. К тому же смазливая ты, а он таких во как любит, – значит, душа.
Наташа не понимала, что ожидало ее, и слепо верила в счастье. Зато мадам Петрушкова верно била в цель. Да и что оставалось ждать девушке, когда оставался один путь: идти туда, где хоть что–нибудь обещали.
– Мне бы маленький уголок, да кусок хлеба, а за это я все вам сделаю, все, Василиса Ивановна: буду мыть полы, стирать и с детьми возиться, – я все умею.
– Тебе ли полы мыть? Мордочка у тебя нитилигентная, барская. Кабы в старое время и в генеральши годилась бы, – уговаривала соблазном Петрушкова…
Ночью, когда все спали, Наташа еще долго боролась с мыслями и металась в кровати. Временами ее душил кошмар, перед глазами вставали тени минувшего, маячило будущее. Рядом с ней храпит забитая и высохшая от жадности содержательница притонов, Петрушкова, о чем–то разговаривает во сне, порой бранится и протягивает костлявые пальцы. Наташа пугливо отворачивается, закрывается с головой, жмется в подушку и с трудом засыпает. Неспокойные сны превращаются в мучительные галлюцинации. Снится ей суровое лицо Сашки, задумчивое и искаженное от неудач. Больные, усталые ребята жмутся к холодному, сырому асфальту и упрекают ее за уход. Между ними лежит босоногая Катюша и тоже с укором оглядывает ее большими ввалившимися глазами, точно хочет сказать: «возьми к себе, там хорошо, сци кусают». Наташа испуганно вскакивает и, протянув руки, зовет к себе. На глазах ее блестят слезы, в груди щекочет боль; она снова просыпается и уже больше не спит до утра в немом раздумье.
Глава IV
Одиночество
Сашка всю ночь бродил по вокзалу, заходил в буфет, напрасно стрелял глазами по женщинам, искал и постоянно уходил один с больным, ноющим сердцем. Утром он отхлестал Сережку и нарвал ему уши за то, что тот выл по сестре Кате.
– Мне, небось, не меньше твоего жалко, а посмотри, молчу. Душа вся за вас, оболтусов, изболела, – успокаивая, говорил Сашка. – Как был бабой, так бабой и останешься, – из тебя путного ничего не выйдет. Уйду вот один, ну а тогда, гадина, как собака, так и подохнешь.
Когда рассветало, Сашка бегал в приемный покой, но ничего не добивался.
– Мало ли вас тут, голытьба, за день перебывает! Небось, не лошадиные головы у нас, чтобы все упомнить.
Так и возвращался он один, понуря голову. В девять утра они все втроем ходили в город и долго бесцельно толкались по улицам. Напрасно со слезами на глазах распинались Сережка с Антипкой перед бездушной толпой, – никто ничего не подавал. Проходившие молча кивали головой, иные сердито обрывали:
– Отстань, говорю, – нету.
Сашка безнадежно разводил руками. Проходившие ребята иронически смеялись над ним.
– Нет, брат, нынче на собранных копеечках не проживешь, – учись дергать.
– Может, я не хуже тебя умею, почем знаешь?
– Кабы мог, так не кривил бы рожу перед этакой сволочью, а то скосоротился, глядеть противно, тьфу!
– Дай привыкнуть. Так–то нельзя, – засыплешься.
– Руби неверную.
– Понятно, не вслепую. За этим в оба, – вмешался Антипка. – В поездухе, когда ехали, так этак мыли, что и не приснится другому.
– Мелко ты плаваешь, поверх да наружи.
Сашка избегал ссор и, ткнув кулаком в бок Антипку, разошлись. На дворе было морозно и сыро, ноги зябли, кожа грубела, трескалась от мороза и болела.
– Надо местечко облюбовать, чтоб на ночь спокойно устроиться. На вокзале больше нельзя, – беспокоился Сашка.
– В садике бы хорошо было.
– В кухмистерскую бы еще тебе, – перебил Антипка Сережку.
И молча они пошли к бульвару.
– Ну, вот оставайтесь здесь, а я на станцию сбегаю, може, и Катюшку с Наташей встречу, ежели придут.
– А мы так здесь сидеть будем, или посмекаем немного? – спросили его ребята.
– Как хотите, только не уходите далеко: заблудитесь, где искать буду? – наказал Сашка и ушел.
На вокзале он обегал все углы, несколько раз заглянул за решетку багажной, которая по–прежнему была туго набита вновь приехавшей детворой, и задумчиво выходил к подъезду.
– Подожду еще немного, может придут, шептал он про себя и снова возвращался к багажной.
На улицах уже начинало темнеть, а уходить не хотелось. Каждый взмах двери начинал волновать его, каждый шорох заставлял оглядываться. Не хватало сил покинуть уголок, в котором еще так недавно Наташа ласково убаюкивала его, как ребенка, а он повиновался ей. Над ухом его, чудилось, жалобным сгоном ночной метели шипел ее голос: «Усни, глаза у тебя красные»… В груди сердито, бурно вскипала кровь. «Кто взял? Убью», срывалось с посиневших губ, пенившихся слюной. А там, на бульваре, Антипка с Сережкой ждут, напрасно устремляют взор, месят ногами грязь, дрогнут на холоде. Сегодня сыро, бусит мелкий дождик, земля намокла, настыла, под открытым небом не уснешь. Сашка, как одурелый, вскакивал с барьера, выбегал на подъезд и снова, молча вперив в землю глаза и хлопая разбухшими сапогами, возвращался к барьеру. Вот и знакомый милиционер прошел, тот самый, который увел Катюшу с Наташей. Сашка хотел спросить у него, где они, но тот сердито на него рявкнул: