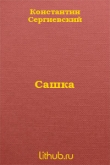Текст книги "Гримасы улицы"
Автор книги: Андриан Шульгин
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
– Ты чего здесь трешься, мазурик!
– Наших жду, – тихо сказал Сашка.
Милиционер не понял его и сердито вытолкал в дверь.
– Курва красноголовый, – сердито выругался Сашка.
Еще больнее стало сердцу, что–то комком перевернулось в груди и катилось к горлу… Шел он не торопясь тротуарами, натыкался на прохожих как слепой, в глазах было темно. Временами он останавливался и подолгу безнадежно глядел вдаль узкой улицы, где еще слабо виднелся флаг, выделяясь над макушкой вокзала. В переулке не было фонарей, да и на больших улицах немного их горело. Скоро бульвар… «Вот и большой, желтый дом виднеется, а он на краю бульвара, потому – Наркомпрос,» думал Сашка. И бежал, за ребят боялся, да и самому жутко делалось: первая ночь в чужом городе. Ребята, издали завидя его, бросились навстречу.
– Ну, как, не нашел Катюшку с Наташей?
– Где найдешь! Небось, совсем сгинули. Я и в приемный покой ходил, – тама тоже не знают. Ну, а куда теперь? Здесь нельзя. Смотри, как не повезло. Тут и дождик хлыщет, как нарочно.
– Мы нашли, где; тама ребят много ночует. Вот в эфтом закоулке горелый дом есть. Только незаметно проходить наказывали, – доложил Антипка.
– Во! Это здорово! Значит, живем, – воскликнул Сашка. – Только бы похряпать немножко.
– Мы тут без тебя подшибли немного. Хочешь, на, – предложил парень, вынимая из–под полы кусок чурека.
– Давай. Сами тоже, небось, не ели.
– Наелись.
– Ну, пошли. Веди, куда сказал. Я не знаю, усталость что–то взяла, – торопил Сашка.
– Тама поздно, сказывали, собираются: боязно, штоб, значит, чужое место не занять, – предупредил Сережка, еще ошеломленный потерей сестренки.
– Во! Этого они не хочут? Небось, не на постоялке, штоб распоряжаться. Хто первый пришел, тому и место.
Антипка больше не возражал, направляясь в переулок.
Подойдя к развалинам, они немного постояли у забитых ворот и потонули в широких стенах большого дома.
– Надо бы днем сюда заглянуть, чтоб место засветло выбрать, а теперь куда пойдем? – злился Сашка.
Сережка, боясь пинка, бойко шмыгнул в угол, налетел на острую балку лбом, закатился истерическим воплем.
– Перестань, гадина! Убью, кирпичем всю башку расквашу, – не понимая в чем дело, останавливал его Сашка.
Но никакой гнев не в силах был остановить вопль Сережки, и только спустя минуту голос его оборвался и захрипел, а кирпичи чаще затарахтели под его телом.
– Провалился, должно, захлебывается: – подавленным голосом сказал Антипка.
– Днем–то лень было посмотреть, сука мерзкий! Иди вот теперь к нему, разглядывай!
Антипка встал на четвереньки и молча пополз к Сережке, шепотом выпытывая у него.
– Што с тобой, а? Ушибся, небось? Парень молчал, судорожно вздрагивая всем телом.
– Давай спички, пес курносый, – крикнул Сашка. – Сам я посмотрю, что случилось, а то, погляжу я, тебя пока ждать, десять раз сдохнуть можно.
Приняв спички, он осторожно пошел, вытянув руки, и шагах в шести его рука коснулась обвалившейся с потолка балки:
– Ага! Вот он, должно, об эфту железину треснулся, – воскликнул Сашка и смелее подошел к Сереже.
Когда пугливо вспыхнул огонек зажженной спички, на груде кирпичей ярко выделилось черным пятном лежавшее тело, грязные руки, крепко сжавшие лоб и, казалось, окаменевшие.
– Надо на улицу иво вынести, тама подберут, а тут до утра здохнет. Кажись, храпит, – немного помолчав, сказал Сашка.
– Может, за ночь отлежится, пройдет, – ежась от страха, заикнулся Антипка.
– Молчи, скот! Сам виноват, гадина, вот теперь и вожжайся. Бери ево за руки, чиво свернулся?
Антипка молча взял его за мокрые окровавленные руки, которые он с трудом оторвал от головы, и они его из–под ворот вытолкали на панель.
– Бежим, кажись, идет кто–то! – И снова потонули они в развалинах, за грудами кирпичей, сложенных у забора.
– Здесь хорошо, – в случае и искать будут, через забор шмыганем.
– Молчи, поганец!
Сашка, прислушиваясь, остановил Антипку. Спустя четверть часа Сережку отвезли на извозчике.
– Ну, теперь мы вдвоем остались, – тяжело вздохнул Сашка.
С этих пор развалины стали их постоянным убежищем. На рассвете каждого утра они молча подходили к острому концу балки и подолгу стояли над черным пятном по кирпичам разлившейся крови…
…К рождеству они уже были не одни. Ребята, спавшие здесь, скоро привыкли к ним и уже доверяли им любое дело. Сашка был в большой дружбе с предводителем их, Курузой, и целые дни теперь они были заняты делом. Мелкие грабежи были источником их существования. Первое время Сашка иногда поддавался тоске, порой убегал на вокзал и часами толкался у багажной решетки. В сердце его еще не угасала надежда встретить Наташу. Однако, безнадежность постепенно овладевала им, новая воровская жизнь начинала затушевывать прошедшее, преступность скоро через край захлестнула его, и все умерло. Новые девушки безотказной похотью опьянили его.
– Мы не кисейные барышни, свои, блатные, – говорили они. – Своих не продадим…
А теперь зима, собьются в угол и блудят руками. Детская кровь закипит соблазном, уговаривать не нужно, потому, – закон.
– Вы, ребята, завтра на Хитров сходите, – распределял обязанности Куруза. – А Сашка с остальными на Трубную, только, чур, бить раз в день, но на верную, а то за слепую, пожалуй, попадешь в МУР, засмеют ребята.
Ребята не ослушивались, потому–на язык Куруза был жесток, да и на руку тяжелый. «Даст одну в ухо, ну, и крест», – говорили ребята. Куруза был, действительно, здоровым парнем, ему недавно 18‑й год пошел, а он уже походил на 25-летнего мужчину. Отнекиваний он не понимал; всякое слово свое считал законом.
– По нам хоть в Москву–реку, лишь бы дело.
– Ну, а теперь уснем.
Куруза взял за руку Грушку и улегся с ней в углу. Ребята сообща окружили остальных. Сашка был на особом учете и пользовался привилегией, а потому ложился рядом с Курузой, Ребята, прижавшись к Курузе с Сашкой животами, отогревали их.
– Сегодня елки в домах устраивают, веселятся, танцевать будут, а мы что? Эх, жизнь наша! Околевать, как собакам, на улице, – сердито отмахнувшись рукой, – сказала Ира, подымаясь с земли.
– Видно, продрогла, что ныть вздумала. Ложись, эвон, к Сашке под бок; он бедовый у нас, согреет. А нет, расскажи, что знаешь, с сердца печаль свалится, да и тоска пройдет, – предлагал Куруза.
– Подожди, лягу.
– Ну, вот и ложись. Кто слушать будет? – Ребята зашевелились и начали галдеть:
– Все будем, все…
– Эх, кабы стакан вина, чтоб в голову ударило и закружило, как тогда в Казани. – Ира приподняла облысевший, выношенный воротник, крепко обняла Сашку и тихо, паузами начала изливать свое горе.
– Жили мы хорошо, даже свою дачу имели, целое лето в цветах и зелени утопали, а зима настанет с долгими холодными вечерами, за окном, бывало, плачет метель, бьется в стекла и дребезжит, по телу побегут холодные мурашки, станет жутко и на душе темно. Но пеньем и игрой рояля заглушишь холодный плач, и счастье мгновенно опьянит тебя… Помню, был такой же день, рождественский день, когда умер отец. О, этот день–самый тяжелый день в моей жизни! С этого дня угасла жизнь, начался семейный развал, мать скоро перестала дома бывать, а если и бывала, то не одна. Пьяные мужчины постоянно сопровождали ее, люди тупели от вина и не знали, что делали. Мне было шестнадцать лет. Старые, истрепанные чиновники целовали меня; я рвалась, плакала, но мать бросала меня в кабинет отца, и я там оставалась до утра с чужим мужчиной. Жизненный кошмар скоро опьянил меня, я уже пила вино, курила, нюхала кокаин и тонула в разврате. Бессонные ночи душили меня, я задыхалась.
С глаз ее скатилась крупная слеза на Сашкину руку, и тяжелая мысль оборвалась. Все как–то протяжно, молча сопели и никому не хотелось говорить.
– Ну, а потом как же? – нерешительно спросили девушки.
– А потом… Проститутка, отдававшаяся за папиросу… Молчите.
Глава V
Катя
По выздоровлении, Катю отправили в детский дом. Теперь она, лежа в своей кроватке, целые дни возится с девочками. Перенесенный ею тиф вначале осложнился болезнью ног и не давал ей ходить.
Девочки любили ее и окружали забавами. Заведующая домом ласкала ее и в трудные минуты, когда Катя начинала тосковать по Сереже, уносила ее к себе и баловала сладостями и сказками. Девочка быстро начинала привыкать к новой жизни, ножки стали поправляться, и она уже начинала понемногу передвигаться. По ночам, когда в спальне все замирало, девочки громко, говорили со сна, некоторые грубо ругались, другие плакали, а иные из них слезливо вымаливали корочку. Улица крепко запечатлелась в детских умах, кошмар ее помнился, временами волновал и часто по ночам снился. Спокойная жизнь далеко не сразу исцеляет язвы недавнего прошлого, а у старших подростков они неизбежно остаются навсегда. Ранняя самостоятельная жизнь неимоверно быстро развивает их ум, рано пробуждает чувства и половую страсть.
– Там холосо было, – часто говорила Катя воспитательнице, вспоминая горькое прошлое.
Детский ум еще не обнимал всего ужаса. И только временами маленькую девочку заманчиво влекло к принесенным ей новым нарядам. Так, сегодня, когда нарядили их для елки, Катя бережно оглядывала себя и, громко смеясь, кричала девочкам:
– Тепель здесь холосо.
– А ты говорила, что там, на улице, лучше, было? – неожиданно спросила ее проходившая воспитательница.
Катя, не задумываясь, звонко смеясь, отвечала ей:
– Конесна, луцсе.
– У нас и елка, и тепло, и новые платьица для вас сделали, а там что? Грязно, холодно и один только черствый черный хлеб.
– Неплавда, там и сци были, и колбасу давали, – обидчиво заявила Катюша…
Вечером, когда столовый зал был затоплен белокурыми головками ребят и сотни электрических глаз смотрели из елки, Катя молча оглядывала ребят. В углу играл оркестр, ребята непрерывной нитью вели хоровод, прыгали от радости и пели. Катюша безучастно смотрела на них и чувствовала себя одинокой и чужой. Но когда наступил разгар вечера, ее в кресле передвинули на середину зала, и вокруг нее ребята долго, не смолкая, пели, кружились и танцевали. Время незаметно шло, хотелось еще долго веселиться, но в зал уже внесли столы, и Катюша за большим столом, в шуме живого потока детских голосов, угощалась с ребятами…
С этих пор Катюшу потянул к себе шум ребят. Первое время она с трудом уходила в общий зал и целые дни проводила с ребятами. По вечерам, когда утихал шумный день, Катюша спрашивала ночную няню, встречая ее в дверях:
– Где Селеза? Ты не видела иво? Я ходу, стобы он был со мной, ему там холодно.
Близкие чувства не угасали, родная кровь тревожно будила воспоминания об единственном брате. Теперь, казалось, трудно было узнать ее. Еще так недавно ввалившиеся щеки пополнели и на бледном, нежном личике заиграла жизнь. Белокурые, рыжеватые волосы вились кольцами над висками, прежде мутные глаза–теперь смотрели живо и радостно. Прежний жалкий, убогий вид быстро исчез бесследно. И кому знать: может быть, из нее вышел бы человек, нужный человечеству, если бы новая беда не оплела ее липкой паутиной несчастья.
Это случилось в начале весны. Солнце всем обещало свое тепло и, как бы радуя ребят, подолгу смотрело в окна. Другой, чуждый им заведующий присмотрел Катюшу, выпросил ее, и ясным февральским днем ребята со слезами проводили ее. Катюша заплакала. Маленькое сердце не выдержало, затрепетало в ее груди, будто чувствовало новую пропасть.
Семья Бузылиных недолго баловала ее. Семейная жизнь их не укладывалась в рамки повседневных будней. Начались ссоры и скоро погибло все. Ежедневные ссоры и драки, гнусная пьяная ругань дико развращали ребенка. Сам Бузылин часто гнал ее, а иногда ставил в холодный коридор и дико рычал пьяным голосом:
– Знаю вас! На свет пускать любителей много а насчет того, чтобы воспитывать–чужому дяде.
Катюша не понимала, о чем говорил ей свирепый отчим. Она только трусливо закрывала глаза, отворачиваясь в угол, боясь зарыдать, вздрагивала подшибленной птичкой. Временами, когда прерывался и затихал гнев, зверь успокаивался, и тогда Катюша слезно молила свою хозяйку, прижимаясь к ней, как будто хотела найти материнскую ласку:
– Я боюсь здесь, – шептала она. – Пусти меня туда, к девочкам, там холосо.
Маленькое сердце инстинктивно улавливало будущую беду, рвалось на волю. Весенние дни не радовали ее и солнце не ласкало и не манило ее на улицу. Слепое невежество семьи атрофировало детское чувство к красоте и беззаботной радости. Бузылина подолгу смотрела в синеву потускневших глаз Кати и не находила ответа. Ей было жаль мужа и жаль ее, маленькую, безответную крошку. Материнское чувство часто убивало ее, она билась в бешенстве, металась и не знала, как поступить. Разве иногда тихо, украдкой шептала: – Потерпи, вместе уйдем отсюда.
Катюша ждала. Буря оборвалась и жизнь затихала, как будто перешагнула грани невежества и зверства…
Глава VI
В сетях соблазна
Это было весной, когда Наташа собиралась выписаться из городской больницы. Был приемный день и к ней приехали Петрушковы. Сам он лет сорока восьми, плотный, здоровый мужчина, в потертом пальто с плисовым отворотом. Огромный нос его с выпуклой горбинкой походил на ястребиный клюз, был красно–багровым и заметно свернутым вбок. Пушисто расчесанные бакенбарды придавали княжеский вид его лицу и делали его солидным предпринимателем. Его жена, Василиса Ивановна, выглядела старушкой. Частые побои окончательно согнул я ее. Выглядела она жалкой, запуганной, мужа осторожно, с улыбкой называла на «вы» и ни в чем не ослушивалась.
– Вы посидите здесь, Еремей Власыч, – говорила она. – А я сию минуточку за ней сбегаю.
– Отстань, – рычал Петрушков. – Пристанешь, как банный лист. Здесь, небось, не в ресторане, штоб, значит, порядок соблюдать. Мне, как почетному человеку, везде место. Поняла? Собака! Я приехал из беды человека выручать, ну, знамо, должен быть и почет, и уважение. А ты, скотина, и этого не поймешь. Дурой была – так дурой–бабой и сдохнешь. Чиво согнулась, к кому я с речью обращаюсь, ай не к тебе? Веди, говорю, куда следует, тут мне не время ждать.
– А–а–а, неудобно-с, Еремей Власыч.
– Молчать, свинья!.. Неудобно. Подумаешь, какие. Ну, показывай, где твоя красавица, я люблю покупать товар лицом.
– Вон, в той палате, что дверь открыта, Еремей Власыч.
– Ты тут оставайся, а «мы», как хозяин заведенья, пойдем туда.
Петрушков развалистой походкой обогнул коридор и, останавливаясь перед дверью, тихо спросил жену: «Которая из них? Тут их чертова дюжина наберется».
– Та блондинка, что в углу, у оконца, Еремей Власыч.
– А ну–ка, загляну. Кажется, ничего, свежая. – И, вырвав картонку из рук подошедшей жены, спокойно подошел к койке.
– Муж мой; Наташенька, Еремей Власыч, – выглядывая сзади, отрекомендовала Петрушкова.
– Цыц, дура! Мы сами знаем, как величать себя.
– Как угодно-с, Еремей Власыч, извольте-с, – раскланялась старуха.
– Брысь, говорю, ведьма!
Наташа с изумлением смотрела на него вспыхнувшими голубыми глазами. Петрушков спокойно снял картуз и несколько раз размашисто перекрестился в пустой угол.
– К вам изволил пожаловать, просить к себе-с. Бездомная вы, сказывают, пожалел, устроить к себе думаю. Вот вам платьице с пальтишкой захватил. Не прогневайтесь, хотел новое заказать–размер не знаю-с.
Наташа медленно поднялась и, как–то живо схватив его руку, прошептала:
– Спасибо, я отработаю вам за все.
– Что за счеты-с, на все бог-с. Може, и со мной так–то случится на старости лет, кому знать? А теперь собирайтесь домой. У ворот и кучер вас ждать изволит.
– Сегодня, Еремей Власыч, нельзя. Доктор меня не выписал, – голосом выздоравливающего человека протянула Наташа.
– Даа-с, нельзя, значит, – прикусывая ус, повторил Петрушков. – На чаек бы ему-с, – за одну ночь не стоит, пожалуй. Хорошо-с. Завтра извольте-с ждать к обеду, сам за вами пожалую. А что касается подарочка, получите-с.
– Спасибо, поставьте на кровать, я уберу.
– Хорошо-с, я завтра сам прибыть изволю-с. Бумаги-с, вид на жительство выправьте-с. Прощайте-с. – Петрушков тяжело поднялся с табурета и вышел. Василиса Ивановна тихо прошептала ей на ухо:
– Едва уговорила. Жалостливый он у меня, страсть, какой. Любить будет лучше, чем родную, только не ослушивайся…
Она еще хотела что–то сказать, но из коридора долетел зычный голос:
– Василиса, Василиса, тьфу, гадина!.. Тебя жду, дура–баба, – встречая ее, рычал Петрушков.
Когда они ушли, Наташа, нахмурив брови, мысленно всматривалась в мутные глаза Петрушкова, которые, как призрак, стояли перед ней.
– Посмотри, Наташенька, что они привезли тебе, – нетерпеливо настаивали сиделки с больными.
Наташа как–то неохотно открыла картонку, и ее глаза заблестели наивной радостью. В картонке лежало легкое батистовое белье и дорогое, шелком шитое платье…
– Видно, богатей, хрыч старый, и, должно, любитель за молоденькой прихлестнуть, – завистливо перебрасывались больные с сиделками. – А туфельки, посмотрите, какие, – не иначе, как атласные, а чулки шелковые…
Когда все разошлись, Наташа наскоро оделась и с улыбкой, закинув голову назад, заговорила:
– Теперь Сашка и не узнает; сердиться, небось, будет. Може, увидимся.
Но вдруг в груди ее что–то больно кольнуло и ясный образ Сашки встал перед глазами унылым призраком. Наташа, протирая глаза, останавливается на красивом наряде. Мысли, обрываются, и неведомый призрак соблазна поманил ее в мутную даль. Она тщательно оглядывала себя и не узнавала. А была она прекрасна. Живой струей по щекам ее разливался румянец и горел, как закат, золотистыми брызгами. Голубые глаза глядели ласково, как весеннее южное небо, часто покрываясь задумчивостью. Пышная грудь высоко вздымалась под шуршащей шелковой чешуей и вздымалась как безбрежное море, залитое светом луны и бархатом ночи. Тот, кто видел ее еще так недавно, пристально вгляделся ей и не узнал, если бы простые, развязные манеры и жесты, привезенные из глухой деревни, не выдавали ее…
– Завтра ты уедешь от нас; небось, никогда не встретимся, – тоскливо ныли больные.
– Зачем так? Я буду заходить к вам, проведывать, – шептала Наташа. – Страшно как–то мне, стыдно.
Простая, чуткая душа была чиста, и красивый мир роскоши казался ей чуждым, ненужным, и душил своим тяжелым предчувствием. Тоскливо глядевшие пыльные стены строго хмурились и как будто собираясь сказать «продажная», упорно молчали. Вечером, когда она вошла в коридор, больные женщины обступили ее и с любопытством выпытывали:
– Ты, Наташа, сказывают, за старика замуж пойти думаешь?
Наташа недовольно глядела на них и, закрывая глаза, точно отрываясь от мысли, отмахивалась рукой и шептала:
– В прислуги берут, полы мыть буду.
– Будя тебе, нешто хрыч старый задаром подарки возит! Неспроста. Только, вишь, ты глупенькая еще, ну и проведут.
Кто–то успокаивал ее и отгонял разговорившихся. Но Наташа больше не отвечала им. В голову ее закрались мысли о Сашке, который только один умел делиться горем и которого она понимала. Сегодня она не спала всю ночь. Пристально всматриваясь в темные стекла окон, ждала рассвета. Последняя ночь в больнице казалась ей самой томительной и большой. Больные всю ночь, как бы сговорившись, разговаривали во сне, вскакивали и кого–то ругали. Иные из них с пронзительным криком, нарушая тишину, подолгу бились в припадке.
Было еще темно, когда невдалеке протяжно завыл фабричный гудок. Наташа приподняла голову, которая от усталости тянулась к подушке. Струя новой мысли живо мелькнула в голове: «где я буду сегодня». Серое, мутное небо уже виднелось сквозь большое окно, улыбалось рассветом. Она еще с минуту глядела в далекую облачную высь, пока глаза не сомкнул могучий сон наступавшего утра. И, может быть, долго проспала бы она, если бы ее не разбудил доктор.
– Как вы себя чувствуете? – спросил он, подсчитывая пульс, который за последнее время он так часто проверял, стараясь сжать в ладони ее небольшую ручку.
– Я… я ничего, я здорова, доктор, и, если можно, выпишите меня.
– Вы нашли место, куда уйти от нас?
– На работу к Еремей Власы чу, – нерешительно отвечала Наташа.
Доктор с изумлением посмотрел ей в глаза и о чем–то задумался.
– А я думал вас у себя в больнице устроить, но… – заговорил доктор и как–то круто оборвал разговор. Помолчав, тихо сказал Наташе:
– Хорошо, выпишу.
Наташа, как очарованная, смотрела ему в глаза, ставшие туманными, неспокойными.
– Доктор, разрешите перед уходом зайти к вам. Я должна получить бумажку, без которой могут не взять меня.
– Хорошо, я вас приму в одиннадцать.
Наташа, проводив его, наскоро оделась и стыдливо вышла в коридор узнать время. В одиннадцать, набросив на себя халат, она задумчиво шла по коридору, часто оглядываясь. За шесть долгих больничных месяцев примелькались лица больных и опротивели. Подойдя к двери, привалилась к стенке, долго смотрела в высокую дверь, прислушивалась к долетавшему оттуда разговору. В голове мелькали неясные думы о Петрушковых и вставал грузный образ будущего хозяина с пушистыми бакенбардами. На сердце стало тяжело и неспокойно. Она, как бы избегая призраков, отвернулась к стене, погружаясь в нахлынувшее раздумье.
– Вы ко мне, – взяв ее за руку, тихо сказал доктор и направился с ней в кабинет.
Наташа, стыдливо оглядываясь, прикрывала новый наряд в халате.
– Я пришла поблагодарить вас.
– За что? – растерявшись, заговорил доктор, крепко сжав ее руки. – Присаживайтесь. Я только закрою дверь, да и раздевайтесь.
Наташа, не противясь, сбросила халат и предстала бледная, как перед казнью.
– Я хотел, чтобы вы у меня в больнице остались, – заговорил доктор, подходя к ней.
– Нельзя, я дала слово, я уже не могу. Я пришла благодарить вас, – повторила Наташа.
Доктор, взяв халат, смерил ее с ног до головы торопливым взглядом.
– Удивительно вы сегодня хороши, – заговорил он, кладя руку на ее плечо.
Наташа вздрогнула и отступила назад.
– Отчего вы так неприветливы ко мне, – спросил доктор. – Разве вы не замечаете, что я люблю вас. – При этих словах он тихо приблизил ее к себе и протяжно поцеловал ее в шею.
Наташа стыдливо вспыхнула и какой–то гнев засветился в голубом море тоскливых глаз. Доктор упорно всмотрелся в них, но раздавшийся стук в дверь заставил его отступить в сторону.
– Кто там?
– Это я, изволил-с за Наташей приехать.
– Кто вы? – переспросил доктор.
– Еремей Власыч Петрушков. Откройте-с, кучер ждет.
Наташа покачнулась, как подрубленный стебелек и, открыв широко глаза, бросилась к халату.
– Я не пущу вас, я хочу, чтобы вы у меня остались. Поняли?
– Нет, нет. Я не могу. Это он, мой хозяин.
И она, оттолкнув его, распахнула двери.
– Извольте-с вас отблагодарить, господин доктор, – подавая золотую пятерку, заговорил Власыч.
– Спасибо, я не беру, – оборвал доктор.
– Документик нужно-с, не откажите-с написать.
– Хорошо, в канцелярии вам выдадут, а я подпишу.
Петрушков взял Наташу под руку и они, не оглядываясь, тихо пошли к выходу.
Глава VII
В глухую ночь
Прошли холодные месяцы. Давно уже весна залила весь мир своим теплом. Уличная детвора уже шлепала грязными босыми ногами по мостовой, по вечерам месила жидковатую глину на побуревших бульварах.
– Теперь не страшно, – заговорили ребята. Каждая бульварная скамья–гостиница. А народ кишмя кишит, не заскучаешь. Да и по чернотропью верней: гакнешь кого–нибудь и капут. Легашь с псом ученым, и то не разыщут, – бормотал подхмелевший Куруза.
На крупные дела теперь они с Сашкой вдвоем ходили.
– На мокрую когдась–ребят нельзя брать, дурными станут, – предупреждал Сашка Курузу.
– А то, поди, без тебя не знаю, – недовольно огрызался Куруза. – Антипку можно взять, он по трубе мастак лазить. И дележку, значит, разделить на три рыла. Потому знаешь, Сашка, в свой город потянуло, кровь родная, должно, зовет.
– Нет, брат, я на корявую не пойду. Ежели шайка нас–ну, значит, и дели поровну, а што, ежели ехать хочешь, соберем, – не соглашался Сашка.
Куруза пристально посмотрел на него серыми глазами, сверкнул белками, загнанными под широкий лоб, и ехидно улыбнулся. На сердце у него теперь бурлил гнев, в голове рождались смутные мысли: «Только бы удалось, а там…К ногтю».
Возвращаясь в знакомые развалины, они таили в себе скрытые мысли; у каждого кипела кровь, и играла, опьяняя, кровавая месть опороченных самолюбий.
Ребята поджидали их.
– Чиво так долго? Нам надоело ждать, – встретив их, заговорила Ира. – А мы на вокзале срубили чекодан, – открыть нужно.
– Сейчас темно, оставим до утра, – тихо ответил Сашка, утопая в развалинах.
– Только бы зарыть подальше, а то еще того, влипнет кто–нибудь, – предложил Куруза. Сашка ничего не сказал; вытянувшись в углу, жадно жевал колбасу с баранками. Ира, усаживаясь рядом, заговорила с ним, но он ей ничего не отвечал. Она поняла его. Куруза также ничего не говорил, и ребята молчали, как будто перед грозой, опустив головы, глядели в землю.
– Сказку, нешто, рассказать. Кто слушать будет?
– Все будем, – отозвались голоса.
– Как раз про сиводнишну ночь, когдась по огонь в церкву ходют, – ловчее усаживаясь на кирпичах, пояснил Антипка. – Было это, значит, так, когдась народ с огнем высыпал. Впереди шел барин с барыней, а за ими мужики. Видит барин, ведьма крадется к его фонарику и высовывает руку, схватить хочет, а он здоровый был, а все же оробел, – фонарик затрясся. А Кирила сзади шел, – отец мой; видит, барину плохо стало. Ну, говорит, думаю, была не была, а за баричей постою, потому избу новую подарить могут. А ведьма во какая… – Антипка в азарте так размахнул руками, что у Курузы хрустнул нос и искры из глаз посыпались.
– Сволочь, – не выдержав, взревел Куруза.
И, вскочив, долго пинал Антипку по лицу, по спине и по ребрам. Антипка взвизгивал и гакал после каждого удара.
– Ну, довольно тебе, не разоряйся, – сказал Сашка, отталкивая Курузу в сторону.
– Уб–бить иво, сволочь, к-кровь пустить, штоб-б помнил, гадина! Куруза я, аль хто? – И он из за пазухи вынул на ремешке висевшую тяжеловесную гайку.
– Подожди, а то сорвется.
Куруза отсморкнулся кровью и отошел. Антипка, как мяч подскочил еще раз и, не вставая, подкатился к ребятам.
– Ну, довольно тебе кряхтеть, пора спать ложиться. Завтра я вас всех чем свет подыму, – объявил Сашка и вытянулся на коленях Иры.
Ребята, свертываясь в калачи, затихали. Куруза еще немного посморкался и, привалившись головой к чемодану, тоже умолк. В открытую крышу падали крупные капли дождя. От них, казалось, как обиженные сироты, плакали жуткие, глухие развалины. Ребята тяжело, протяжно храпели. Сашка удобней прилег головой к Ире и тоже захрапел, только не по настоящему, а так, – притворился спящим и смотрел, что будет с Курузой, который все еще неспокойно ворочался, подолгу курил и кашлял. Временами он приподнимался на локоть, осматривался кругом и прислушивался. Сашка, сжав кирпич, держал его на изготове и думал: «Только возьми, я те так по кумполу смажу, только мокренько будет». В нетерпеливом ожидании пропал сон, и похоть к храпевшей рядом с ним девушке лениво оборвалась. Лениво вытягивалась ночь, едва перешагнув за свою половину. Тяжело громыхая, проскользнул последний трамвай, отдался эхом последний шум улицы, на развалинах наступила жуткая тишина, как в глубокой могиле. Через обвалившийся потолок прытким юношей выглянул месяц, брызнул светом, спрятался в тучи и стало еще темней. Бархатные облака то серели из–под луны, то кустами собирались в свинцовые горы и могучими волнами текли к темным берегам далекого горизонта.
Куруза осторожно приподнялся, прикурил папиросу и, как бы ненароком, осветил протяжно храпевших ребят. На чемодане лежала чья–то голова. Куруза осторожно столкнул ее, как бы поворачиваясь. Спавший не проснулся. Куруза, сидя, переставил чемодан и, согнувшись, тихо и медленно пошел к выходу. Было тихо… Вдруг тяжелый удар кирпича испуганно отдался глухим эхом: Да–а–к. И снова все умерло. Только было видно, как беззвучно в смертельных судорогах навсегда засыпал Куруза. Сашка тихо вернулся назад и, как бы чего–то боясь, крепко обнял Иру и до рассвета глядел в мутный просвет, где уже давно без движения лежал Куруза.
Когда первые блики рассвета уложились на серые стены развалин, Ира, приподняв голову, спросила Сашку:
– Ты спишь?
– Нет. Страшно мне как–то, – шепотом ответил он, не отрывая глаз от выхода. Ему казалось, что Куруза притворился мертвым и, приготовив увесистую гайку, поджидал его.
– Дай папиросу, страсть как хочу курить. Слышишь?
– Погоди, кажется идет кто–то.
Ира приподнялась и осмотрелась – кругом никого не было. Пока они курили, ребята, как бы чувствуя запах табака, начинали ворочаться и просыпаться. Долго растирали свои бока после кирпичной постели, вопросительно глядели Сашке в глаза, как будто собираясь спросить: где Куруза?
– Ну, теперь и закопать собаку, небось, подох.
Все насторожились. Сашка тяжело поднялся и как–то дико захохотал.
– Ха–ха, ха–ха–ха. Ловко я иво смазал. – И он, подойдя к мертвому, тяжело пнул его ногой в рыло, крикнув:
– Антипка! Иди, крой его кирпичем за вчерашнее, штоб на том свете не узнали.
– Мертвого не бьют. Хватит с него и того, что ты подкинул.
– Никак кожа на башке лопнула, што ли?
– А то, поди, нет! Небось, не дрогнул.
Сашке вспомнился момент, когда Куруза вздрагивал в предсмертной агонии, и невольно жутко–жутко стало ему…
– Дрыгал, сво–олочь! Ишь как на чемодан кровищи набрызгал. Ну, зарывайте живо, да будем делить, что в чемодане.
Когда они выходили из развалин, Сашка пристально посмотрел на алый круг засыпанной крови и задумался. Казалось, совесть мучила его и за что–то было обидно.
– Ну, чиво ты остановился, уж не пожалел ли такую сволочь? – заметила Ира.
– Так што–то, – ответил он, и в голове его вдруг мелькнули слова Курузы: «Знаешь, Сашка, в свой город потянуло. Кровь родная, должно, зовет».
– Куда, Саша, пойдем?
– Куда? На Трубную завернем, пожалуй. Там, знаешь, Ира, можно армяшке и чемоданное брахло спустить, да и насчет спиртишки–постоянно.
Выходя из ворот, он еще раз недоверчиво оглянулся и, махнув рукой, заговорил с Ирой:
– Страсть, как ты на Наташу похожа.
– На какую Наташу?
– Не знаешь ты ее. Добрая была и тоже красивая. Катюшку в больницу унесла и сама сгинула.
– Ты любил ее?
– Хто знает. А все ж любил. Думалось, може, привык. Только все помнится и во сне видал. Добрая была она, ласковая, лучше сестры. Да, не судьба, видно: так и не пришлось жить вместе – расстались.
– А я с тобой разве ссорюсь? Душа в душу живем, а все, видно, не такая я, как она.
– Будто и такая, а все же не то. Господская ты, а она наша, деревенская, простая.
– Когда–то была господской, да и быть интеллигентом еще не значит быть плохим. Разве ты не хотел бы быть интеллигентом?
– Я – нет.