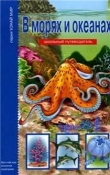Текст книги "До и после динозавров"
Автор книги: Андрей Журавлёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
Кремнёвый океан
С развитием травянистых сообществ усилился вынос в океан кремнезема. Во второй половине кайнозоя начался расцвет его потребителей – планктонных водорослей (диатомовых и силикофлагеллят) и фораминифер-силиколокулинин (кремнекамерных). К началу неогенового периода диатомовые распространились в высокоширотных океанах, озерах и почве.
Диатомовые лишены жгутиков и строят округлые или удлиненные раковинки-коробочки. Раковинки образуются из легкорастворимой разности кремнезема – опала. Плавают диатомовые большими скоплениями, погруженными в липкую слизь. Скопления быстро оседают на дно, унося опал с собой. Так, диатомовые стали главным источником осадочного кремнезема. Диатомовые настолько хорошо приспособились к жизни в высоких широтах, что заселяют даже толщу льда. Во льду в некотором отношении жизнь даже легче – там меньше тяжелого и вредного для здоровья изотопа водорода. И съесть буроватое мороженое из диатомовых становится непросто. Полярными ночами они впадают в «спячку»-анабиоз. Предполагается, что так они могут пролежать до 180 тыс. лет. (Изучая в конце XX века диатомовых, собранных в 1834 году, американский естествоиспытатель Ричард Гувер поместил их раковинки в воду, чтобы лучше было видно. И 150 с лишним лет спустя они ожили!) Возможно, именно изо льда диатомовые переселились в пресные водоемы, что случилось в меловом периоде.
С умножением диатомовых современный океан обеднел растворенным кремнеземом. Нуждавшимся в этом минерале радиоляриям пришлось облегчать собственный скелет, а стеклянные губки отступили на глубину.
Стеклянными их называют потому, что их скелет состоит из прозрачных кремневых спикул. Эти спикулы имеют по шесть лучей, развернутых ровно на 90 градусов по отношению к соседним. От обыкновенных губок, которые тоже выделяют кремневые спикулы, они отличаются другим строением тела. Большинство клеток слилось в единую многоядерную массу, называемую синцитий ( греч.«общий сосуд»). Через синцитий сигнал из одной части организма в другую передается быстрее. Наша нервная ткань, мускульные волокна позвоночных и каракатиц, листья стыдливой мимозы тоже отчасти являются синцитиями. Именно поэтому они так слаженно и быстро срабатывают: каракатица выпускает чернильное облако и скрывается, листья мимозы складываются, мы иногда можем вовремя принять решение, а стеклянные губки вытягиваются на метр в высоту, не теряя своего изящества.
У круглых червей-нематод появился зуб на диатомовых, которым они, как консервным ножом, вскрывали коробочки. Больше стало поедавших планктонные водоросли, личинок и всякую мелочь (вроде нематод) рачков. Их часто называют крилем. Киты обрели особые железы, вырабатывавшие вещества для переваривания панцирей этих рачков. Выедание китами богатого белком криля чем-то напоминает выпас крупных млекопитающих в травянистых сообществах. Тут-то и пригодились отпущенные китами усы.
Под стать мирно «пасущимся» гигантам морей стали и самые большие хищники, место которых прочно заняли акулы. Ископаемый предшественник белой акулы был в два раза крупнее современного вида (до 13 м длиной против 6,4 м). Возможно, что неогеновые родственники белой акулы вырастали и на 20 метров. Во всяком случае, зубы у них были преогромнейшие – по 18–20 см высотой (у современной – 8 см), а высота пасти – 1,8 м. Но киты удалились от теплолюбивых акул в недоступные для них полярные воды, и последний хищник-гигант вымер 3 млн лет назад.
В морских сообществах кайнозоя происходили изменения. Совершенствовались приспособления для взлома раковин. Новые семейства моллюскоядов возникли среди рыб, морских млекопитающих и прибрежных птиц. Увеличилась частота сверления раковин (до 44 % удачных попыток в среднем против палеозойских 20 %). Особенно усердствовали улитки – натики и мурексы. Шестилучевые кораллы и гребнеротые мшанки достигли высокой степени единства в колониях. Рифы и многие другие морские сообщества стали еще разнообразнее. На рифах площадью в несколько квадратных километров стало уживаться более 5000 видов животных. (В мезозое на таком же участке помещал ось до 1000 видов, в середине палеозоя – до 400, а в кембрийском периоде – чуть больше 50.) Кораллиновые красные водоросли, защищенные подобно кораллам известковым скелетом, стали обычны.
Рыбы-попугаи предопределили их багряный расцвет, спасая от обрастателей. Появились особенно глубоко копающие звери. Киты и другие морские млекопитающие присоединились к взрыхлявшим осадок животным.
Возросла масса животных в морских сообществах, главным образом донных фильтраторов. Об этом можно судить по мощности ракушняков. В неогеновом периоде ракушняки достигли в среднем 5– 10 м мощности против 1–2 м в юрском периоде и одного метра и менее в ордовикском – силурийском периодах. Это явление могло быть связано с приростом продуктивности планктона, зависящей от поставок питательных веществ наземной растительностью.
После таких скучных слов, как «продуктивность планктона» и «питательные вещества», обязательно нужна сказка.
Подслушанная сказка о последнем ямути
Когда небесный костер отдает свою последнюю искру красному Улуру, чтобы Улуру-«место всех встреч» мог заметить запоздалый путник, и длинные тени урдлу скачут по великой пустыни, дети собираются вокруг старика, сидящего у глубокого мигири.
(Я незаметно разворачиваю свой спальник неподалеку за колючим кустарником. Это единственный мигири-колодец посреди великой пустыни, где возвышаются скалы Улуру и где я застрял сегодня. Деваться мне особенно некуда, но и мозолить глаза местным жителям не хочется.)
– Расскажи нам о ямути, Барнгарла, – просит самый маленький из них.
– О ямути, о великом ямути, Барнгарла, – вторят ему другие.
(Местные названия австралийских животных я уже немного освоил. Знаю, что слово «урдлу» относится к большому красному кенгуру, «уарту» – зовут вомбата, а «вирлда» – крупных поссумов. Но ни о каком ямути я никогда не слышал: скорее всего, это какой-нибудь сказочный персонаж вроде нашего Змея Горыныча, о котором дети обожают слушать на ночь, – думаю я и разваливаюсь поверх спальника. Песок так нагрелся задень, что внутри мешка можно задохнуться.)
– Правда, что он был как четыре урдлу, которые вскочили на спину друг другу?
– Правда, что он был шире, чем толстый уарту, копающий большие норы?
– Правда, что мы живем на шкуре большого ямути, которого заколол Нгурундери, а озера – это прорези от его варлу-адниа?
(«Ну, конечно, сказка, точнее – легенда, раз уж мифического великана Нгурундери с его "варлу-адниа" – каменным кресалом для разделки мяса привлекли», – соображаю я).
Старый Барнгарла, умело вращая палочку, разводит костер. Пламенеющая вершина Улуру скоро угаснет, и лишь его костер будет отгонять тени до самого рассвета. Он подбрасывает туда здоровенный сук смолистого дерева и ладонью разравнивает песок неподалеку. Самый маленький, которого все зовут Каликулиа, приносит еще охапку сухих веток.
(Чтобы лучше слышать, я поворачиваюсь набок и приподнимаюсь на локте. Австралийцы больше рисуют и показывают жестами, чем говорят. Не видя рассказчика, ничего не понять.)
Шершавая ладонь старого Барнгарлы описывает несколько кругов: много-много лун назад. Его средний палец замирает, уткнувшись в теплый, багровый в отсветах костра песок. Он кладет в рот щепоть каких-то сухих листьев, смешанных с золой, и вспоминает, глядя на гаснущую верхушку Улуру. Издали доносится мерный рокот: то ли урдлу, потерявшие в темноте свои тени, продолжают скачущий бег, то ли наши невидимые соседи высекают дробь из бумерангов-уадна. Языки костра отплясывают свой таинственный танец. В их отблесках извилины на песке оживают. Они текут, сливаются друг с другом и распадаются вновь.
Палец старого Барнгарлы начинает выписывать узор, и на песке разворачивается завораживающая история.
Дядя деда его дедов, сам дед его дедов и еще много избранных отцов и сыновей в особый день, не известный женам, встали, как только начал разгораться небесный костер. Они взяли свои уадна, биты-уирри, длинные копья-уардлатха и короткие копья-айа. С песнями они оставили селение, не сказав ни слова ни женам, ни младшим детям. Покинутые женщины вопили, как кукабарры, визжали, как раненый вирлда, шипели, как великий змей-вонамби и свистели, как черный какату, умоляя своих мужей, сыновей и братьев остаться.
– Не ходите в ту неизвестную и страшную страну! – причитали они. Так, стеная, они провожали мужчин в поход за ценной красной глиной.
Наконец старейшина остановил их. Он сказал, что, когда уставшие и нагруженные мужья и сыновья вернутся, их надо встретить подобающе. Затянув скорбную песнь, взрослые и юные мужчины удалялись по красной тропе. Путь им предстоял долгий – в две или три луны. Не всегда удастся наполнить живот. Не везде их ждут полные прохладной воды мигири.
Они шли туда, где в ночном небе сверкает двойной уадна самого Нгурундери. Когда-то великан забросил его туда после удачной охоты. И с тех пор он указывает путь всем идущим.
Вокруг них расстилалась лишь багровая пустыня и белели стволы смоляного дерева да кости урдлу. Они останавливались у выбоин-гнамма, где заботливые предки прикрывали широкими камнями воду. Они ели запеченное и провяленное мясо урдлу и шли дальше. Они очень устали, когда дошли до места, где копают ценную красную глину. И каждый копал ее своим уадна, смешивал глину с водой, делил на части и сушил еще много дней. С каждой частью красной глины они вырывали у себя по пучку волос. И когда волос у них не осталось, каждый возложил себе на голову свою красную глину, и они двинулись в обратный путь.
Дед моих дедов был совсем юный варднапа. Его гладкую спину и ягодицы не украсил еще ни один рубец.
Дети у костра с завистью и уважением смотрят на самого старого Барнгарлу. Вся его спина испещрена шрамами. При свете костра она выглядит, словно гора Улуру, пересеченная множеством расщелин.
На песке возникают все новые замысловатые картины.
– Юный варднапа очень устал нести красную глину, и дядя задержался с ним у гнаммы, хранившей воду. Еще раньше у них кончилась еда. Он не мог унести много еды. Тогда дядя напоил его и повел навстречу небесному костру.
Старый Барнгарла проводит на песке извилистую линию.
– Вода, – говорят дети дружно.
Рядом появляются еще несколько таких линий.
– Много воды, – изумляются ребята.
– Разве бывает так много воды? – больше всех удивляется маленький Каликулиа.
Палец старого Барнгарлы быстро выводит несколько небольших кружков, будто слипшихся вместе, и изящную дугу.
– Он раскапывал своим уадна гнезда медовых муравьев, – облизывается маленький Каликулиа. – Так много? Я тоже хочу много медовых муравьев! И толстых белых личинок-уитхетти хочу! И хвост урдлу, запеченный на горячих камнях…
Младший брат получает хорошего тумака от старших: ему еще не разрешается есть хвост и внутренности урдлу.
Цепочка тонких черточек, похожих на наконечники копий-уардлатха, рассекает песочную гладь.
– Там были чужие люди. Они их боялись? – испуганно спрашивают дети.
В ответ струится новый узор.
– Они отдали им несколько частей красной глины и получили взамен вкусную рыбу-баррамунди. А юная девушка подарила череп своей любимой бабушки, чтобы им удобнее было нести воду.
Подкрепившись, варднапа и его дядя повернули на тропу, ведущую к дому. Но прежде они вышли на окраину густого леса, где решили набить впрок жирных сочных вирлда. Дождавшись лунной ночи, юный варднапа полез на белое смолистое дерево, где сидели самые вкусные вирлда. Мясо вирлда с такого дерева приятно пахло листьями, которые он ел. Варднапа так удачно сбил своей уирри пару молодых вирлда, что они даже не успели уцепиться хвостом за ветку. Ведь на хвосте убитый вирлда мог провисеть еще много дней. Он спрыгнул с дерева. Убить молодого вирлда было хорошим знаком, и он запел веселую охотничью песенку:
– Янирриуартанханга уирти накундатху,
Вирлда уарндатаку нгарри варландха…
(В ней пелось о том, что в Янирриуартанханге он увидел дерево, на котором сидел вирлда.)
Дядя поднял к голове правую руку, сжатую в кулак так, что большой палец лежал поверх указательного, и резко опустил ее вниз. Варднапа сразу умолк и замер.
Дети, сгрудившиеся у костра, тоже перестают шевелиться. Старый Барнгарла чертит на песке кружок и обводит его другим.
– Почему они затаились? – не выдержал кто-то из ребят.
Резкими движениями пальца старый Барнгарла обозначил несколько сдвоенных дорожек из похожих на короткие стрелки знаков.
– Какие большие птицы эму! – восхищенно удивляется маленький Каликулиа.
– Нет, – отвечает старый Барнгарла, – михиранги. Ребята в первый раз слышат это слово и вопросительно смотрят на старика. (Я тоже ничего не знаю о михирангах и подбираюсь ближе.)
– Михиранги были ростом, как два эму, – продолжает старый Барнгарла. – У них были длинные ноги, а на ногах – копыта, как у нандху, на которых садятся недоделанные люди. Они не летали, как эму, но бегали еще быстрее, чем эму.
– Вот бы попробовать кусочек! – не может удержаться маленький Каликулиа.
– Но их было только двое, а даже одного михиранга могли одолеть только несколько взрослых мужчин с прочными острыми вардлатха и тяжелыми уирри. Они ждали, пока михиранги уйдут подальше от их ненадежного укрытия.
На песок ложится новая дорожка.
– А это кто? Урдниньи? – не понимают ребята. (Урдниньи – так они произносят название дикой собаки динго, – соображаю я.)
– Нет, урдниньи тогда не жили в нашей стране, – поясняет старый Барнгарла. – Это был страшный маррукурли. Из его нижней челюсти, словно два длинных каменных варлу-адниа, торчали большие зубы. Гораздо больше, чем клыки у урдниньи. На брюхе у него была сумка, как у вирлда, урдлу и любого зверя, жившего здесь до появления недоделанных людей. Чтобы полосатый зубастый маррукурли не напал на них, они всю ночь жгли костер из веток белого смолистого дерева. До утра их больше никто не потревожил. Только странный зверь, принятый ими за обычного урдлу, припрыгал из глубины леса и унес в зубах одного из добытых жирных вирлда.
Варднапа так и уснул у костра. Проснулся он от дрожания земли. Ему казалось, будто огромные камни падали на землю с самой вершины Улуру. Головешки костра подпрыгивали, словно мелкие боязливые пудкурру.
– Это пришел грозный ямути? – не выдерживает маленький Каликулиа и прячется за спинами братьев.
– Нет, то была стая аркаррунха. Они стучали все ближе и ближе. И когда варднапе и его дяде показалось, что сейчас заскачут даже большие смолистые деревья, они увидели их. Каждый из аркаррунха был величиной, как два урдлу. Голова у него была, как две головы вудлуку, которых едят недоделанные люди. Только без рогов. На ногах у них было всего по одному пальцу, как у нандху. От этих огромных пальцев оставались длинные борозды. Когда они прыгали сквозь кустарник, в нем появлялись широкие проходы. Даже молодые смолистые деревья не могли устоять перед мощью аркаррунха. Один из них остановился вблизи дерева, скрывшего людей. Он стал ощипывать с него листья, будто он был маленький вирлда, а не очень большой урдлу.
Когда аркаррунха ускакали вдаль, варднапа и его дядя хотели идти дальше. Но раздался треск и гром еще сильнее прежнего. Будто сами скалы Улуру посыпались на землю. В той стороне, куда опускается небесный костер, взвилась туча рыжей пыли. Она приближалась к ним. Дядя варднапы только крепче сжал свой вардлатха. От тряски с дерева чуть не попадали оставшиеся там вирлда. Они обвили свои хвосты вокруг веток и уцепились друг за дружку. Все замерло, и даже небесный костер потускнел в облаке пыли.
Высокое смолистое дерево, одиноко стоявшее посреди ложбины, рухнуло, и через его ствол переступил зверь. Он был как два аркаррунха, как три михиранга, как пять самых больших урдлу. От его когтистых лап, каждая из которых могла целиком накрыть взрослого мужчину, оставались вмятины. Глубокие, как мигири. Они даже наполнялись водой, словно мигири. Длинная толстая шея зверя была пригнута к самой земле, и этот зверь никогда не смотрел вверх. Он, наверное, не хотел видеть небесный костер. Его нос двигался сам, будто – то был не нос, а хвост, и что-то выискивал среди веток поваленного дерева. Иногда он приостанавливался и отрывал что-то от дерева своими огромными верхними передними зубами. А с его брюха, волочившегося почти по самой земли, свисала сумка. Из нее торчала еще одна голова с живым носом, но поменьше.
Дети с ужасом внимают старому Барнгарле. (Даже у меня по коже начинают перебегать мурашки, и я переползаю поближе к кругу света.)
– Он не съел людей? – наконец отваживается промолвить маленький Каликулиа.
– Нет. Он подошел к большому озеру и стал пить, втягивая воду своим странным носом. Небесный костер погас, но они еще долго слышали поступь уходившего ямути. Это место за горами Витутла, где дед моих дедов и его дядя видели его, так с тех пор и называется Ямути-Итхапи. Наверное, этот провал возник оттого, что большой и тяжелый ямути все время проходил там, уминая землю своими толстыми ногами. Но нет ни того большого озера, ни тех широких рек.
– А где теперь прячется ямути? – спросил маленький Каликулиа.
Старый Барнгарла кладет в рот еще щепоть сухих листьев, смешанных с золой. Его глаза подергиваются дымкой, будто небесный костер вновь накрывает облако пыли, поднятое ямути. Я подаюсь вперед, чтобы услышать и увидеть ответ. Под рукой ломается сухая ветка смолистого дерева эвкалипта. Ее хруст отражается скалами Улуру. В тишине ночи кажется, что это не тонкая ветка надломилась, а целое дерево ударилось оземь.
Ребятишки вскакивают с криками «Ямути! Ямути!» – и разбегаются.
Лишь старый Барнгарла остается недвижен. Уже не скрываясь, я подхожу к нему. Он смотрит куда-то поверх моей головы. Я оборачиваюсь. В костре вспыхивает последняя непрогоревшая головешка. Она высвечивает длинный толстый сук, свисающий откуда-то из темноты ночного неба. Под ним поблескивают два широких белых выступа, словно он расщепился до самой сердцевины. Длинный сук извивается…
Травы повлияли на диатомовых, а диатомовые вместе с другим планктоном изменили многое в морских сообществах. Возможно, что и потепление в середине неогенового периода тоже случилось по вине этих одноклеточных. Ведь если кокколитофорид заменить диатомовыми, климат станет теплее, поскольку они меньше выделяют веществ, влияющих на облачность. Именно так и произошло в то время.
Кайнозойские наземные сообщества составили птицы и млекопитающие, способные поддерживать постоянную температуру тела. Ко времени появления человека на Земле существовала высокопродуктивная и устойчивая система, в которой биологические явления главенствовали над геологическими (физико-химическими). Ни изменения климата, ни метеоритные удары уже не могли прекратить ее существование.
Глава XIII
Планета обезьян
(конец неогенового и четвертичный период: 5 млн лет назад – современный период)
Никогда в своей истории человечество так не застревало на распутье. Один путь – безысходен и совершенно безнадежен. Другой ведет к полному вымиранию. Дай нам Бог мудрости, чтобы сделать правильный выбор… и вернуться домой к шести часам.
Вуди Аллен
Зачем нужны длинные носы? Кто умнее: обезьяна или человек? Неслучайная случайность. Произойдет ли человек от обезьяны?
«Тени забытых предков»
На сходство человека и обезьяны мало кто не обращал внимания. Но лишь Чарлз Дарвин в 1871 году отважился заявить, что человек не просто похож на обезьяну, а произошел от общих с ней предков. Идею горячо подхватил естествоиспытатель и оратор, побивавший на диспутах лучших английских политиков, Томас Генри Гексли. Он предрек, что, поскольку наиболее человекообразные обезьяны – горилла и шимпанзе – живут в Африке, переходное звено между обезьяной и человеком надо искать там.
В то время лишь из долины Неандера в Германии были известны древние останки человека, найденные в 1856 году. Теперь этого человека называют неандертальцем и считают отдельным подвидом или видом древних людей. А тогда светила немецкой науки посмотрели на свежеизвлеченный из шахты кусок черепа с очень толстой черепной крышкой и выпирающими надбровными дугами и заспорили. «Это череп русского казака, который гнался за отступающей армией Наполеона, забрел в пещеру и умер», – веско сказал доктор Роберт Юлиус фон Майер из Бонна. «Нет, этот череп принадлежал пожилому голландцу», – оспорил мнение коллеги доктор Мориц Фридрих Вагнер из Геттингена. А самый известный доктор – Рудольф Вирхов – подвел неутешительный итог разногласиям. Он отметил, что патологические изменения черепа вызваны рахитом, перенесенным его обладателем в детстве, а также старческим артритом и… несколькими хорошими ударами кружкой по голове.
Голландец Эжен Дюбуа ничего не ведал об этом споре, но, вдохновленный призывами Томаса Гексли, отбыл в 1893 году в Индонезию (там много диких орангутанов) и нашел кости примерно полмиллионолетней давности. Везение молодого преподавателя анатомии, до той поры никуда не выезжавшего, ничего не знавшего об ископаемых и не видевшего костных остатков, было невероятным. Чтобы совершить свой научный подвиг, он вступил в голландскую армию врачом, был отправлен на Суматру, подхватил малярию, перевелся в запас и выехал на Яву. Там он раскопал множество костей млекопитающих и очень крупный коренной зуб и черепную крышку примата. Она была чересчур низкой и толстой для человека, но слишком большой и округлой для орангутана. На следующий год обнаружилась бедренная кость. Свою находку Э. Дюбуа, разумеется, назвал обезьяночеловеком, по-гречески – питекантропом. Он был уверен, что это и есть недостающее переходное звено. По возвращению в Европу его вместо триумфа ждало разочарование. Научный мир решил, что он соединил черепную крышку обезьяны с бедренной костью современного человека. Он убрал свои кости и замолчал.
Между тем в Германии в 1907 году нашли челюсть человека с зубами, напоминавшими обезьяньи (человек из Гейдельберга). В пещерах Чжоукоудяня в Китае начиная с 1927 года были обнаружены останки 5 черепов, 15 частей от костей лица и черепа, 14 нижних челюстей и 152 зуба «пекинского человека» (синантропа). Среди слоев золы там оказалось и множество орудий из камня, костей и рогов животных. Спустя 40 лет последовали новые находки на Яве…
Тогда же, в начале 20-х годов, на юге Африки Реймонд Дарт, университетский профессор из Йоханнесбурга, обратил внимание на окаменелости, украшавшие каминную полку владельца каменоломни в Таунге. Дарт попросил хозяина пересылать ему новые находки. Среди них оказалась отливка мозга. (Так называют слепок мозговой полости, получившийся в результате заполнения ее породой.) На поверхности отливки были отчетливо (для опытного глаза) видны отпечатки извилин, борозд мозга и кровеносных сосудов. Понадобилось 73 дня, чтобы сначала долотом, а потом заточенной вязальной спицей очистить маленький череп от породы. Он был более округлым, чем обезьяний. На челюстях шестилетнего детеныша оказался полный набор молочных зубов. Большое затылочное отверстие, служившее для выхода спинного мозга, располагалось на его нижней стороне, а не ближе к затылку, как у шимпанзе и павианов. Значит, малыш ходил на двух ногах, выпрямившись. Р. Дарт написал статью о своем «беби из Таунга» и отправил ее в один из ведущих английских научных журналов. Ее немедленно опубликовали. Среди обывателей детеныш, названный южной обезьяной (греч. «австралопитек»), вызвал бурю восторга. Молодые люди приветствовали друг друга словами: «Что за девушка была с вами вчера? Она родом не из Таунга?»
А ученый мир упорно обходил интересную весть молчанием, поскольку ломал голову над пилтдаунской загадкой – остатками «человека зари» – эоантропа. (Ломать голову над двумя проблемами сразу ученым обычно не под силу.) После доклада в Лондоне расстроенный Р. Дарт забыл сверток с черепом в такси. Водитель сдал его в полицию, а там, обнаружив детские кости, едва не завели дело об убийстве…
Эоантропа вместе с древними окаменел остями раскопал в 1912 году близ городка Пилтдауна английский ученый-любитель Чарлз Доусон. В отличие от питекантропа и австралопитека, в которых не было ничего выдающегося, кроме челюсти, эоантроп обладал черепом с крупным сводом и маленькой челюстью. Конечно, с точки зрения чопорных европейских профессоров «джентльмен из Пилтдауна» казался более приемлемым переходным звеном. Ему был посвящен солидный труд «Первый англичанин». Лишь сорок лет спустя с помощью новых методов криминалистики и антропологии выяснили, что череп эоантропа принадлежал человеку современного типа, а нижняя челюсть, на которой спилили характерные бугорки на зубах, – заурядному орангутану. Зубы мастодонта, удревнявшие возраст находки, были позаимствованы то ли из африканской, то ли из южноамериканской коллекции ископаемых. Создатель фальшивки остался неизвестен.
Когда в Европе разоблачали пилтдаунский подлог, в Восточной Африке начинал свои выдающиеся изыскания английский антрополог-самоучка Луис Лики. В течение нескольких лет он и его жена Мэри обнаружили еще один вид австралопитека с такими мощными челюстями, что его назвали «щелкунчиком», а также древнейшие каменные орудия (Олдувайская культура) и человека, умело владевшего этими орудиями 1,8 млн лет назад («человека умелого»). Большинство остатков происходили из окрестностей озера Виктория в Танзании.
Семидесятые годы прошлого века были особенно богаты открытиями. Сын Лики Ричард нашел в Кении череп еще более древнего человека – «человека с озера Рудольф». Американский антрополог Дональд Джохансон раскопал в Эфиопии знаменитую «мисс Люси» (скелет изящной особы ростом 1 м 20 см), а вслед за ней и целое семейство афарских австралопитеков. Эти ископаемые увеличили возраст человека до 1,9 млн лет, а время происхождения человеческой ветви среди обезьян отодвинули до 4 млн лет. Наконец, в 1994 году неутомимые Лики – на сей раз Ричард с супругой Мив – вновь вблизи озера Туркана (так теперь называлось озеро Рудольф) докопались до челюсти австралопитека анамского, которому не меньше 4,1 млн лет. В том же году очередная американская экспедиция привезла из Эфиопии человеческую челюсть, и она состарила людской род на 2,5 млн лет.
Не успел как следует наступить новый век, а Лики все в той же Восточной Африке раскопали кениантропа. Он был современником древних австралопитеков, но обликом больше, чем они, походил на людей. Там же открыли несколько других прямоходящих обезьян возрастом около 6 млн лет. Непосильную загадку задал череп сахелантропа из Чада, обнаруженный местным студентом, ведь многие привыкли думать, что ранняя эволюция человека связана с саваннами, но в Чаде 7 млн лет назад стояли густые леса. А в Грузии Лео Габуния и Давид Лордкипанидзе разыскали несколько прекрасных черепов первых людей, выбравшихся за пределы Африки (1,75 млн лет назад). Весь ученый мир спорит о том, были ли они примитивными «прямоходящими» или потомками человека умелого? И как с объемом мозга в 600–770 см 3изобретали разнообразные орудия?