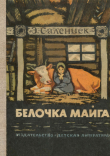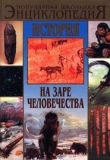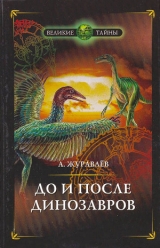
Текст книги "До и после динозавров"
Автор книги: Андрей Журавлёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Крылоящеры
Древнейшие остатки птерозавров («крылоящеров») известны из среднетриасовых слоев, которым более 220 млн лет. Тогда же, в триасовом периоде, попробовали полетать разные ящерицы. В среднетриасовых озерных отложениях Киргизии найдены не только сетчатокрылые насекомые с сохранившимся на крыльях рисунком, но и остатки первых позвоночных, попытавшихся взлететь. Маленький динозаврик-длинночешуечник ( лат.«лонгисквама»), перепрыгивая с одного дерева на другое, с треском раскрывал похожие на опахала спинные выросты, чтобы подольше продлить прыжок. Другой архозавр – шаровиптерикс («крылан Шарова»), – когда растягивал между лапами и телом все свои перепонки, был похож на маленький дельтапланчик. Североамериканский икарозавр («Икар-ящер») планировал на кожной складке, поддерживаемой удлиненными раздвинутыми ребрами.
Древнейшие птерозавры были размером с небольшую чайку, но уже приобрели все признаки прекрасных летунов. Скорее всего, они произошли от двуногих текодонтов, которые также дали начало динозаврам и птицам. Птерозавры господствовали в воздухе около 160 млн лет. Их известно около 120 видов.
Крыло птерозавра представляло собой кожистую перепонку. Она крепилась на одном из пальцев кисти. Этот толстый «летательный» палец превышал длину всего тела. Три других пальца оканчивались когтями. Обтекаемое тело переходило в длинный хвост, который подобно хвосту воздушного змея стабилизировал полет. Длиннохвостые птерозавры с короткой шеей называются рамфоринхами ( греч.«кривоносами»). Кости у них были полые; череп – легким и ажурным, по форме – заостренным и удлиненным. Мозг напоминал птичий и был крупнее, чем у прочих пресмыкающихся сходных размеров. Строение костей плечевого пояса выдает развитую мускулатуру и способность к машущему полету, как у птиц. Хотя перепончатые крылья напоминали таковые летучих мышей, общий план строения был скорее птичий. Перепонка не растягивалась между задней и передней конечностью и не имела сухожилия, натягивавшего ее задний край. Возможно, что необходимую упругость и форму перепонке придавали прошивавшие ее, словно дощатый каркас воздушного змея, жесткие белковые нити.
Гнездились рамфоринхи (и птеродактили) большими семьями, напоминавшими птичьи базары. Росли они медленно, как крокодилы, и поэтому до становления на крыло нуждались в уходе. Зубы у «птенцов» были притуплены, чтобы не поранить заботливых родителей во время кормежки. По мере взросления у них несколько раз выпадали и вырастали зубы, череп постепенно вытягивался, а челюсть изгибалась крюком. С такой челюстью уже можно было переходить на более крупную пищу.
По земле они передвигались на четырех конечностях (так лучше распределялась масса). Опирались на пятку. Их четырехлапые следы остались на иловых плоскотинах и песчаных косах, протянувшихся вдоль морских побережий и озерных долин. Вероятно, в мезозое такие места были столь же богаты пищей, как сейчас, и птерозавры возвращались на излюбленные пастбища. Питались они рыбой и насекомыми. На каком-то этапе своей эволюции они должны были обрести теплокровность, иначе бы энергозатраты на воздухоплавание не оправдались.
На отпечатках перепонок одного из позднеюрских рамфоринхов обнаружились волосовидные утолщения. Из-за них он получил гордое научное название «сордес пилозус», означающее в переводе с латинского – «нечисть волосатая». На деле «нечисть» оказалась лысой, поскольку за волоски приняли белковые волокна, укреплявшие перепонку.
Стандартная (рамфоринховая) модель успешно просуществовала 45 млн лет. (Сейчас для достижения господства в воздухе модели летательных аппаратов обновляются не реже, чем раз в три года.) На рубеже ранне– и среднеюрской эпох и появились короткохвостые с длинной гибкой (как у лебедей) шеей птеродактили ( греч.«крылопалец»). Шейные позвонки некоторых особей превышали в длину полметра. Подобно птицам первые 8 спинных позвонков у них срослись, а передние ребра неподвижно слились с грудиной, образуя жесткий каркас. К нему в полете был подвешен центр тяжести. У птеродактилей череп стал еще длиннее, но и легче (убавилось число костей), а главное – мозговитей. Крупный мозг с развитыми полушариями и глазными долями живо просчитывал изменения воздушной обстановки, что позволило избавиться от хвоста-стабилизатора. Мозг был упрятан глубоко в особую, наполненную воздухом полость, что предохраняло этот ценный орган при тряске в полете. Соотношение длинных узких крыльев и удлиненного облегченного тела позволяло даже крупнейшим птерозаврам парить в очень слабых восходящих потоках воздуха. Они подобно альбатросам пролетали сотни километров над морем в поисках рыбы или других птеродактилей. Более мелкие ящеры, словно чайки, чаще взмахивали крыльями, а совсем мелкие были достаточно быстры, чтобы преследовать летающих насекомых с их непредсказуемой траекторией полета.
Необычные гребни на головах птеродактилей покрывала сеть кровеносных сосудов. Здесь кровь охлаждалась во время полета. Они же служили как аэродинамические приспособления. Головы ящеров действительно напоминали по форме носы маневренных самолетов. Могли эти выросты использоваться и как гребешки у птиц, то есть для показа себя во всей красе во время брачных периодов, чтобы привлечь самку и отпугнуть соперника. Наибольшие гребни разрастались у самцов птеранодонов, которые вдобавок отличались более узким, чем у самок, тазом.
К началу мелового периода птеродактили достигли небывалого множества форм. Кетцалькоатль весил 75 (или даже 250) килограммов, имел в размахе крыльев около 12 м, а их площадь составляла 10 кв. м. Это было крупнейшее животное из всех, что когда-либо поднимались в воздух. Чтобы взлететь, кетцалькоатль должен был разогнаться до 16 м/с (скорость галопирующей лошади) или ждать попутного ветра той же скорости. Самые мелкие весили несколько десятков граммов и по величине не превосходили воробья. Различия в строении черепа и зубной системы зависели от пищи. Птеродаустро ( греч.«крыло» и «кружево»; 1,3 м в размахе крыльев) отцеживал планктон длинными, сильно выступающими за край клюва, часто как пластины у кита или у фламинго, посаженными зубами. Ктенохазма ( греч.«животное с щелями») перетирала его 360 гребневидно расположенными зубами. Анурогнат ( греч.«бесчелюстной»; 0,7 м в размахе крыльев) ловил насекомых. Беззубый птеранодон (до 7,5 м в размахе крыльев) и зубастый птеродактиль (0,6 м в размахе крыльев) предпочитали рыбу, а кетцалькоатль – болотную живность. Пурбекский ложкоклюв был размером с кондора (почти 2,5 м в размахе крыльев) и питался улитками, выхватывая их из тины многочисленными загнутыми, выступающими в стороны зубами. Он раскалывал их уплощенным, закругленным на конце и покрытым твердым роговым чехлом клювом.
Курица, не птица
Знаменитому археоптериксу ( греч.«древнекрыл») исполнилось 145 млн лет. Это было удивительное позднеюрское существо размером с сороку. Его перья напоминали птичьи. Но скелет был зубастый и когтистый, как у небольшого двуногого динозавра. Археоптерикс мог одинаково хорошо бегать по земле и лазать по веткам. Несмотря на прекрасную сохранность остатков археоптерикса, споры о его природе не прекращаются до сих пор.
Я, конечно, имею в виду не «догадку», что отпечатки перьев были нарочно оттиснуты на плите, склеенной со скелетом динозавра, подхваченную безграмотными журналистами и креационистами. Скелет этот не единственный. Среди восьми отпечатков перья видны на пяти наиболее полных. Из них всего один дал трещину, породившую слухи о подделке. Да и самой трещине намного десятков миллионов лет больше, чем любому существу, способному расколоть пресловутую плиту.
От журналистов и креационистов вернемся к нормальным людям. Одни считают археоптерикса переходным звеном между динозаврами и настоящими птицами. Другие полагают, что он дал начало лишь особым пернатым животным – энанциорнисам ( греч.«противоположные птицы»), вымершим к концу мелового периода. «Противоптицы» часто были весьма зубасты. Они плавали, бегали и, конечно, летали уже в начале мелового периода. Впрочем, тогда же в перья оделись не только настоящие (веерохвостые) и противоположные птицы, но и некоторые динозавры. (Среди мезозойских хищных динозавров разбросано много птичьих признаков, но ни один из них не приобрел полного набора.) Мода, наверное, была такая.
Настоящие птицы, возможно, ведут начало от существ, подобных протоавису ( лат.«первоптица»), размером с фазана. Он был на 75 млн лет постарше древнекрыла. Этот современник древнейших динозавров обитал в теплых позднетриасовых лесах. В его хвост заходил позвоночник, но череп был облегченный, с огромными глазницами и вздутой черепной коробкой. Развитый мозг управлял достаточно развитой нервной системой, обеспечивающей острое бинокулярное зрение, чувство равновесия и контроль над мускулами в прыжке. Зубы росли только в передней части челюстей, но и их хватало зоркому хищнику.
Вымирание птерозавров началось в середине позднемеловой эпохи, и к началу кайнозоя их не осталось. Как раз в это время птицы стали обживать привычные для птерозавров места обитания и, по-видимому, выжили их. В раннемеловую эпоху птицы в основном были небольшими древесными обитателями лесов. В середине мелового периода появились прибрежные рыбоядные коротконогие, с сильными крыльями птицы, напоминавшие современных чаек, но с загнутыми зубами в мощных челюстях. Возникли нелетающие водоплавающие и ныряющие виды размером от курицы до страуса (такую птицу из Франции назвали Гаргантюа), распространившиеся в позднемеловую эпоху в Северном полушарии. В Южном полушарии поплыли гагары. Плавающий и тем более ныряющий образ жизни был недоступен птерозаврам. Этим птицы и воспользовались в первую очередь. Со временем они освоили другие места обитания летающих ящеров, и последние птеродактили сохранились только как парящие формы. Лишь в парении птицы долго не могли превзойти своих отдаленных родственников.
Среди крылатых ящеров уже летали существа, похожие на современных куликов, бакланов и альбатросов. В середине палеогенового периода на Земле обитало много птиц, не встречающихся ныне. Но уже появились фламинго и стрижи, совы и журавли, зимородки и дятлы. К концу палеогенового периода существовали почти все современные семейства. Правда, жили они не там, где сейчас. Попугаи летали по Европе. (Подобно рыбам-попугаям их пернатые «однофамильцы» скусывают своим крепким крючковатым клювом ветки, но не кораллов, а деревьев.) Обитающие ныне в Австралии и Юго-Восточной Азии сорные куры бродили по Франции. Там же порхали лягушкороты и вышагивали нелетающие птицы, похожие на дрофу.
О птицах, конечно, хочется не сказки сказывать, а песни петь.
Правдивая песня про гадких лебедей
Высоко в небе, расправив крылья, метался Сокол и метил землю…
А по ущелью в тени и влаге полз Уж, и полз уж давно и долго…
Змею заметив, пал с неба Сокол и когтем острым Ужа коснулся…
Под камнем мшистым Уж схоронился, на камень сверху уселся Сокол…
– Рожденным ползать приветик с неба, – прощелкал Сокол загнутым клювом…
(Примечание переводчика: что прощелкал своим крючковатым клювом Сокол, доподлинно неизвестно. Изъяснялся он весьма скверно. Сокол всерьез считал, что он не попугай какой-нибудь, чтобы чужие слова повторять, и членораздельно говорить так и не научился.)
Уж знал, что Сокол, рожденный птицей, – родство забывший пернатый ящер;
Перо павлина и райской птицы, хвост петушиный и пух лебяжий – все чешуя лишь;
Сердца птиц гордых и крокодилов одну кровь гонят, перегоняют;
Встопорщить перья, поклацать клювом, гнездо построить и динозаврам под силу было…
Знал Уж, конечно, что сказки пишет лишь победитель… Но побежденный – хранитель правды.
– Послушай, бройлер… – Уж обратился. – Мою былину о покорителях небесной выси…
(Примечание переводчика: английское слово «бройлер» означает не только «жаркое», но также и «задира, забияка». Наверное, Уж, обращаясь к Соколу, имел в виду последнее значение. От задир и забияк обычно остаются рожки да ножки. Именно их покупают на рынке под названием «окорочка бройлерные».)
И Уж начал рассказывать:
– Когда-то, когда все материки были одним материком и омывались одним океаном, лет двести тридцать миллионов назад, а может быть, и больше, на Земле не было ни птиц, ни млекопитающих. Ходили по ней всякие ящеры. А в воздухе под пологом леса резвились только насекомые.
Каково было терпеть ящеру, который долго карабкался на дерево за какой-нибудь стрекозой или сетчатокрылой шестиногой тварью, а та из-под самого его носа – порх и перелетала на соседний ствол? И начинай все сначала: слезай, иди, залезай… И опять, и опять… Хоть головой вниз с этого самого дерева кидайся.
Одна маленькая ящерка так и кинулась. Но не разбилась. Складки кожи, свободно висевшие по бокам, растянулись между ее лапками, поддерживаемые ребрами, и она плавно приземлилась среди опавших листьев. Эту ящерицу, впервые совершившую прыжок-полет, прозвали Икаром-ящерицей, или Икарозавром. Много десятков миллионов лет спустя то же имя получил первый человек, оторвавшийся от земли.
Другая ящерица продлила прыжок, раскрыв по обе стороны тела длинные чешуи, гребнем торчавшие вдоль ее спины. Ее с тех пор так и именовали – «длинночешуечник».
– Чешуя – это все, – проклекотал Сокол. – Чтобы какая-то ящерица летала?! Ты еще скажи, что змея бегала…
– Когда-то и змеи бегали, – спокойно отвечал Уж. – Но слушай дальше. Прыжок, даже с парашютом, – это еще не полет. Другие ящеры начали планировать. Сначала они спланировали, что планировать лучше всего на перепонках…
– Летучие мыши, что ли? – перебил Ужа Сокол.
– Нет, – вразумил Сокола Уж. – Летучие мыши – это млекопитающие. Родственники тех двуногих зверей, которые вас, соколов, для охоты приспособили.
– Это еще не известно, кто кого куда приспособил, – совершенно по-куриному закудахтал Сокол. – Может, это мы их используем. Они нас поближе к месту охоты подносят. Шапочки для нас шьют.
– А дичь кому достается? – спросил мудрый Уж.
– Ну уж… – не нашелся Сокол.
– Так вот. У ящеров этих было множество зубов, каждый из которых сидел в своей ячейке. А если выпадал, ему на смену в той же ячейке вырастал новый зуб. И так продолжалось всю жизнь. Но суть не в зубах. Один мелкий ячеистозубый ящер отрастил перепонки, но не между пальцами передних конечностей подобно летучим мышам. У мелкого ящера перепонка тянулась от шеи к передним лапам, а от них вдоль всего туловища – к задним лапам и дальше – к хвосту. Он уже умел не только опускаться на землю, но и перелетать с дерева на дерево, минуя ветки.
– Подумаешь, – обиделся Сокол. – Я так тоже умею. Уж между тем рассказывал:
– Но самыми лучшими летунами в те времена были, конечно…
– Птицы! – не выдержал Сокол.
– Самыми лучшими летунами той поры, – не обратил на него внимания мудрый Уж, – были крылатые ящеры. Или просто крылоящеры. У них кожистая перепонка держалась на одном летательном пальце. Палец этот был намного длиннее и толще прочих. Он даже превышал длину тела. Первые крылоящеры были короткошеими существами с длинными хвостами. Зубастая челюсть у них загибалась крюком, и поэтому их называли «кривоносами».
– Это кто это тут кривонос? – опять закудахтал Сокол. – Ты на кого намекаешь?
– Крылоящеры-кривоносы, – не удостоил его ответом Уж, – воспарили над лесами, над морями и над океаном.
– Воспарить могут только птицы, – не унимался Сокол.
– А вот птицы, – продолжал свою правдивую историю Уж, – тогда не только не воспарял и, но и летали с трудом. Они лишь перепархивали с ветки на ветку. От ячеистозубых ящеров они отличались разве что перьями.
– Без перьев в небе, однако, прохладно будет, – высказался Сокол. И это была его единственная верная мысль.
– Крылоящеры обошлись без перьев, – не моргнул Уж и глазом.
– Я же говорил – летучие мыши! – не унимался Сокол.
– Летучие мыши, – втолковывал ему Уж, – произошли, как и все млекопитающие, не от ячеистозубых, а от совсем других зверозубых ящеров. И появились они, когда в небе уже ни одного крылоящера не осталось.
Показалось, что глаза Ужа подернулись влагой. Он шевельнул хвостом и снова заговорил:
– Вслед за крылоящерами-кривоносами народились другие – пальцекрылы. С длинной шеей и коротким хвостом. Клюв тоже был длинный, а часто и беззубый, как у настоящих птиц.
– Можно подумать, что бывают ненастоящие птицы! – опять заквохтал Сокол.
– Сейчас – нет. Но раньше были. Они так и прозывались «противоптицами». Начало им дал древнекрыл-археоптерикс…
– Дедушку не трогай! – как снесшаяся курица, продолжал кудахтать Сокол.
– Да не дедушка он тебе вовсе, – вразумлял его Уж. – Древнекрыл был зубастым мелким динозавром с мясистым хвостом. Хоть и в перьях.
– Раз в перьях – значит птица! – не унимался Сокол.
– Среди последних динозавров тоже много пернатых было, – заметил Уж. – И яйца они несли, и гнезда вили, и выступали, словно павы. Что ж, их тоже птицами считать? Просто разоделись тогда в пух и перья и настоящие птицы, и «противоптицы», и даже некоторые мелкие динозавры. У одного из них, кстати, перья только на передних лапах да на хвосте торчали. Как у индюка недощипанного…
– Хватит мне про индюков сказки сказывать! – возмущенно заклекотал Сокол и попытался когтистой лапой выковырнуть Ужа из-под камня. В это мгновение его покрытая внизу чешуей лапа и впрямь напомнила динозавровую. – Ты еще скажи, что те птицы и летать не умели.
– Среди «противоптиц» хороших летунов было немного. Они все больше плавали да ныряли. Не могли они в воздухе соперничать с крылоящерами. Вот крылоящеры-пальцекрылы изогнули свои «лебединые» шеи и полетели, так полетели. На двенадцать метров свои крылья в стороны размахнули и воспарили.
Сокол даже замер в растерянности, услышав о таком. Он перебрал в своем птичьем уме всех родственников. Все родственники – и орлы, и грифы, и кондоры – с трудом дотягивали в размахе крыльев до трех метров. Даже покойный дядюшка Аргентавис (аргентинская птица) и тот мог крылья всего на семь метров распластать. В два раза меньше, чем крылояшер этот.
– Ладно уж, ври про своих гадких лебедей дальше, – буркнул он невежливо.
– Крылоящеры-пальцекрылы гнездились обычно у самого синего моря-океана. То пикировали за рыбой, то волну носом взрезали, то ракушки клювом давили. А птицы сначала освоились в лесах. Но парить высоко в небе подобно крылоящерам-пальцекрылам птицы еще долго не могли.
Так закончил Уж свою быль.
С обиды Сокол пощелкал клювом, расправил крылья и вдаль умчался…
А Уж свернулся клубком на камне. Рожденный ползать, он помнил время, когда не птицы парили в небе…
Так или иначе, но во второй половине мелового периода по суше бегало больше млекопитающих, чем динозавров, а в небе можно было насчитать больше птиц (не ворон, конечно), чем птерозавров. Все было готово к началу кайнозоя.
Глава XI
Ответный удар
(позднемеловая эпоха – середина палеогенового периода: 99–55 млн лет назад)
Большому кораблю – большой айсберг.
Неотправленное сообщение капитана «Титаника»
Ударная наука. Как открыли и закрыли звезду-двойник у Солнца. Расцвет цветковых.
Катастрофа или беда?
В самом конце мелового периода произошло одно из крупнейших массовых вымираний за всю историю планеты. Вымерли свыше 70 % всех морских видов (включая всех ихтиозавров, мозазавров, плезиозавров, аммонитов и рудистов), последние динозавры и птерозавры и около половины видов наземных растений. Существенно упала численность, снизилось разнообразие планктона и всех, кто от него зависел. Сократилось количество костных рыб. Основательно были затронуты донные фильтраторы (мшанки, морские лилии, брахиоподы, устрицы и другие двустворки), а также некоторые улитки, шестилучевые кораллы и крупные фораминиферы. Брахиоподы, переносившие голод лучше двустворок, пострадали меньше своих соперников. Не особо пострадали детритофаги и поглощавшие их хищники (брюхоногие моллюски, донные фораминиферы).
После вымирания место рифов, построенных водорослями и животными, ненадолго заняли строматолиты. На суше временно возобладали папоротники и грибы. Выжившие виды буквально были подавлены – сократились в размерах. Сверлильщики заново учились бурить раковины. Ползающие и роющие беспозвоночные путались в своих следах. Почти не изменились лишь пресноводные сообщества, так как зависели от отмершей органики, которой вполне хватало. Поэтому выжили черепахи и полуводные архозавры (крокодилы и хампсозавры). Уцелела и почвенно-лесная пищевая цепочка, тянущаяся от листового опада, гниющей древесины, корней, ветвей и грибов. Их поедают простейшие, нематоды, кольчецы, улитки, насекомые, клещи, раки, многоножки и пауки, на которых охотятся мелкие «насекомоядные» земноводные, ящерицы и млекопитающие. В такой цепи слабо отражались временные перебои с урожаем.
Подобные явления могли бы произойти при ударе о Землю космического тела около 10 км в поперечнике на скорости 20 км в секунду. Произошел бы выброс энергии, в 10 тыс. раз превосходившей все современные атомные запасы. Взлетевшая пыль создала завесу для фотосинтетиков на несколько месяцев. Продуктивность плавающих водорослей резко упала. Попавшие в атмосферу сажа и пыль, отражая солнечные лучи, привели к похолоданию. За временным падением температуры последовал быстрый нагрев, вызванный «парниковым эффектом» от выделившихся водяных паров и углекислого газа (последствия вымирания водорослевого планктона). Начались лесные пожары. Когда все более-менее успокоилось, «созрел» необычайный урожай однотипных известковых микроскопических водорослей, вобравших не востребованные ранее питательные вещества. Они заметно сократили бы содержание растворенного углекислого газа, вызвав новое похолодание.
Изложенный событийный ряд отчасти подтвердился. Найден кратер и покровы выбросов. В пограничных мел-палеогеновых отложениях отмечается повышенное содержание редкого металла-иридия и других характерных для метеоритов элементов (платины, осмия). Встречаются зерна ударного кварца. Попадаются тектиты – охлажденные капли ударного расплава, выпавшие стеклянными, магнетитными и прочими микроскопическими шариками. Скопления сажи лесных пожаров в тысячи и десятки тысяч раз превышают обычный уровень…
Мел-палеогеновое вымирание не было единственным: раннекембрийское, позднеордовикское, позднедевонское и пермо-триасовое вымирания уже упоминались ранее. Если данные о разнообразии животных в прошлом представить в виде графика, получится длинная череда разновеликих пиков и провалов. Провалы означают, что заданный временной отрезок вымерло больше семейств, родов или видов, чем появилось. Как правило, подсчеты ведутся для семейств. (Уж больно много видов описано в малотиражной палеонтологической литературе, собрать которую никому не под силу.)
В подобном графике, составленном для последних 250 млн лет земной истории, увидели определенную закономерность – вымирания повторялись примерно каждые 26 млн лет. Это цифра настолько заворожила астрономов, вдохновленных прямым метеоритным попаданием в конец мезозоя, что они нагромоздили кучу предположений на тему смертельной периодичности.
Поскольку кометы Солнечной системы скопились в Облаке Оорта, нужен лишь часовой механизм с будильником пробуждающий и побуждающий эти космические тела на нетипичные действия. Например, Солнце можно представить двойной звездой с невидимым черным карликом. Он должен обращаться по вытянутой орбите, то удаляясь от Солнца, то подлетая к нему. Сближаясь, черный карлик делал бы свое черное дело, сталкивая кометы в направлении Земли. Эта звезда-невидимка и название получила соответствующее – Немезида, в честь греческой богини неизбежного возмездия. Можно вообразить, что за далеким Плутоном есть совсем далекая десятая планета. Плоскость орбиты планеты X периодически совпадает с областью кометного облака и вызывает в нем нарушения, ведущие все к тому же. Даже периодические изменения положения Солнечной системы относительно Млечного Пути, влияя на общее поле тяготения Галактики, способны вызвать отклонения кометных орбит.