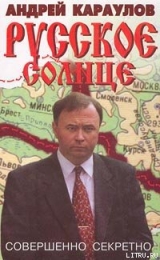
Текст книги "Русское солнце"
Автор книги: Андрей Караулов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
– С потолка, Иван Михайлович. Но это не вполне рубли.
– А что, если не рубли?
– Никто не знает.
Такой стол, конечно, может быть только в России: все с огорода, либо – из леса. Россия никогда не умрет от голода, потому что её главные богатства – не нефть, не золото и не уголь, а лес и река. Самое замечательное на русском столе – моченые яблоки, только никто не знает, когда их подавать: то ли как десерт, то ли как закуску.
– Рубль это рубль, – вздохнул Чуприянов, – в России царей не было, Романовых, а рубль – уже был… – слышите, да? Если это не рубль, значит, не пишите, что это рубль. Че людей дурить? Приватизационный талон… или… как?..
– …ваучер. У Гайдара человечек есть, Володя Лопухин, он и предложил назвать эту счастливую бумажку ваучером; словечко, конечно, непонятное, но грозное.
Чуприянов разлил «клюковку», а Катюша поставила на стол большую кастрюлю с борщом.
– Если на Западе вам заказывают отель, выдается специальный талончик – ваучер, – закончил Петраков.
– Черт его знает, – усмехнулся Чуприянов, – я в отелях не жил, только в гостиницах, но считать – умею. Сколько людей в России? Мильонов сто пятьдесят, – верно? Умножаем на сто рублей. Получается, вся собственность Российской Федерации, заводы, фабрики, комбинаты, железные дороги, порты, аэродромы, магазины… все, что есть у России… все это стоит… пятнадцать миллиардов, что ли? Послушайте, – а не мало? Они не ошиблись? У нас один «Енисей», вон он, на том берегу, тянет на миллиард, а если с полигоном, где Петька Романов, Герой Соцтруда, свои ракеты взрывает, и поболе будет…
Петраков взял рюмку.
– Что… они, демократы ваши, думают… после такого жульничества… власть удержать? Да я сам народ на улицы выведу!
Когда русский человек нервничает, в нем появляется какая-то угроза – обязательно!
– Ну хорошо, это все – пацаны, – заключил Чуприянов. – А Ельцин, Ельцин куда смотрит?
– Ну, Ельцин, как говорится, особый случай, – улыбнулся Петраков. – Но меня вот… да, благодарю вас, Иван Михайлович… меня вот что интересует: если случится чудо и в обмен на эти ваучеры ваши мужики все-таки получат акции Ачинского глинозема… как они себя поведут? Комбинат – хороший, имеет прибыль, значит, тот же Егорка вправе рассчитывать на свою долю, – верно? Как он поступит: будет ждать эту долю или тут же продаст свои акции к чертовой матери, причем дешево продаст, за бутылку?
Катюша разлила по тарелкам борщ, но Чуприянов не ел – он внимательно смотрел на Петракова.
– Если сразу не прочухает – продаст, – уверенно сказал Чуприянов.
– Так… – Николай Яковлевич согласно кивнул, – а если… как вы выразились, – что тогда?
– Тоже продаст. Станет моим ставленником, вот и все.
– Не понял, Иван Михайлович…
– А я его раком поставлю, что непонятного? Я что, дурак, что ли, такой завод Егорке отдавать? Пьянчужкам этим?
– Они – трудовой коллектив.
– Раз трудовой, пусть вкалывают. А с прибылью мы как-нибудь сами разберемся.
– Упрется Егорка, Иван Михайлович…
– Ишь ты! Так я ему такую жизнь организую, он тут же повесится, причем – с благодарностью, потому что здесь, в Ачинске, ему идти некуда, город маленький, без комбината – смерть. Но объясните мне, старому дураку, почему, если у нас государство вдруг сходит с ума, это называется реформами? Если государство не хочет покупать глинозем само у себя, если оно не хочет само распоряжаться своим собственным богатством – ради бога, пусть покупает глинозем у Чуприянова, я не возражаю! Разбогатею, по крайней мере! А вот если господин Гайдар отделяет наш комбинат от государства только потому, что он, Гайдар, не знает, что с нами делать, это, извините меня, в корне меняет дело, – слышите, да? Если Гайдар не хочет, чтобы я требовал у него деньги на новую технику, пусть не надеется: модернизировать комбинат из своего кармана я не буду, я, извините, жадный! Я всю прибыль оставлю себе, отправлю её куда-нибудь в офшоры, потому что я не верю Гайдару, я… момент ловлю, как Гайдар подарил нам комбинат, так он его и отнимет… так же легко, вот в чем фокус! Дураком надо быть, чтобы не поймать момент! Дураком надо быть, чтобы верить Гайдару! Вы на его рожу посмотрите: мальчишка, маменькин сынок, несерьезный тип. Нет уж, Николай Яковлевич, я выгребу из комбината все, что можно, сам скуплю его акции… для начала… потом приеду к вам, в Москву, и скажу: ей, правительство, деньги давай, нет у нас денег на бетономешалки, дорогие они! Ты, правительство, решай: или – деньги, или Россия без глинозема останется, – извините!
Петраков спокойно доедал борщ, намазав маслом кусочек черного хлеба.
– Но если по уму, Иван Михайлович, деньги все-таки надо вкладывать в производство, в комбинат, – наконец сказал он.
– А я не верю Гайдару! Я знаю директоров: Гайдару никто не поверит! Он на нас с Луны свалился, понимаете? И с приватизацией ничего не выйдет, будет сплошное воровство – воровство директоров, вот что я скажу!
Никто не заметил, как появился Егорка. Сняв шапку, он мялся в дверях.
Чуприянов и Петраков молча выпили по рюмке, молча закусили маслятами. Русские люди – молодцы: никто в мире не додумался отмечать водку солеными грибками, а пиво пить с воблой, – никто!
– На самом деле по глинозему решения пока нет, – сказал Петраков. – Зато алюминий будет продан.
– Какой алюминий? – Чуприянов поднял голову. – Наш?
– Красноярский алюминиевый завод, Иван Михайлович.
– Так он крупнейший в Союзе!
– Потому и продают. Купит, говорят, некто Быков. Сейчас – учитель физкультуры где-то здесь, в Назарове.
– Сынок чей-нибудь?
– Нет. То есть чей-нибудь – наверняка. Ему лет двадцать пять. Или двадцать.
– А куда нынешнего?
– На тот свет, я думаю. Если будет сопротивляться.
Петраков тщательно вытер губы бумажной салфеткой и выразительно поглядел на большую сковородку, где лежали куски хариуса.
– Кто первый схватит, тот и сыт, Иван Михайлович… вот вам – новая национальная идея.
– Значит, – разозлился Чуприянов, – и ко мне придут, – верно?
– Приватизация будет кровавой, – кивнул головой Петраков.
За окном только что было очень красиво, светло и вдруг все почернело – мгновенно. Так откровенно, так нагло ночь побеждает только в Сибири. Зимой в Сибири нет вечеров, есть только день и ночь.
– Какая глупость: акции должны быть именные! – взорвался Чуприянов. – С правом наследия! Без права продажи!
– Может быть, – согласился Петраков, – но Гайдар убежден: именные акции – не рыночный механизм.
– Плевать на Гайдара, прости господи! Ведь будут убивать!..
– Очевидно, Гайдар считает, что на рынке должны убивать.
Чуприянов вздрогнул:
– Но это – не колхозный рынок! Это – вся страна! Вы… вы понимаете, что начнется в России?..
– Понимаю, – утвердительно кивнул Петраков, – что ж тут непонятного? Я только сделать ничего не могу. Я теперь никому не нужен, Иван Михайлович.
– Все мы, похоже, теперь не нужны!.. – махнул рукой Чуприянов.
– Да, пожалуй, так…
Ночь, ночь была на дворе, а время – седьмой час…
Егорка закашлялся. Не специально, просто приперло.
– Тебе чего? – оглянулся Чуприянов.
– Мы, Михалыч, работать боле не бум, – твердо сказал Егорка. – Обижены мы… сильно обижены, Михалыч!
– В сенях подожди, – приказал Чуприянов. – Вызову!
– Но если, Михалыч, кто на тебя с ножом пойдет, – спокойно продолжал Егорка, – ты, Михалыч, не бзди: за тебя весь народ встанет, я дело говорю!
– Сиди в сенях, – не понял? – разозлился Чуприянов. – Аппетит портишь!
Петраков засмеялся:
– Запомни, Егорка, в России на обиженных воду возят!
Егорка вытянул губы и совсем по-детски взглянул на Чуприянова:
– Я за баню, Михалыч, обижен, я ж не за себя, пойми по-людски!
Петраков сам положил себе кусочек хариуса и вилкой аккуратно содрал аппетитную кожицу.
– А пацан этот, Быков, – Егорка повернулся к Петракову, – сейчас учитель, што ль?
– Учитель физкультуры.
– А будет директор?
– Ну, управлять заводом должны управленцы, а он будет хозяином, так я думаю.
– Значит, рабство вводится? – Егорка удивленно посмотрел на Петракова.
– Так во всем мире, Егорка, – улыбнулся Петраков.
– А мне по фигу, мил человек, как во всем мире, – у нас вводится?
– Вводится, – кивнул головой Петраков.
– А зачем?
– Чтоб лучше было, – процедил Чуприянов.
– Кому лучше-то, Михалыч? Кому?
– Чё пристал? Чё пристал, сволочь?!
Чуприянов потянулся за рюмкой.
– Я… в общем… в Эфиёпах не был, – не унимался Егорка, – но сча у нас – не рабство, я ж на Михалыча… вот… анонимку могу послать, и её разбирать будут, – какое ж это рабство? А у физкультурника… у этого… на работу нас строем гнать будут, это ж факт! У него, у сосунка, деньжищи откеда? Это ж с нас деньжищи! С палаток… там, где я пиво беру, с рынка… А, можа, зазевался кто, дороги-то на Красноярьи вон каки широкие, хотя я свечку не держал, напраслину взводить не буду, нехорошо это. Но я назаровских знаю, – от физкультуры от ихней прибыль, видать, есть, а в школах, звеняйте, чтоб завод купить, таки деньги не плотют…
Егорка опасался, что его не поймут; для убедительности он перешел на крик, размахивал руками и остановиться уже не мог.
– А ващ-ще, мил человек, – Егорка косо взглянул на Петракова, – когда эти товарищи к власти придут, они ж на нас свою деньгу отрабатывать будут, на ком же еще?
– Так и сейчас несладко, – вставил Петраков.
– Несладко, да, – согласился Егорка, – но беды нет, нет беды, счас мы – не говно, а будем говно, точно говорю! Погано живем, скучно, Москву не видим, – все верно! Только деньги у нас, слава богу, никто не отымает, Михалыч – директор с характером, но мы с ним договориться могём; у него совесть есть, авторитет, а если пацаны эти… назаровские… к власти придут, они все у нас выгребут, все до копейки, они нам вощ-ще платить не будут, тока на хлеб и воду, как в Освенциме, шоб мы не загнулись и на работу ходить могли! Не люди мы станем без денег-то, – слышите? Затопчут нас так, что нам самим стыдно станет, то-ка и не спросит нас никто, потому как страна эта будет уже не наша! Я, – Егорка помедлил, – можа, конечно, и не то говорю, люди мы маленькие, в лесу живем, но если назаровские, мил человек, у вас завод покупают, это вы там в Москве с ума посходили; это я кому хошь в глаза скажу, а Горбачеву – в морду дам, если встречу! Чё вы к нам в Сибирь лезете, а? Чё вам неймется-то? Мужики в сорок первом… с Читы, с Иркутска… не для того Москву защищали, чтобы она счас для Сибири хуже немцев была! А Ельцину я сам письмо накатаю, хоть отродясь писем не писал, – упряжу, значит, шоб назаровских не поддерживал, ему ж самому потом противно будет! Так вот, Михалыч, – мы правду любим! В России все правду любят! И баньку строить – не будем, неча нас обижать, а если я вам обедню испортил, так звеняйте меня!..
Егорка с такой силой хлопнул дверью, что Катюшка – вздрогнула.
– А вы, Иван Михайлович, его на галеры хотели, – засмеялся Петраков. – Да он сам кого хочешь на галеры отправит!
Чуприянов не ответил. Он сидел опустив голову и сжимая в руке пустую рюмку.
26
– Андрюха! Козырев! Ан-дрю-ха!..
Андрей Козырев выглянул в коридор:
– Чего?
– Андрюха, где документ?
Внешне Шахрай был спокоен, даже если он волновался.
– Какой?
– Тот, что вчера утрясали. Про СНГ.
Козырев насторожился:
– Машинистке под дверь засунул. Ночь же была!
– Машинистке?
– Ей…
Шахрай развернулся и пошел в конец коридора.
– Что случилось-то? – Козырев схватил рубашку. Он был в модных спортивных штанах и в домашних тапочках на босу ногу.
– Бумага исчезла.
– Как исчезла?!
– С концами.
– Но через час подписание!..
– В том-то и дело…
Коридор был какой-то неуклюжий, кривой и очень темный. Коммунисты не умели строить приватные резиденции.
– А бумажка, поди, уже у Горбачева…
– Чисто работают, – заметил Шахрай. – Хоть бы ксерокс оставили…
В окружении Президента России Бурбулис и Шахрай были, пожалуй, единственными людьми, которые не боялись Ельцина. Однажды, когда Ельцин провалил на съезде депутатов какой-то вопрос, Шахрай, публично, с матом, объяснил Ельцину, что он – осел, Ельцин простил.
Навстречу шел Коржаков:
– Ну?
– Ищем, – сказал Шахрай.
– А чё искать… – скривился Коржаков, – сп….ли – эх! Не уследили…
Странно, но Коржаков при Козыреве стеснялся ругаться по-матери.
Ночью, за ужином, Кравчук предложил выкинуть из договора «О Содружестве Независимых Государств» слова о единых министерствах, о единой экономике, то есть уничтожил (хотя это и не декларировалось) единое рублевое пространство. Рубль был последним якорем, на котором мог стоять Советский Союз (даже если бы он назывался – отныне – Содружеством Независимых Государств). Ельцин не сопротивлялся, только махнул рукой: он устал и хотел спать.
Гайдар вписал в договор те изменения, которые продиктовал Бурбулис. После этого Козырев (его никто не просил) отнес окончательный вариант договора в номер, где жила машинистка Оксана. Время было позднее, Козырев сунул текст в щелочку под дверью и прикрепил записку, что этот текст к утру должен быть отпечатан набело.
Оксана плакала. Она уверяла, что под дверью – ничего не было. Полковник Просвирин, который проверил весь номер и лично залезал под кровать, ничего не нашел – только пакет от дешевых колготок.
Козырев волновался: статус министра иностранных дел не позволял ему ломиться среди ночи в женский номер (Козырев всегда был очень осторожен), но о каких приличиях может идти речь, если решается судьба страны!
– Вот дверь, – горячился Козырев, – Вот тут – я! И вот так – сунул!
– Вы ежели… что суете, Андрей Владимирович… – советовал Коржаков, – надо сувать до упора. А если краешек торчит – кто-нибудь сбалует и дернет!
– Разрешите доложить, товарищ полковник? – Просвирин подошел к Коржакову. – Машинистка не здесь живет. Машинистка Оксана.
– Как не здесь? А здесь кто?
Коржаков грохнул по двери кулаком. Из-за неё вылезла лохматая голова старшего лейтенанта Тимофея, охранника Ельцина, отдыхавшего после ночного дежурства.
– Слушаю, товарищ полковник!
– У тебя на полу ниче не было? – нахмурился Коржаков.
– Никак нет, – испугался Тимофей. – Ничего недозволенного. Чисто у нас.
– А бумаги под дверью были?!
– Какие бумаги?
– Обычные листы, почерк похож на детский, – подсказал Козырев.
– Ну? – нахмурился Коржаков.
– Так точно, товарищ полковник! Валялось что-то.
– Где они?
– В туалете, – оторопел Тимофей. – В корзинке. Я думал – шалит кто…
– Хорошо не подтерся, – нахмурился Коржаков. – Тащи!
Мусорное ведро опрокинули на кровать. Черновик «Беловежского соглашения» был тут же найден среди бумажек с остатками дерьма.
– Эти, што ль?
– Они, – кивнул Тимофей.
– Спасибо, товарищ, – улыбнулся Козырев.
…Подписание договора было намечено на десять часов утра. В двенадцать – праздничный обед, в пять – пресс-конференция для журналистов, вызванных из Минска. В старом доме не было парадного зала. Торжественный акт подписания документов Шушкевич предложил провести в столовой. Офицеры охраны сдвинули столы, а белые скатерти заменили на протокольное зеленое сукно.
Стрелка часов катилась к десяти.
Перед подписанием Ельцин пригласил к себе Кравчука и Шушкевича – выпить по бокалу шампанского.
– Мы… много пока не будем, – сказал Кравчук. – А опосля – отметим!
Они чокнулись.
– Зачем ты Бурбулиса держишь? – начал разговор Кравчук.
– А шта… по Бурбулису? – не понял Ельцин.
– Гиена в сиропе – вот твой Бурбулис.
– Он противный, – кивнул Ельцин и отвернулся к окну. Было ясно, что говорить не о чем.
– Может, пойдем? – спросил Кравчук.
– Куда? – не понял Ельцин.
– Так подпишем уже…
– Подпишем… Сейчас пойдем…
Ельцин встал – и тут же опустился обратно в кресло. Ноги – не шли.
– Пойдем, Борис…
– С-час пойдем…
– Ты, Борис, как сумасшедший трамвай, – не выдержал Кравчук. – Што ты нервничаешь, – ты ж Президент! Сам робеешь, и от тебя всем робко… нельзя ж так!
Ельцин смотрел куда-то в окно, – а там, за окном, вдруг поднялась снежная пыль – с елки, видно, свалился сугроб.
– Надо… Бушу позвонить, – наконец выдавил он из себя. – Пусть одобрит, понимашь!
Часы пробили десять утра.
– А что… – мысль, – сразу согласился Кравчук.
– Зачем? – не понял Шушкевич.
– Разрешение треба, – пояснил Кравчук.
Погода хмурилась; может быть, поэтому комната, где находились президенты, напоминала гроб: потолок был декорирован красным деревом с крутыми откосами под крышей.
– Здесь когда-нибудь сорганизуют музей, – заулыбался Шушкевич. – Отсюда пошла новая жизнь…
– Ну, шта… позвоним?
– Сейчас десять, там… значит….
– Разница восемь часов, – сказал Ельцин. – Не надо спорить.
– Плюс или минус? – уточнил Шушкевич.
– Это – к Козыреву. Он знает, понимашь. Специалист.
Шушкевич выглянул в коридор:
– Козырев есть? Президент вызывает.
За дверью были все члены российской делегации.
– Слушаю, Борис Николаевич, – тихо сказал Козырев, слегка наклонив голову.
– Позвоните в С-ША, – Ельцин, кажется, обретал уверенность, – и… найдите мне Буша, – быстро! Я буду говорить.
– В Вашингтоне два часа ночи, Борис Николаевич…
– Разбудим, понимашь…
– Не, наседать не надо, – остановил Кравчук.
– Правильно, правильно, – поддержал Шушкевич. – Америка все-таки.
– Спросонья человек… Сбрехнет что-нибудь не то…
– Да? – Ельцин внимательно посмотрел на Кравчука.
– Ага, – сказал Кравчук. – Переждем. Пообедаем пока.
– Отменяем! – махнул рукой Ельцин. – Пусть спит.
Козырев вышел так же тихо, как и вошел, словно боялся кого-то спугнуть.
– Может, в домино… – как? – предложил Шушкевич. Тишина была очень тяжелой – пугающей.
– Состояние такое… будто внутри… у меня… все в говне, – медленно начал Ельцин. – Понимаешь, Леонид? И сердце в говне… и все… Хотя… – Ельцин помедлил, – объявим новый строй – воспрянут люди, ж-жизнь наладится…
– Любопытно, конечно, какой станет Россия, – тихо сказал Шушкевич, устраиваясь у окна.
– Коммунистов – не будет, – поднял голову Ельцин. – Обеш-шаю.
– А комсомол, Борис Николаевич?
– Ну-у… – в голосе Ельцина мелькнуло удивление, – шта… плохого, комсомол? Но иначе, я думаю, назовем, ш-шоб аллергии не было… Как, Леонид?
– А Ленина куда? – вдруг спросил Кравчук. – Идеологию – понятно… а Ленина? Нельзя сразу!
– Я Ленина не от-дам, – твердо выговорил Ельцин. (Когда Ельцин злился, он выговаривал слова очень твердо, по буквам.) – Кто нагадит на Ленина, понимашь, от меня получит!
– Чё тогда Дзержинского сломали? – удивился Кравчук.
– Ты, Леонид, не понимашь… понимашь, – Ельцин поднял указательный палец. – Это – уступка. Населению.
Кравчук прищурился:
– И часто ты… бушь уступать?
– Я?
– Ты, Борис, ты!
– Ни-ког-да, – ясно?
– Тогда что такое демократия? – сощурился Кравчук.
– А это когда мы врагов уничтожаем, но не сажаем их, – разозлился Ельцин. – Хотя кое-кого и надо бы, конечно…
Советский Союз все ещё был Советским Союзом, а Президент Горбачев оставался Президентом, только потому, что Президент Соединенных Штатов Джордж Буш – спал.
После обеда Ельцин ушел отдыхать, Кравчук и Шушкевич вышли на улицу.
Ветер был невыносимый, но Кравчук сказал, что он гуляет в любую погоду.
– А если Буш нас пошлет? – вдруг тихо спросил Шушкевич. – А, Леонид Макарыч? Скажет, что они Горбачева не отдадут, – и баста!
– Не скажет! – отмахнулся Кравчук. – Гена, который гиена… все там пронюхал. Его человечек ко мне ещё с месяц назад подсылалси… Много знает, этот Гена, – плохо. Они ж… с Полтораниным… как думали? Посадят папу на трон, дадут папе бутылку, привяжут к ней и ниточки будут дергать…
– А не рано мы… Леонид Макарыч, – как?
– Что «рано»? – не понял Кравчук.
– С СНГ. Людёв мало, идей – мало, папа – за Ленина схватился… А если – провели? Вот просто провели?..
– Кого?
– Гену этого! И черт его знает, что еще… Верховный Совет скажет…
– А ты шо ж, считашь, рано мы к власти пришли? – поднял голову Кравчук.
– Ну, не рано… только…
– Шо «только», – шо?
– Не, ничего…
– Ничего?
– Ничего…
Кравчук хорошо чувствовал Ельцина, его стихийную силу. Он был абсолютно уверен, что Ельцин не подпишет соглашение об СНГ (испугается в последний момент). Еще больше, чем Кравчук, этого боялся Бурбулис: новая, совершенно новая идеология возможна только в новом, совершенно новом государстве. Ельцин не мог быть преемником Горбачева, – поэтому Бурбулис и уничтожал Советский Союз.
Точнее – уже уничтожил.
Президент России проснулся около шести: выспался.
– Коржаков!.. Коржаков! Куда делся?!
Коржаков был за дверью – ждал.
– Слушаю, Борис Николаевич.
– Позвоните Назарбаеву, – Ельцин зевнул. – Пусть подлетает, понимашь.
– Не понял, Борис Николаевич? Куда подлетает?..
– Вы… вы ш-та?.. – Ельцин побагровел. – Вы шта мне… дурака строите? К нам подлетает. Сюда. Прям счас!
«Будет запой», – понял Коржаков.
– Назарбаев – мой друг! – твердо сказал Ельцин.
– Сейчас соединюсь, Борис Николаевич.
Когда Коржаков вышел, на него тут же налетел Бурбулис:
– Что, Александр Васильевич?
– Требует Назарбаева.
– Сюда?
– Сюда.
– Началось?..
– Началось, да…
– Послушайте, он же… не пианист, чтобы так импровизировать… – а, Александр Васильевич?.. Игнорируя мнение соратников.
– Не любите вы Президента, – вдруг сощурился Коржаков. – Не любите, Геннадий Эдуардович…
Объясняться с бывшим майором КГБ Бурбулис считал ниже своего достоинства.
Быстро подошел Шахрай:
– Капризничает?
Бурбулис смотрел как слепой – непонятно куда.
– Приказал вызвать Назарбаева, – доложил Коржаков.
– Это – конец.
Шахрай никогда не повышал голоса.
– Лучше уже Горбачева… – промямлил Бурбулис.
– Надо отменить, – твердо сказал Шахрай.
– Не-э понял?
– В Вискулях нет ВЧ. Мы же не можем звонить по городскому телефону.
– А как он с Бушем собрался разговаривать? – удивился Бурбулис. – Через сельский коммутатор, что ли?
Шахрай внимательно посмотрел на Коржакова:
– Как состояние.
– Нормальное.
– Да не у вас, – у него как?
– Темнеют глаза. Похоже – начинается.
– Надо успеть, – Шахрай резко взглянул на Бурбулиса.
– Зачем? – удивился Бурбулис. – Если начнется – точно успеем…
– Ждем?
– Конечно…
Тишина превращалась в кошмар, тишина издевалась.
«Православный неофашизм», – подумал Шахрай.
Они все – все! – всё понимали.
Шахрай и Бурбулис молча ходили по коридору – бок о бок…
Когда приближался запой, Ельцин ненавидел всех – и все это знали.
Молча вошел официант, на подносе красовался «Мартель».
– Это за-ч-чем? – сжался Ельцин. – Я шта… просил?
– От Станислава Сергеевича, – официант нагнул голову. – Вы голодны, товарищ Президент.
Не сговариваясь, Коржаков и Бурбулис посмотрели на часы. Они знали, что между первым и вторым стаканом проходит примерно восемь-двенадцать минут, потом Ельцин «впадет в прелесть», как выражался Бурбулис, то есть все вопросы надо решать примерно на двадцатой минуте, не позже, пока Президент не оказался под столом.
«Не пить, не пить, – повторял Ельцин, – потом, я… потом… опаз-зорюсь, – па-а-том…»
Волосы растрепались, белая, не совсем чистая майка вылезла из тренировочных штанов и висела на Президенте, как рубище.
Ельцин поднялся, он вдруг почувствовал, как ему тяжело, что он задыхается, что здесь, в этой комнате, нечем дышать. Он схватился за стену, толкнул дверь и вывалился в коридор. За дверью был Андрей Козырев. Увидев мятого, грязного Ельцина, Козырев растерялся:
– Доброе утро, Борис Николаевич…
Ельцин имел такой вид, будто он только что сошел с ума. Он посмотрел на Козырева, вздрогнул и тут же захлопнул за собой дверь.
Смерть?.. Да, смерть! Рюмка коньяка или смерть, третьего нет и не может быть, если горит грудь, если кишки сплелись в каком-то адском вареве; хочется кричать, схватить себя и задушить, – или выпить, пиво, одеколон, яд, неважно, лишь бы был алкоголь.
«Сид-деть… – приказал себе Ельцин, – си-деть…»
Он застонал. Холодный пот прошиб Президента России с головы до пят: удар был настолько резким, что он сжался, как ребенок, но не от боли – от испуга; ему показалось, что это конец.
Так он и сидел, обхватив голову руками и покачиваясь из стороны в сторону.
«Не пить, не-э пить… пресс-конференция, нельзя… не-э-э пить…»
Ельцин встал, схватил бутылку, стал наливать стакан, но коньяк проливался на стол. Тогда он резко, с размаха поднял бутылку, мельком взглянул на неё и припал к горлышку.
Часы пробили четверть шестого.
Ельцин сел в кресло и положил ноги на журнальный столик. Бутылка коньяка стояла рядом.
…Потом Коржаков что-то говорил, что Назарбаева нет в Алма-Ате, что он, судя по всему, летит в Москву на встречу с Горбачевым, что Бурбулис нашел в Вашингтоне помощников Буша и Президент Америки готов связаться с Президентом России в любую минуту, – Ельцин кивал головой и плохо понимал, что происходит.
В голове была только одна мысль – выпить.
Америка предала Горбачева сразу, не задумываясь, в течение одного телефонного разговора. Буш просто сказал Ельцину, что идея «панславянского государства» ему нравится, и пожелал Президенту России «личного счастья».
Тут же, не выходя из комнаты, Ельцин подмахнул договор об образовании СНГ, ему дали выпить и отправили спать – перед пресс-конференцией.
Встреча с журналистами состоялась только в два часа ночи – Президента России не сразу привели в чувство.
«Протокол» допустил бестактность: Ельцин сел во главе стола, слева от него, на правах хозяина, водрузился Шушкевич, справа оказался переводчик, а рядом с переводчиком – Кравчук. Невероятно, но факт: Бурбулис и Козырев убедили всех, что если президенты всех трех стран будут говорить только по-русски, это – неправильно. Но Кравчука никто не предупредил, что он будет от Ельцина дальше, чем Шушкевич, на целый стул! Кравчук схватил флажок Украины, согнал переводчика, сел рядом с Ельциным и поставил флажок перед собой.
Пресс-конференция продолжалась около тридцати минут: оказалось, говорить не о чем.
На банкете Ельцин пил сколько хотел и в конце концов – упал на ковер. Его тут же вывернуло наизнанку.
– Товарищи, – взмолился Кравчук, – не надо ему наливать!
Поймав издевательский взгляд Бурбулиса, Президент суверенной Украины почувствовал, что он ущемляет права гражданина другого государства, тем более – его Президента.
– Или будем наливать, – согласился Кравчук. – Но помалу!








