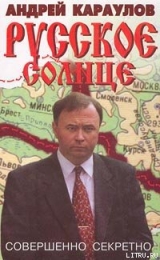
Текст книги "Русское солнце"
Автор книги: Андрей Караулов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Горбачев засмеялся.
– Правда такой герб? – всплеснула руками Раиса Максимовна.
– Я им объясняю, – Горбачев налил себе коньяк, – нельзя искать вкус в говне. Что ты думаешь? Не верят! Я упразднил восемьдесят министерств, то есть шестьдесят пять тысяч чиновников пошли к черту накануне зимы… – все как Ельцин хотел. А в ответ, я это так расценил, Минфин России закрывает счета для вузов союзного подчинения! Гена Ягодин, министр, звонит: будет, мол, «Тяньаньмэнь»! И правда дошутимся… На Госсовете уперлись в бюджет: до конца года надо, хоть умри, тридцать миллиардов. Ельцин – в позу: «Не дам включить печатный станок!» Явлинский ему и так и сяк… «Н-нет, – кричит, – ваши деньги вообще ничего не стоят!» Вызвали Геращенко, он разъясняет: денег в Госбанке нет, а государство не может без денег. «Не дам, и все!» – рычит Ельцин. Еле-еле уговорили его пока не разгонять Министерство финансов; кто-то ж должен распределять деньги, если мы их найдем! «Ладно, – говорит, – пусть живут до первого декабря!» Я, значит, переполняюсь гневом. А он… то ли водкой правда оглоушен, то ли ещё что, но оглоушен здорово, надолго. Он все время, скажу тебе, на грани срыва, значит, не забыл, сукин сын, что двадцать пять миллионов людей за него вообще не пришли голосовать! Его ж выбрали сорок миллионов из ста трех!
Раиса Максимовна качнула головой:
– Сорок миллионов идиотов… Сорок миллионов!
– Ты пойми, почувствуй, – Горбачев опять оживился, – если союз государств не сделаем мы, его сделают они! Соберутся где-нибудь подальше от Москвы, перепьются вусмерть и тут же, по пьяной роже, бабахнут: славянский союз! Президентом станет Ельцин, это факт, хотя у Кравчука амбиции царские, Кравчук – тоже гетман, только наоборот: Богдан Хмельницкий в Россию хотел, а Кравчук рвется из России, я ж вижу! Тут же новую карту нарисуют, народу хлеб и мясо пообещают. Ельцин уже заявил, например, что Гайдар в декабре отпускает цены. Так Явлинский, я скажу, Григорий чуть не упал! Что будете делать, спрашивает, если народ на улицы выйдет? Все молчат, и Ельцин молчит. Короче, так: додержаться, додержаться надо, это я имею в виду как конечную цель. Вина хочешь?
…Что, что случилось с Раисой Максимовной, почему вдруг именно сейчас, в эти минуты, она остро, до боли ощутила, что все, о чем говорит Горбачев, это конец, даже не конец, хуже – это падение?.. Ей всегда нравилось думать, что он – великий человек, она любила эту мысль и не желала с ней расставаться. Она понимала, что в конце XX века, накануне нового столетия, любой человек, если он не круглый идиот, конечно, сделал бы, окажись он, по воле истории, Генеральным секретарем ЦК КПСС, то же самое, что сделал Горбачев. Советский Союз гнил, угроза голода стала абсолютной реальностью, выход был только один – реформы. Теперь – все, конец. Бесславие…
Раиса Максимовна смотрела на Горбачева с болью, свойственной матерям, которые вдруг перестают понимать своих взрослых детей.
– Тебе не кажется, Миша, если у нас не получилось до сих пор, это не получится уже никогда?
Горбачев поднял глаза:
– Ты о чем?
– У нас начался путь на Голгофу, Миша. У нас с тобой.
– А мне наплевать, – махнул рукой Горбачев, – раньше надо было уходить, раньше! Помнишь, что ты тогда говорила? А сейчас – стоять до конца, стоять, хотя скольжение будет, это факт.
Горбачев вдруг сощурился и улыбнулся:
– Я упрямый хлопец, ты ж знаешь…
Стало грустно.
– Да, конечно. Нельзя останавливаться, Миша, не то время. Помнишь, Мераб говорил: есть смерть и есть – мертвая смерть.
– Мераб, да…
(В Московском университете однокурсником Горбачева был один из величайших философов второй половины XX века Мераб Константинович Мамардашвили. В общежитии МГУ Мамардашвили и Горбачев пять лет жили в одной комнате, что, впрочем, не помешало Михаилу Сергеевичу забыть великого грузина в годы его опалы.)
– Мераб… как он, ты не знаешь?
– Он умер, Миша, – сказала Раиса Максимовна.
– Как умер?! Когда? Где?
– Еще зимой. Прямо во Внуково, от инфаркта. Мераб говорил: если мой народ выберет Гамсахурдиа, я буду против моего народа… Он летел из Америки домой, через Внуково, грузины узнали его, кричали: «Да здравствует Гамсахурдиа!», плевали Мерабу в лицо, загородили трап…
– Да… – Горбачев задумчиво жевал листики салата. – Да…
– Ты правильно решил: нельзя уходить. Иначе бесславие, – твердо сказала она.
– Хорошо, что напомнила о Мерабе, я о нем открыто буду говорить…
Они смотрели друг другу в глаза, и было слышно, как здесь, в столовой, идут большие настенные часы. Раиса Максимовна кивнула на бутылку вина:
– Ухаживай, Президент! Я пью за человека, который принес в мир добро.
– Давай!
Красивая рюмка и красивый бокал звонко стукнулись друг о друга.
– Рыбу будешь?
– Не сегодня.
– Михаил Сергеевич, рыба – это фосфор.
– Знаешь что? Я остаюсь с тобой. Здесь!
– Ты не выспишься.
– Встань! Встань, встань… Подойди ко мне. Не бойся, никто не войдет! Слушай, здесь действительно холодно или мне так кажется?..
– Я соскучилась, – улыбнулась она, – я просто люблю тебя, Миша, я просто тебя люблю…
– Скажи, это трудно – любить меня?
– Трудно?
– Да.
Раиса Максимовна вдруг резко вскинула голову.
– Хватит играть в кругу близких! – властно сказала она. – Такому дураку, как Ельцин, может проиграть только дурак!
14
Ельцин приподнялся, зажег лампу и взглянул на будильник: четыре часа утра.
Опять, ты подумай… Ну кто, кто объяснит, почему каждый день, точнее, каждую ночь он просыпается ровно в четыре часа утра?
В Архангельском была такая темень, что Ельцину стало не по себе. Ельцин днем и Ельцин ночью – это разные люди; если днем, у себя в кабинете, и тем более на людях, Президент Ельцин выглядел красивым, интересным мужчиной, то ночью, наедине с собой, это был глубокий старик, одинокий и странный. Никто, даже Наина Иосифовна и их девочки, никто не знал, что бессонница стала для Ельцина настоящим кошмаром, который заглушала только водка, да и то не надолго. Когда у Ельцина начинался запой, сон исчезал начисто.
По ночам, в отличие от Сталина например, Ельцин всегда был один. Никого рядом, только Коржаков и охрана.
Феномен Коржакова заключался в том, что по ночам он был для Ельцина как лекарство.
Ельцин всегда спал один. Трезвый, он совершенно не интересовался женщинами, вел себя по отношению к ним крайне деликатно, но стоило Ельцину выпить, как после первой же бутылки в нем просыпалось что-то дикое. Женщин в окружении Ельцина не было, только Лидия Муратова, тренер по теннису (ее быстро выгнали), и Людмила Пихоя, его спичрайтер, женщина не только одаренная, но и порядочная, хотя именно она – так получилось! – посоветовала Ельцину избираться в Президенты России в паре с Руцким, о чем Ельцин (он не умел плохо относиться к самому себе, то есть у него всегда находились виноватые) не забывал.
Выбор, одним словом, был не большой, поэтому пьяный Ельцин не церемонился: однажды, в гостях у Коржакова, он грубо насел на Ирину, его жену. Коржаков сделал вид, что он ослеп, а Ирина, заметив, что муж смотрит куда-то в стенку, догадалась изобразить веселье и радость.
Тискать Ирину Коржакову стало любимым занятием пьяного Президента Российской Федерации, но на этом, как правило, все заканчивалось – Ельцин просто падал на диван и засыпал.
Дважды Ельцин и Коржаков (в дребодан пьяные, разумеется) на крови клялись друг другу в вечной дружбе, резали руки, пальцы и кровью мазали то место, где, по их мнению, находится сердце, после чего троекратно целовались.
Странно, конечно, но Ельцин с его вечной подозрительностью, с его капризами (Президент часто страдал дурным настроением) не видел, что Коржаков ничего не забывает и ничего не прощает…
Ночь, чертова ночь, ужасная, нескончаемая, – она стояла вокруг Ельцина стеной. Странная, необъяснимая тревога врывалась в его душу и сразу, наотмашь била по нервам. Ельцин был соткан (весь, целиком) из старых обид.
Только по ночам Ельцин признавался, говорил себе, что это не он имеет власть, нет, это Кремль имеет его как хочет.
Да и как он… он, Борис Ельцин, не получивший, если уж на то пошло, не только приличного, но просто серьезного образования, писавший «Москва» через «а» (пока Илюшин, слава богу, не поправил), как он может быть выше Горбачева?!
Правда, ему казалось, что у него хорошая команда абсолютно верных людей, демократов, что они, их «коллективный разум», это и есть, на самом деле, он, Борис Ельцин. А что получилось? Министр финансов Борис Федоров не смог (просто не смог, не сумел) составить бюджет России на новый финансовый год, а когда Силаев и Скоков – при них было дело – устроили скандал, сбежал сначала в недельную поездку за границу, потом заявил, что его травят бывшие коммунисты, и ушел в отставку. Советник Президента по национальным вопросам Галина Старовойтова чуть было не взорвала Кавказ. Она явилась во Владикавказ, где начались стычки между осетинами и ингушами, и объявила, что она (она!) распускает Верховный Совет республики. Тут даже Бурбулис не выдержал, прибежал к Президенту: война, говорит, теперь начнется с новой силой…
Ельцин лежал, закинув руки за голову.
В глубине души он не возражал, конечно, чтобы Горбачев оставался в Кремле. Да черт с ним, в конце концов, пусть он за все отвечает, следующий Президент будет избираться через два года, можно подождать!.. В Испании, скажем, есть Гонсалес и есть король: нормальная пара… Но что Горбачев не умеет, так это отвечать!.. Опять скажет, что он ничего не знает. Ну не знает, извините! Или начнет все перекидывать на Ельцина, на политику российского руководства: я ж, мол, вас предупреждал… Когда мужчина импотент, это плохо для его жены. Когда импотент Президент – это гибель общества! Работу ищет, а? Сидел бы и молчал – вот тебе и работа. Холуй его, Бакатин, до глубокой ночи у себя в кабинете чаи гоняет с разными генералами, – они там что, поэмы друг другу читают?!
Еще больше, чем Горбачева, Президент России ненавидел Бакатина. К бывшему министру милиции у Ельцина было чисто мужское отвращение – после Успенских дач. Пока Ельцин (почти три недели) валялся дома, залечивая синяки на лице, Горбачев и Бакатин – готовились. И как только он появился на сессии Верховного Совета, Бакатин с удовольствием рассказал депутатам (то есть всей стране), что в районе моста, с которого, по версии Ельцина, он полетел (с мешком на голове) в воду, глубины просто нет, там меньше метра…
Горбачев: вулкан, извергающий вату! Перед Форосом Крючков показал Горбачеву пленку: Игнатенко берет деньги от западного журналиста, итальянца кажется, за интервью с Горбачевым. Сидит, купюры пересчитывает…
– Скажите Игнатенко, что вы его поймали, – отмахнулся Горбачев. – Будет лучше работать!
Пленка, кстати, цела, надо сказать Попцову, пусть покажет её по «России»…
Вокруг Горбачева – страшная коррупция, об этом известно; неужели Болдин, его «постельничий», приставленный к Горбачеву ещё Чебриковым, не врет, неужели и сам Горбачев привез от Президента Ро Дэ У из Сеула сто тысяч долларов наличными – Болдин показал это на допросах в «Матросской тишине»… Значит, так: Президенту СССР Горбачеву – никакой неприкосновенности. Есть грехи – под суд. Пусть сидит – не жалко. И Раису Максимовну туда же… Гибрид мимозы и крапивы, понимаешь! Но… сначала Горбачев должен уйти, не все сразу. А он тюрьмы боится, это факт. Как он уйдет? Парень какой-то, прокурор, причем не из российских структур, возбудил против Горбачева уголовное дело: уход Прибалтики, превышение президентских полномочий. Так Горбачев, говорят, чуть с ума не сошел, все встречи отменил, к телефонам кинулся, решил, что это – масштабная провокация…
Всех боится, вот Президент!
Свет от лампы рассеивался лунным туманом.
«Ночной фонарь!» – усмехнулся Ельцин.
Давно, ещё на первом съезде, кто-то из депутатов (то ли Гранин, то ли Марк Захаров) поведал Ельцину притчу о ночном фонаре. Вечер, темень непроглядная, никого нет, вдруг ярко загорается красивый большой фонарь и все ночные твари, бабочки, жучки разные тут же, наперегонки, несутся к нему, жужжат, все хотят быть к фонарю поближе, но ночь коротка… Утром фонарь погас, бабочки и жучки исчезли невесть куда, стоит фонарь, никому не нужный, одинокий, и за ночь – весь обосран…
Ельцин очень хотел, чтобы Россия была великой Россией. С этой мыслью, с этим желанием он шел на выборы. Великая Россия – другой цели не было…
Вот, говорят, рынок… Так, мол, везде, в любом нормальном государстве: что вырастет, то вырастет, что умрет, то умрет…
Хорошо, проведем приватизацию. Отдадим заводы и фабрики в честные частные руки. У кого в России есть деньги? Кто, например, может купить Уралмаш, который Гайдар уже дважды предлагал продать? Больше всех на Урале получал он, Борис Ельцин, первый секретарь обкома партии: тысяча сто двенадцать рублей (чистыми). И Малахеев, и Рыжков, директора Уралмаша при Ельцине, получали на сто – сто пятьдесят рублей меньше, правда, на Уралмаше были большие премии. Ельцин, самый богатый человек на Урале, за всю жизнь скопил и положил на сберкнижку около сорока тысяч рублей. Он что, может на эти деньги купить Уралмаш?
Значит, деньги в России есть только у бандитов, только у воров. Социализм – это такая система, при которой честно заработать на Уралмаш человек (любой человек) просто не мог. Как же быть с приватизацией? Кто купит? Жулики? А кого, собственно говоря, ждать? Не будет рынка, значит, и деньги у людей не появятся – это ж замкнутый круг! Вон, Гайдар: нашел какого-то Каху Бендукидзе и уверяет, что у Кахи… у этого… есть деньги, что на Уралмаше он будет директором лучше Рыжкова… Кто такой Каха? Где Гайдар его выкопал? Почему прежде, все эти годы, о Кахе никто ничего не знал?..
А Бурбулис – ещё интереснее. Привел Садыкова. То ли татарин, то ли узбек. Бурбулис говорит – гений. Желает продавать за границу красную ртуть; создал, говорит, концерн «Промэкология» с оборотом в двести миллиардов рублей. Что за «Промэкология»? Откуда взялась? В России всех денег – наличными – тридцать четыре миллиарда. А у Садыкова, говорит Бурбулис, двести. Значит, афера, верно? Но Руцкой подтверждает: да, это серьезнейшие люди, красную ртуть произвели на каком-то секретном ВПК, это выгодный стратегический товар, Германия и США хотят покупать… Как все-таки отличить жулика от не жулика, если за их спинами – первые люди государства? Все идут в Кремль, к Президенту, требуют, понимаешь, его Указов, хотя это – правильно: Президент должен знать обо всем, что происходит в стране; кроме того, Президент сейчас ещё и Председатель Совета Министров… Но кому верить-то? И как быть с приватизацией, если никому не верить?!
Ельцин ворочался с боку на бок: ну, кровать, как ни ляжешь – все плохо…
Надо заменить. Может, и сон не идет, потому что кровать такая, а?
Ельцин боялся бессонницы. Он вообще ужасно боялся болезней. На самом деле Ельцин очень любил жизнь, но после 19 августа, после путча что-то в нем надломилось. Все, кто находился рядом с Ельциным в ночь с 20 на 21 августа в бункере Белого дома, видели: он был совершенно мертвый – от страха.
Там, на земле, митинговали, грелись у костров, читали стихи и пели песни люди, готовые стоять насмерть. Здесь, под землей, было тихо, тепло, но – ужасно. Коржаков выяснил, что Белый дом связан узким подземным коридором с платформой метро «Краснопресненская». Станкевич тут же позвонил в американское посольство. Буш разрешил снять Ельцина и ещё четверых его сподвижников (американцы подчеркивали: только четверых) прямо с платформы и под охраной военно-морских пехотинцев США доставить их в посольство.
А ведь Ельцин знал, что бояться некого! Он понял это утром 19 августа, когда «Альфа» во главе с генералом Карпухиным спокойно пропустила президентский кортеж в Москву. Более того, Карпухин по рации предупредил все посты ГАИ (Ельцин сам слышал это в своей машине), что едет Президент России, и Ельцину давали «зеленую улицу»!
Сюда, в бункер, спустились все руководители России. Наверху оставались только Руцкой, Кобец – для обороны и Полторанин – для связей с общественностью. Ближе к полуночи Полторанин принес три противогаза – Ельцину, Хасбулатову и себе. Увидев противогаз, Бурбулис предложил коллегам запастись цианистым калием, чтобы живыми – не сдаваться. Услышав про цианистый калий, Гаврила Попов, мэр Москвы, стал убеждать Ельцина отпустить его домой, выделив ему двойную охрану. «Я ж в лесу живу», – доказывал он, имея в виду свою внуковскую дачу…
Да, Ельцина можно понять: он не имел опыта боевых действий. Но страх, именно страх (не чувство самосохранения – страх) выкручивал ему нервы; Ельцин не терпел угрозы своему существованию.
«…Нельзя, нельзя разрушать Советский Союз, – люди не простят! Ну как это, был СССР – и нет его, в 41-м – выстоял, в 91-м – нет? Горбачев хорошо сегодня сказал: Борис Ельцин не может быть вором.
Нет, не может!
Стоп… – Ельцин похолодел. – А что, если Горбачев уже получил (неважно как) план Бурбулиса? И в газеты его! Полюбуйтесь, люди добрые, что делает российское руководство за вашими спинами!»
Ельцин сел на кровати. Шпионов Бакатина в российских структурах было хоть пруд пруди. Аппарат МИДа России состоял – пока – только из сорока человек, но в секретариате министра сразу, уже в первые дни, был пойман чиновник, который ксерил все входящие и выходящие документы.
«Н-ну, что делать?..
Ничего не делать?!
Не сделаем мы, сделают они!..»
Ельцин встал, накинул банный халат, открыл бар, спрятанный среди книжных полок, и достал початую бутылку коньяка.
Он налил стопку, помедлил, потом снял трубку телефона.
– Александр Васильевич… – Ельцин запнулся, – извините за беспокойство. Найдите Полторанина, пусть… придет ко мне.
Коржаков спал внизу, на первом этаже дачи. Если звонил шеф, он поднимался, как ванька-встанька:
– Что-то случилось, Борис Николаевич?
– Случилось то, что я хочу видеть Полторанина… – трубка резко упала на рычаг.
Михаил Никифорович Полторанин жил здесь же, в Архангельском, недалеко от Президента.
«Не сделаю я, сделают они…»
Ельцин открыл «дипломат» и достал папку Бурбулиса.
«Совершенно очевидно, что, столкнувшись с фактом создания нового Союза, Президент СССР будет вынужден…»
Ельцин абсолютно доверял Полторанину. Министр печати был единственным человеком, не считая Коржакова и семьи, кто после октябрьского пленума приезжал к Ельцину в больницу. Неужели Александр Николаевич Яковлев прав, неужели Горбачев и после пленума, этого ужасного скандала, все равно хотел оставить его, Ельцина, в Политбюро? Но не оставил же, черт возьми!
А ещё Ельцин любил Полторанина за ум – хитрый, крестьянский, практичный…
– Борис Николаевич, это я!
Ельцин улыбнулся:
– От кровати оторвал, Михаил Никифорович? Вы уж извините меня…
– Ничего-ничего, – махнул рукой Полторанин, – она подождет, да…
– Кто? – заинтересовался Ельцин.
– Кровать!
Полторанин широко, по-детски засмеялся. Он знал, что Ельцин не выносит пошлости, но ведь ночь на дворе, а ночью можно все-таки разрешить себе то, что не разрешает день.
– Зна-ачит… вот, Михаил Никифорович, – Президент протянул Полторанину папку Бурбулиса. – Хочу… чтобы вы прочли.
– Анонимка какая-нибудь? – Полторанин полез за очками.
– Анонимка. Но – серьезная.
Полторанин пришел в добротном, хотя и помятом костюме, в белой рубашке и при галстуке.
– Вот, пся их в корень, очки, кажись, дома забыл…
Он растерянно шарил по карманам.
– Забыли?
– Я сбегаю, Борис Николаевич.
Ельцин протянул Полторанину рюмку и налил себе:
– Не надо. Коржаков сходит. А я пока вслух прочту.
Полторанин чокнулся с Президентом, быстро, уже на ходу опрокинул рюмку, нашел за дверью Коржакова и вернулся обратно.
– «Надо набраться мужества и признать очевидное: исторически Михаил Горбачев полностью исчерпал себя, но избавиться от Горбачева можно, только ликвидировав пост Президента СССР либо сам СССР как субъект международного права…»
Ельцин начал тихо, вполголоса, но тут же увлекся, прибавил голос, так что на улице было слышно, наверное, каждое слово Президента России.
«Театр одинокого актера», – подумал Полторанин.
Где-то там, высоко, играли звезды, равнодушные ко всему, что творится на земле. Окна у Ельцина были плотно зашторены, старый синий велюр тяжело опускался на пол, будто это не шторы, а занавес в театре, и никто из людей, из двухсот шестидесяти миллионов человек, населяющих Советский Союз, который вся планета по-прежнему признавала за мощную ядерную державу, не знал, что именно сейчас, в эту минуту, решается их судьба – раз и навсегда.
Рюмка с коньяком стояла на самом краешке письменного стола, но Ельцин не пил. Его голос становился все громче и тяжелее, в воздухе мелькал указательный палец. Он вытаскивал, вырывал из себя ленивые, как холодные макароны, фразы Бурбулиса с такой силой, что они тут же разрывались на отдельные слова, буквы, запятые и восклицательные знаки; он выкидывал из себя эту словесную массу так, будто ему, Президенту России, очень хотелось очиститься, убить сомнения и страх.
Побороть свою совесть.
В 1913-м Россия отмечала трехсотлетие дома Романовых. Великий царь Николай Александрович Романов не был царем, тем более – великим: после трех лет Первой мировой войны это поняла, наверное, вся Россия. Так же, как и Михаил Горбачев, он не хотел (и не умел) проливать кровь. И – проливал её беспощадно: Кровавое воскресенье, 1905 год, Ленский расстрел, «столыпинские галстуки», война и революция. На самом деле между Николаем Романовым и Михаилом Горбачевым очень много общего; прежде всего – личная трусость, страх перед своей страной. У Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова и других вождей не было страха перед Россией (пусть по глупости, как у Брежнева, но не было!) Иное дело – последний царь Романов и последний Генсек Горбачев. В первой четверти XX века Россией уже руководили специалисты по диалектическому материализму – Владимир Ленин и Лев Троцкий. Но разве им, Ленину и Троцкому, холодным и очень жестоким людям, могло прийти в голову то, что придумал – в тиши своего кабинета – демократ-материалист Геннадий Бурбулис: разоружить страну, окончательно, уже навсегда раздарить собственные земли, причем вместе с людьми, сотнями тысяч русских людей (Крым, например), нанести смертельный удар по рублю, по экономике, по своим заводам, то есть добровольно стать как бы ниже ростом…
Полторанин замер. Он сразу понял все, что хочет услышать от него Президент, и приготовился к ответу.
Ночь плотно окутала дачу, и в небе все так же мерцали звезды, равнодушные к тому, что происходит на земле…
– А идея, между прочим, отличная, да? – Полторанин встал, перевернул стул вперед спинкой и сел перед Ельциным. – И Гена… Гена ведь сочинил, да?.. Гена добротно сочинил, хорошо.
Ельцин кинул бумаги на стол и потянулся за рюмкой.
– Михал Сергеич-то что… – Полторанин шмыгнул носом, – Михал Сергеич сначала загнал себя в гроб, а теперь, понимаете, крутится, хочет из гроба вылезти, тесно ему там оказалось, не подошло!
Рюмка ушла, скрылась в кулаке так, что её просто не было видно, из-под пальцев вылезал лишь маленький кусочек красного стекла.
– А из СНГ, Борис Николаевич, – Полторанин опять шмыгнул носом, – тоже, я думаю, мало что выйдет, да? Кто-нибудь, Гамсахурдиа например, все равно взбрыкнет, иначе его свои местные гады не поймут, они ж там все с ума посходили… А надо так: братский славянский союз. Братья мы или кто? Плюс, допустим, Назарбаев, почему нет, в Казахстане тоже русских полно; Назарбаев – это как приманка, пусть все видят, что дорога в союз открыта! И тут, Борис Николаевич, интересная вещь получается: не мы будем виноваты, что кого-то не позвали, а они (Гамсахурдиа тот же) виноваты, что к нам не идут…
Ельцин молчал, уставившись в лампу. Полторанину вдруг показалось, что Ельцин просто не слышит его, но он говорил, говорил:
– А чтобы новые краски, Борис Николаевич, были, чтоб СНГ, значит, не реставрировал СССР, в славянский союз можно, например, Болгарию пригласить, – почему нет? Тоже славяне…
– Кого? – не понял Ельцин.
– Болгарию! Или Кубу, Борис Николаевич. А что эта Куба болтается там, в океане, понимаете, как не пришей кобыле хвост? Кастро нам до черта должен, не отдает, так мы весь остров заберем, – плохо, что ли? У Франции есть Гваделупа и Таити – заморские территории Франции. А у нас будет Куба – заморская территория России. Ведь Кастро в социализм по ошибке попал!
– Как по ошибке?
– Очень просто, Борис Николаевич. У Хрущева на Кубе кагэбэшник был, Алексеев, жутко грамотный парень… – Полторанин остановился. – А Кастро очень хотел встретиться с Кеннеди, рвался к нему, да Кеннеди уперся, не хотел. Тут Алексеев спокойно объяснил Фиделю, что американцы сейчас перекроют ему одну половину планеты, а мы, если он к нам не примкнет, закроем другую, советскую. И кому он тогда свой сахар продавать будет? Фидель подумал – и стал коммунистом. Но Куба – это на перспективу, Борис Николаевич, а пока – на троих: Россия, Украина и Белоруссия. В России любят, когда на троих, Борис Николаевич! А столица – в Киеве. Мать все-таки. Михал Сергеичу скажем большое спасибо, выпросим ему ещё одного Нобеля, чтоб Раиса Максимовна не очень злилась, и в пять секунд собираем…
– То есть конфедерация славян, я правильно понял?.. – перебил Ельцин.
– Ага, – Полторанин прищурился. – И это отлично будет, да?..
– Я вот што-о думаю, Михаил Никифорович… – Ельцин вдруг встал, отодвинул штору, – а што, если…
Полторанин заерзал на стуле:
– Что «если», Борис Николаевич?
– А вдруг он нас всех, – Ельцин резко повернулся к Полторанину, – просто арестует, понимаешь, и – в тюрьму?
Полторанин опешил.
– Кто?
– Горбачев.
– В какую тюрьму? За что?
– За это самое, Михаил Никифорович!
Ельцин медленно разжал кулак и рюмка аккуратно соскользнула обратно на стол.
– Хотел бы я увидеть того прокурора… ага, который подпишет ордер на арест Президента России, – засмеялся Полторанин. – Как-кой прокурор, если по Конституции каждая республика может выйти из СССР когда угодно?..
– Республика! – Ельцин поднял указательный палец. – Именно республика! А тут один Президент решил. С Полтораниным.
– Президент и должен решать за всех, Борис Николаевич…
– Есть Хельсинки, принцип нерушимости границ. Брежнев подписывал.
– Брежнев подписывал, вот пусть с него и спрашивают, – огрызнулся Полторанин. – При чем тут Брежнев? Ельцин за Брежнева не отвечает.
– Ельцин отвечает за Россию в составе Союза. А Хельсинки – никто не отменял.
– Как это никто? Мы отменили, Борис Николаевич. Мы же отпустили Прибалтику! А все только рады. Где ж тут нерушимость границ?
Ельцин задумался.
– У нас Россия весной проголосовала за Союз, – произнес он.
– Так это когда было, – Полторанин махнул рукой. – Проведем через парламент, оформим: Россия решила – Россия передумала. Я вот не знал, ага: в двадцать втором году, когда Ленин придумал Советский Союз, все республики послали его к чертовой матери; договор никто не подписал, чрезвычайкой грозили, но заставить никого не смогли! А Союз, между прочим, уже был. Так его даже де-юре не оформили: чего, мол, бумагу марать, если все и так ясно! То есть мы, Борис Николаевич, семьдесят лет живем в государстве, которого нет, просто нет, оно юридически не существует! Вот он, гениальный обман Ленина: все кричат о договоре двадцать второго года, но сам-то договор кто-нибудь видел? Старый Союз вроде как под корень, а он снова народится, обязательно народится, но, слава богу, без Горбачева. Тут не президенты отвечают, да, тут, значит, решает народ…
– Отвеч-чает Президент, понимаешь, – твердо сказал Ельцин. – Он на то и Президент, штоб отвечать!
Раздался тихий стук в дверь, в проеме появился Коржаков.
– А, это вы, Александр Васильевич…
– Сбегал, Борис Николаевич.
– Сбегали? Вы што, по окружной, понимаешь, бегали? По окружной, я вас спрашиваю! Мы тут, значит, давно все решили, а вы бегаете…
Коржаков положил очки и – вышел.
– Зачем вы так, Борис Николаевич? – тихо спросил Полторанин.
– А ну его, – отмахнулся Ельцин. – Смердяков!
– Зато предан.
– Потому и держу…
Ельцин замолчал.
– Значит, правда, Михаил Никифорович, што не… подписал никто… при Ленине?
– Конкретно – никто.
– Тогда в каком государстве мы живем?
– А ни в каком, Борис Николаевич. Нет у нас государства.
– Интересно, Шахрай об этом знает? – задумчиво спросил Ельцин.
– А кто его знает, что он знает, что не знает, – ответил Полторанин.
– Он же у нас по юридическим вопросам…
– Ага…
Ельцин сладко зевнул:
– Разделимся… ухх-хо, Михаил Никифорович, все республики, окромя России, тут же увидят, какие они маленькие. Начнется война за территории. Сейчас Литва предъявила Горбачеву иск… на полмиллиарда долларов, что ли, за многолетнее пребывание в СССР. Это, понимашь, как у евреев в анекдоте: «Простите, вы вчера Сарочку из воды вытащили? А на Сарочке была ещё шапочка…»
– Полмиллиарда? – Полторанин шмыгнул носом. – Я бы принял иск, Борис Николаевич.
– Как приняли? – не понял Ельцин. – Зачем?
– А чтоб они задумались, ага. Память свою освежили. И тут же всучил бы им встречный иск – на миллиард. Или на два. Можно – три, нам не жалко. Они забыли, эти «саюдисы», что до 44-го Вильнюсский край не входил в Литву, он же под Пилсудским был, а столица – Каунас. Это Сталин, извините, объединил Литву, положив там сто шестьдесят тысяч русских солдат, вернул им, Борис Николаевич, Клайпедский край, Вильнюсский край, Жемайтию, Аукштайтию, Дзукию…
Пусть платят, не жалко! Может, объединение Литвы не стоит миллиарда долларов? Тогда что это, на хрен, за государство?!
– Я п-понимаю, – Ельцин помедлил, – но противно все…
– В политике, Борис Николаевич, все противно, – махнул рукой Полторанин. – Это как в анатомичке: ты приходишь на работу, честно делаешь свое дело, а всюду смерть…
– Да… мы, как врачи…
– Ага…
В кабинете стало светлее, день мирно отгонял темноту, и она растворялась, чтобы, спрятавшись за небо, вернуться обратно с заходом солнца.
– Ну ш-шта, Михаил Никифорович, по рюмке, я правильно понял? – улыбнулся Ельцин. – Сходите за Коржаковым, што ли, пусть он… тоже отметит.
Полторанин открыл дверь и поманил Коржакова рукой.
– Вот што, Александр Васильевич, – Ельцин разлил коньяк. – Утром скажите Илюшину, пусть все отменяет: мы едем в Завидово. В субботу вызовите туда Шапошникова, Баранникова и… наверное… Павла Грачева.
Рюмка дождалась, наконец, своего часа. Ельцин сгреб её в кулак, она взлетела в воздух, звонко, с разбега ударилась о другие рюмки и вдруг разорвалась на куски, на стекла и стеклышки, залив Ельцина коньяком.
– Ух ты! – вздохнул Коржаков.
Осколки упали к ногам Президента.








