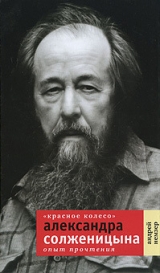
Текст книги "«Красное Колесо» Александра Солженицына: Опыт прочтения"
Автор книги: Андрей Немзер
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Яснее всех многочисленных персонажей «Красного Колеса» это высшее задание (нераздельно – свое и России) слышит тот герой, чья смерть, случившаяся за три (без малого) года до начала Первой мировой войны, во многом предопределила трагедию России, – Пётр Аркадьевич Столыпин. Жизнь Столыпина, его идеалы, убеждения, социально-экономическая и политическая программы, работа по их воплощению, планы будущих преобразований, отношения с императором, двором, бюрократией, общественностью, Государственными Думами разных созывов, политическими партиями и их вождями, характер человека и свойства государственного мужа описаны Солженицыным с впечатляющей даже на фоне других «портретных» глав «Красного Колеса» обстоятельностью, предельной ясностью и горячей любовью. Сама по себе столыпинская глава (65') в толкованиях не нуждается.
В принципе допуская, что профессиональный историк может предложить отличную от солженицынской трактовку тех или иных эпизодов деятельности Столыпина и его роли в истории (то же касается всех прочих описанных в «Красном Колесе» исторических событий и личностей), замечу, что частные фактические уточнения (буде они обнаружатся) не изменят (и тем более не отменят) общего творческого (научного, философского и художественного) решения писателя. Даже если нам докажут (чего пока не произошло), что исторический Столыпин тем-то и тем-то отличался от Столыпина, изображенного Солженицыным, это не поколеблет внутренней логики «повествованья в отмеренных сроках», той согласованности всех составляющих, что и делает высказывание художника убедительным, заставляет воспринимать его как аналог реальности. Что же до различных идеологических суждений о личности и деятельности Столыпина (и всей истории русской революции), то появление их неизбежно, пока существуют интеллектуалы, наследующие оппонентам и врагам Столыпина (условно говоря, новые черносотенцы, кадеты, большевики). Если некто убежден, к примеру, в том, что крестьянская община – величайшая ценность русского народа, или что царь всегда прав, потому что он царь, или что февральская революция явила торжество истинных свободы и демократии, а большевики урвали власть случаем, или что «великий октябрь» и власть советов принесли в Россию благоденствие (а без них мы бы по сей день в лаптях ходили), то неприятие подобными идеологами «Красного Колеса» гарантировано. Существенно, однако, что их полемические стрелы направлены прежде всего в Столыпина (и тех исторических деятелей, которые как-то поддерживали и продолжали столыпинскую стратегию) и лишь во вторую очередь – в автора «Красного Колеса». Вольно кому-то до сих пор восхищаться Лениным (Милюковым, Пуришкевичем, Керенским, великим князем Николаем Николаевичем), но требовать подобных чувств от всех и каждого, включая Солженицына, по меньшей мере, странно. Интеллектуально честный идеолог должен признать главное: «Красное Колесо» – цельное сочинение с единой, последовательно развиваемой концепцией действительности, основанной на огромном множестве «разноречивых», но поддерживающих друг друга фактов.
Должно, однако, объяснить, почему Солженицыну понадобился огромный экскурс в прошлое (60–74), как он связан с судьбами вымышленных персонажей и почему его нельзя вынуть из повествования.
Последний тезис формально противоречит замечанию Солженицына в начале «столыпинской» главы: «Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была грубо изломана сама история России, вся память её, и перебиты историки». Думается, слова эти, как и предваряющее их приглашение «лишь самых неутомимых любознательных читателей» прочитать, что написано петитом («Остальные без труда перешагнут в ближайший крупный шрифт»), нельзя понимать буквально. Между тем именно так они и были восприняты многими читателями, но, как водится, «с точностью до наоборот». Слишком часто доводилось слышать и читать, что интересны («познавательны») в «Красном Колесе» лишь «исторические» главы, а «романные» рассеивают внимание и отвлекают от хроники революции. Поневоле вспомнишь анекдот о двух помещиках, один из которых избирал в эпопее Толстого фрагменты «про войну», а другой – «про мир». Солженицын (пожалуй, даже в больше мере, чем Толстой) стремится показать, сколь по-разному история воздействует на разных людей, а люди эти, в свою очередь, по-разному осуществляются в истории. От того и требуется писателю дать «крупным планом» портреты многих непохожих персонажей, фиксируя мельчайшие психологические детали, непредсказуемые извороты судеб, выпадения героев из присущих им социально-исторических амплуа. Читая в первый раз «столыпинскую» («богровско-столыпинско-царскую») сплотку глав, мы воспринимаем запечатленные в ней события на фоне только что явленной нам самсоновской катастрофы, но не ведая, что произойдет с несколькими отнюдь не «проходными» персонажами. Важны оба обстоятельства.
«Восточнопрусская» часть «Августа» завершается уже упоминавшейся экранной картиной концентрационного лагеря (58) и заявлением штаба Верховного Главнокомандующего (Документы – 7). Самсоновской армии больше нет, последние часы ее остатков обрисованы в трех главах (56–58). Перед тем из нашего поля зрения исчезает группа Воротынцева, причем в момент прорыва к своим, и пока неизвестно – будет ли он удачным для всех окруженцев (55). Собственно историческим главам предшествуют петроградские, посвященные семье Ленартовичей, теткам и сестре идущего сквозь Грюнфлисский лес Саши. Рассуждения теток Саши о текущей политической жизни и индифферентности современной молодежи (племянницы Верони и ее подруги Ликони, в которую Саша влюблен) перетекают в их восторженные воспоминания об эпохе террора (начиная с охоты за Александром II, увенчавшейся первомартовским убийством) и ее «героях-мучениках» (59–62). Так мы приближаемся к убийце Столыпина (жизнь и личность Богрова – 63; собственно убийство – 64). Тетушки Ленартовича прославляют (отмывают от «клеветы») террориста, «акция» которого и обеспечила их племяннику тяготы войны, кошмар окружения, смертельную опасность. Как явствует из следующей главы (65’), Столыпин, даже если ему пришлось бы на время оставить пост премьер-министра, сумел бы не допустить вступления России в войну. Потому так важно Солженицыну не просто очертить путь своего любимого героя и поведать о его простой, но спасительной внешнеполитической доктрине, но и показать, как решительно и точно он действовал в критических ситуациях, как умел «подкладывать» и внушать свои мысли императору. Потому так подробно анализируются отношения Столыпина и царя: Николай много раз бывал к Столыпину несправедлив, далеко не всегда слушал и понимал своего министра, то и дело его «подставлял», если не сказать – предавал, но при этом в глубине души знал Столыпину цену, знал, что в крайнем случае придется действовать по его советам.
Потому царь, отступившийся от Столыпина и после богровского выстрела (не пришедший к умирающему, который напряженно ждет последней встречи со своим Государем – 69; равнодушно отнесшийся к судебному разбирательству, покровительствовавший тем, кто всеми силами препятствовал раскрытию преступления, оберегал лопоухих и корыстных невольных пособников убийцы, допустивший распространение слухов, что порочили память убитого; в конце концов помиловавший тех, кто, пренебрегая долгом, не умел и не хотел защитить Столыпина – 71–73), царь, пренебрегший всеми уроками, которые он получил от министра, царь, действовавший наихудшим – можно сказать, «антистолыпинским» – образом и летом 1914 года, и в военную пору, и при начале революции, царь этот в повествовании Солженицына вспоминает Столыпина. Приведу два выразительных примера. В 1916 году Государь посещает Киев, где погиб его министр:
И вдруг, сейчас, через пять осеней, так близко и сильно проступил Столыпин к царскому сердцу, как ни разу ещё от смерти. Нужно было пройти пустыню перемен и поисков министров, чтобы сегодня очнуться и поразиться: а ведь с тех пор не было сравнимого министра. И в эту войну, в это безлюдье руководства, какое бы решение был – Столыпин.
(О-16: 69)
Во втором случае имя Столыпина не звучит да и звучать не может. Уже согласившись на отречение, император думает, кому же теперь возглавлять кабинет: «Государю не хотелось – Родзянке. Вот кого бы назначить: Кривошеина» (то есть наиболее близкого и доверенного столыпинского сотрудника-единомышленника – М-17: 349). В этот момент император и дальновиднее, и вернее памяти своего министра, чем считающий себя продолжателем дела Столыпина и высоко ценившийся Столыпиным Гучков, который только что вырвал отречение, а прежде согласился поставить безликого князя Львова во главе временного правительства.
Выстрел Богрова был действительно выстрелом во всю Россию. Включая тех поджигателей революции и их подголосков, которым не удалось укрыться от военного лихолетья в уютном швейцарском далеке. Этого не может уразуметь вся пылкая оппозиционная интеллигенция и достойно ее представляющие говорливые тетушки Адалия и Агнесса, что скорбят по Саше, которого «заглотнула прожорливая машина армии». Был бы жив Столыпин, не заглотнула бы. Не пришлось бы пестрой группе Воротынцева мучительно брести сквозь Грюнфлисский лес.
Символично, что под командой опытного полковника (одного из не столь многих «столыпинцев», которые и в мирные, и в военные дни никак не могут соединиться) из окружения выходит словно бы вся Россия: рядом идут «левый» Ленартович и вопреки семейным традициям избравший государеву службу Харитонов, воплощающий лучшие крестьянские черты Благодарёв и ушлый, ловкий, сильный, ситуативно верный (он вскинет на плечи раненого поручика перед решающим броском), но двусмысленный и страшноватый Качкин (тут значима внешне не мотивированная, но совершенно явная взаимная неприязнь земляков Благодарёва и Качкина – 50). Символично и то, что в то время, когда они пропадают из виду, читатель, которому уже явлены жизнь и дело Столыпина, движется через главы о не сберегших (сгубивших) лучшего русского министра полицейских чинах (66), о злорадной (в лучшем случае – пошлой) общественной реакции на убийство (67, 70), о настроениях и маневрах убийцы (68), о последних днях Столыпина, небрежении Государя и предсмертной (увы, обоснованной и сбывшейся) тревоге Столыпина за будущее страны, которой достался в такие времена такой властитель (69), о похоронах, на которых России не было (70), об увертливых, опасающихся открыть правду следствии и суде над Богровым (71), о царском милосердии и к тем, кто старательно противодействовал Столыпину, всяко ему вредил, сделал его убийство возможным (72), и к тем, кто прямо отвечал за жизнь погибшего премьера (73), – движется к рассказу о Государе, который, оставшись без зоркого и мужественного слуги, пусть невольно, но бросил свою страну под «красное колесо» (74).
Финальная часть рассказа о монархе («Июль 1914») прямо выводит читателя к срыву русской истории, к началу войны, первый акт которой мы уже видели. А теперь видим по-новому. Теперь мы понимаем, что дело не в отдельных трусах и тупицах (и в германской армии «тесно» талантливому генералу Франсуа, воплощению планов которого мешает начальство – 38, 41), не в обычной неразберихе, не в превосходстве противника, не в дипломатических промахах, а в чем-то гораздо большем. После «столыпинской» главы становится ясно: России нельзя было ни так худо готовиться к войне, ни таким стародедовским способом воевать, ни – что всего важнее – вообще влезать в войну.
После глав о том, как государственные структуры и «общество» (не одни боевики, но и умеренные оппозиционеры, интеллигенция, пресса) обошлись со Столыпиным, как мешали ему вести «среднюю линию», сберегать народ, сохранять мир и порядок, приумножать общественное богатство, помогать естественному росту страны, как позволили его убить и не смогли оценить содеянное (и тем паче раскаяться), становится столь же ясно: не готовая к войне Россия обречена была в нее рухнуть, растратить в ней остатки накопленного Столыпиным (не только и не столько о «материальных ценностях» речь) и в итоге получить революцию. Ее предчувствует Самсонов (48), о ее угрозе позднее (в «Октябре Шестнадцатого») под впечатлением от петроградских встреч и разговора с Нечволодовым начинает задумываться Воротынцев, пока занятый другой опасностью – возможностью проиграть не операцию или кампанию, а всю войну (82).
На выходе из 74-й главы Солженицын побуждает нас если не перечитать все, что предшествовало главе 59, то прочитанное вспомнить и по-новому обдумать. Нужно выдержать какую-то внутреннюю паузу, чтобы уразуметь: мы вернулись к той же петроградской точке в повествовании, в то же пространство Верони и Ликони, откуда после россказней тетушек отправлялись в близкое (для героев) прошлое. И мы по-прежнему не знаем, что происходит с группой Воротынцева, – как не знают этого сестра и возлюбленная Ленартовича и еще не встретившая Воротынцева Ольда Андозерская (общение курсисток с женщиной-профессором – 75), как не знают мать и сестра Ярика Харитонова, которых навещает Ксенья Томчак. В Ростове обычно несгибаемая Аглаида Федосеевна переживает тихое отчаяние: последнее письмо сына было отправлено из Остроленки, где квартировал штаб Второй (мы знаем – уничтоженной) армии пятого августа. «А сегодня – двадцатое. А сегодня – “от штаба Верховного Главнокомандующего”» (76). В газетах пропечатан тот самый уклончивый, но дающий понять, что случилась катастрофа, документ от 19 августа, которым Солженицын замкнул «собственно военную» часть Узла, тот документ, что был предъявлен читателям семнадцать глав назад – оказывается, всего один день прошел! За «самой простой каплей», которая падает на семерку червей из глаз матери Ярика, видятся дожди материнских слез, которые льются по всей России, слез о погибших, попавших в плен, пропавших без вести. И слезы эти вновь заставляют нас вспомнить погибшего Столыпина.
Но не только они. После газетной перебивки (от «ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!» сквозь бодрящие вести о немецких бедах, зазывы на «БЕГА», краткую информацию о потерях «южного нашего отряда», графоманские вирши «Памяти А. В. Самсонова», победные реляции и осмотрительные словеса о понятных трудностях до заклинаний о «всемирно-моральном смысле» и «рыцарской верности трёх правительств» – 77'') читатель остается в Ростове, где инженеры – приезжий Ободовский (бывший революционер) и местный Архангородский (пожилой еврей) – ведут долгий разговор, буквально пропитанный столыпинским духом:
– …Вы знаете расчёт Менделеева? – к середине ХХ века население России будет много больше трёхсот миллионов, а один француз предсказывает нам к 1950 году – триста пятьдесят миллионов! <…>
– Это в том случае, Пётр Акимович, если мы не возьмёмся выпускать друг другу кишки.
(78)
Возьмемся. Что пророчит следующая глава, где дочь Архангородского и молодой социалист-революционер вовсю славят грядущую революцию и клеймят эксплуататоров, монархию, манифестацию ростовских евреев в поддержку правительства и… страну, в которой, якобы, всем заправляет «Союз русского народа». И зря Ободовский пытается противопоставить этому Союзу другой – «Союз русских инженеров», – его не слышат и не хотят слушать. Как не хотят видеть России, которая не может отождествляться с партиями и кланами. России, у которой был великий столыпинский шанс – двигаться по пути мирного строительства. Такой России для Сони Архангородской нет. Доведись ей узнать подробности самсоновской катастрофы, она, пожалуй, и в ней обвинит Столыпина. И тут же возрадуется, потому что проклятый режим трещит по швам. А он и впрямь трещит.
…Дрожа голосом, двумя ладонями, на рёбра поставленными, Илья Исаакович показал:
– С этой стороны – чёрная сотня! С этой стороны – красная сотня! А посредине… – килем корабля ладони сложил, – десяток работников хотят пробиться – нельзя! – Раздвинул и схлопнул ладони: – Раздавят! Расплющат!
(79)
Как тут вновь не вспомнить Столыпина. Не только «среднюю линию», которую он держал, но и судьбу самого реформатора. Выстрел Богрова в Россию смог грянуть не только и не столько потому, что убийца был наделен демонической энергией и изобретательностью (что, на мой взгляд, не отменяет его – и всех прочих «темных гениев» – глубинной посредственности, зависимости от страшного, но пошлого духа времени). Выстрел удался, потому что «красная сотня» (всех оттенков) жаждала этого выстрела, потому что молодые представители образованного общества воспитывались в недоверии и ненависти к власти, потому что антигосударственничество было разлито в воздухе, потому что сочувствие террору стало нормой, потому что стремительно сходили на нет здравый толк, ответственность за собственные поступки, простая (не отравленная идеологическими фантазмами) человечность, которая не позволяет убивать политических противников и желать гражданской войны. Выстрел удался, потому что «чёрная сотня» (всех оттенков) ненавидела Столыпина не меньше, чем «красная». Ненавидела, если угодно, «за дело»: столыпинские реформы предполагали если не полное освобождение высших сфер от бездарей, пролаз и интриганов – этого, увы, никогда никому добиться не удавалось, – то капитальное их сокращение. Курловы, Спиридовичи и иже с ними боролись за себя, за свои места, награды, доходы, за свою «нужность». Выстрел удался, потому что важные места занимались проходимцами, которые – даже если б и относились к Столыпину лучше – не умели квалифицированно делать доверенное им дело (в данном случае – обеспечивать безопасность первых лиц государства), потому что в мире административном правили бал связи и протекции, потому что ответственных исполнителей (а тем более достойных сотрудников, способных мыслить государственно) катастрофически не хватало, а тех, что были, далеко не всегда удавалось использовать по назначению, потому что высшие сословия видели в Столыпине «чужака» и «временщика», от которого лучше избавиться, а идущие сверху «веяния» превосходно усваивались на всех ступенях чиновничьей лестницы. Выстрел удался по той же причине, что обусловила вступление России в войну, «самсоновскую» катастрофу, борьбу «общественности» и народных представителей (Государственной Думы) с собственным правительством во время войны, господские заговоры и бунты тыловых – не желающих идти на фронт – полков, революцию с последующим «народоправством», весь бег «красного колеса». Все это случилось потому, что – повторим еще раз ключевые слова «Темплтоновской лекции» – «Люди – забыли – Бога».
Когда Солженицына упрекают за преувеличение роли Столыпина в истории (мол, если б и промахнулся Богров, не сумел бы Столыпин предотвратить войну и революцию), из виду упускается сложность и объемность мысли писателя. История действительно не знает сослагательного наклонения, но это не означает железной предопределенности событий. Если бы в России нашлось достаточное число людей, понимающих Столыпина, работающих в самых разных сферах в соответствии не с директивами премьера (на всякий случай инструкцию не напишешь), но в русле его замыслов, относящихся к стране, государственному устройству, обществу и своему делу, как Столыпин, осознающих, что Столыпин, как и всякий администратор, политик, государственный муж, нуждается в постоянной поддержке и защите (в том числе защите от возможных покушений, которую тоже можно и нужно строить профессионально), – если бы подобных людей было не так мало и они не были так разобщены, не была бы в Киевском театре смертельно ранена Россия. Невозможно снять вину с Богровых и Курловых, с «красной» и «чёрной» сотен (увы, тысяч – и многих), но ответственность за гибель Столыпина и последующие наши беды несут не только революционеры и придворная камарилья, заливистые сочувственники бомбистов и старцы из Государственного Совета, мелкие полицейские сошки и добродетельный, но безвольный царь. Доля ответственности (и не малая!) лежит на тех, кто мог бы стоять рядом со Столыпиным, но почему-то занял иную позицию, на тех, кто после смерти реформатора не оценил масштаба случившегося, не нашел в себе сил составить «коллективного Столыпина» и держать столыпинскую линию, осуществлять его замыслы, сохранять суть (а не детали) его жизненного дела. Не в последнюю очередь это означало – строить сильную армию, избегать конфронтации с другими державами, не допускать войны.
Ободовский и Архангородский – персонажи, к которым автор (и внемлющий ему читатель) испытывает глубокую симпатию. Их деятельность бесспорно весьма полезна, их суждения здравы, надежды Ободовского на будущую могучую Россию отзываются смешанным чувством восхищения (ведь не прекраснодушно хвастает, а широко мыслит и готов планы воплощать) и тяжелой тоски (всё прахом пошло), упрекнуть инженеров не в чем. Кроме одного. Их разговор идет так, будто на дворе стоит мир, будто не влезла уже Россия в европейскую бойню, будто не покатилось еще «красное колесо». Дочь клеймит Архангородского за то, что он участвовал в патриотической манифестации (как почти вся страна – вспомним негодование тетушек Ленартовича в связи со вспышкой «позорного патриотизма» – 59; картину счастливого единения царя и народа, собравшегося на Дворцовой площади, – 74; толки курсисток о народном единодушии – 75). Ясно, что, коли война началась, патриотические собрания и шествия естественнее, чем пораженческие. Но ведь именно этот аффектированный подъем патриотизма (тут же отзывающийся шапкозакидательством, газетной трескотней, демагогией, залихватскими песнями про Ваську-кота) убеждает власть: беды не случилось, все происходит правильно, весь народ нас одобряет и готов положить сыновей на алтарь отечества. А значит гнать неподготовленные части в Восточную Пруссию не только можно – нужно!
Но мы-то уже знаем, что там случилось. Мы-то уже видели, как несется «красное колесо», которое раздавит экономию Томчака, магазин Саратовкина, гимназию Харитоновой, Московский университет, женские курсы, мельницы Архангородского, наработки «младотурков»-генштабистов, планы освоения Северо-Востока, крепкие крестьянские хозяйства в Каменке, тонкие книги Варсонофьева, приличную пивную у Никитских ворот и многое иное – все то, чем по праву гордилась Россия. Мы – видели. Мы знаем, что случится потом. Как именно – можем и не знать, коли не добрались до следующих Узлов, но общий итог – знаем. И изумляемся, почему приближения «красного колеса» никто не замечает. Почему катастрофической опасности, которую несет война, никто, кроме Воротынцева, не чувствует – ни «звездочет» Варсонофьев, ни инженеры-«делатели», ни превосходно понимающий, насколько не так воюет русская армия, генштабист Свечин. Что уж спрашивать с чистых мальчиков – выведенного из окружения Ярика Харитонова и идущего воевать Сани Лаженицына – или солдата Арсения Благодарёва? И тем более с ненавистников «режима», ведомых принципом «чем хуже, тем лучше», радующихся любой беде больного государства, азартно смакующих и преувеличивающих его действительные (немалые) и вымышляемые пороки? Или с тех, кто свято уверен, что всё и всегда идет в стране должным образом, что возможны лишь незначительные погрешности (вроде гибели Второй армии), что бабы новых солдат нарожают, царское величие неколебимо, а Бог все устроит к вящей славе Государя, отечества и их верных слуг? Все они – от министров до террористов – убеждены: никакая война мира и России не изменит. Все они не видят «красного колеса».
Видит его, как помним, Ленин. И не потому, что политически проницателен, – проглядел за мелкой партийной колготней начало войны (и в октябре 1916-го не будет чувствовать, что через год возглавит – шутка ли – правительство России, и готовить будет революцию в Швейцарии, и весть о Феврале встретит с изумлением). Видит – потому что мистически ненавидит этот мир (и прежде всего – проклятую Россию), потому что носит войну в себе, потому что инстинктивно чувствует: всякое зло (а тем более такое масштабное) ему на потребу, потому что счастлив любому намеку на грядущую вселенскую смуту.
Крутится тяжёлое разгонистое колесо – как красное колесо паровоза, – и надо не потерять его могучего кручения. Ещё ни разу не стоявший перед толпой, ещё ни разу не показавший рукой движения массам (в этой позе – предсказывающей апрельскую 1917 года, что будет воспроизведена тысячами идолов, иные из которых по сей день позорно торчат на русской земле, – Ленин застывает в конце главы, еще не перед готовой крушить старый мир солдатней, а то ли перед пустотой, то ли перед не замечающими будущего вождя мировой революции, а потому не упомянутыми, краковскими обывателями. – А. Н.), – какими ремнями от этого колеса, от своего крутящегося сердца, их всех завертеть, но – не как увлекает их сейчас, а – в обратную сторону.
Намек понят. Зло, ворвавшееся в мир по человеческому попущению («Люди – забыли – Бога», и значит: люди дали дорогу злу), нашло своего вернейшего служителя. Воротынцева и Благодарёва видение «красного колеса» потрясает и страшит, но они его вскоре забудут; оторвавшееся тележное колесо на наших глазах становится колесом обычным; Ленин разгадывает символ и преисполняется ликованием – «красное колесо» буквально вошло в него, стало ленинским сердцем.
Просветлялась в динамичном уме радостная догадка – из самых сильных, стремительных и безошибочных решений за всю жизнь! Воспаряется типографский запах от газетных страниц, воспаряется кровяной и лекарственный запах от площади – и, как с орлиного полёта, вдруг услеживаешь эту маленькую единственную золотистую ящерку истины, и заколачивается сердце (вновь сердце. – А. Н.), и орлино рухаешься за ней, выхватываешь её за дрожащий хвост у последней каменной щели – и назад, и назад, назад и вверх разворачиваешь её как ленту, как полотнище с лозунгом:
ПРЕВРАТИТЬ В ГРАЖДАНСКУЮ!..
– и на этой войне, и на этой войне – погибнут все правительства Европы!!!
(22)
Так и будет (те, что не погибнут, выйдут из войны сильно покореженными, но не шибко поумневшими – доведут свои народы до следующей, еще более истребительной). Будет не по воле Ленина – этот «великий практик» придет на готовенькое, созданное общими усилиями противоборствующих держав Европы и противоборствующих групп в России. Будет, потому что в пустоту канет речь Воротынцева перед Верховным, потому что затянется (и затянет Воротынцева) война, от которой никак не избавиться, потому что толчок расчеловечиванию уже дан и с каждым новым оборотом движение дьявольского колеса становится не медленнее, а быстрее, свирепей, неудержимей.
Ненавидя революцию или захлебно ею восторгаясь, имея о ней самые примитивные или весьма обстоятельные и детализированные представления, полагая ее великим торжеством России или ее тяжелейшей бедой, все мы с детства были убеждены: тогда началась новая эра. Началась. Но не в Октябре-Ноябре Семнадцатого (этим – Седьмым – Узлом по замыслу Солженицына открывается действие третье – «Переворот»), а в Августе Четырнадцатого, где поднимается занавес «повествованья в отмеренных сроках»: действие первое – «Революция». Она уже пришла.[27]27
Сама эта формулировка, вложенная в уста генерала Нечволодова, прозвучит лишь под занавес Второго Узла (О-16: 68).
[Закрыть]








