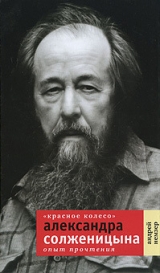
Текст книги "«Красное Колесо» Александра Солженицына: Опыт прочтения"
Автор книги: Андрей Немзер
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
…а вдруг бы то – он был сразу? <…> и не для посрамища на деревню, а только – власть пришёл заявить? <…> воли нет, так и рухнешь?..
Сласть дрожащая…
Как видим, внутренний мир Катёны совсем не прост, а ее шутливый (провокационный) вопрос не случаен. Она, как грезила, ощутила «грозного» Сеньку:
От поясницы до подколенок жгло её и рвало – за вины небывшие, за будущие, чтоб их не было, за никакие вины. В покор.
Измена, которая привиделась Арсению и за которую он воздал поркой, – ход ложный. Но появление его закономерно – множество солдаток не сумели снести одинокую долю, множество семей было порушено или изломано именно так. Да, за Катёной вины нет, а Арсений, освободившись от томивших душу подозрений, жене поверил (и полюбил ее пуще прежнего), а «она, поплакивая, еще доплакивая, улыбнулась» своему господину: «Буду волю твою знать» (36).
Катёна с Арсением действительно счастливы, что подтверждает вершащая главу пословица: «КАК ЛЮБОВЬ ДА СОВЕТ, ТАК И НУЖДОЧКИ НЕТ». Но, во-первых, игра Катёны была своевольно рискованной, что знаменует сдвиги в традиционном укладе. Во-вторых же, ложный ход все-таки срабатывает. Тени других – искалеченных войной – судеб ощутимы и в «каменской идиллии». Разумеется, есть верные жены и хоть «грозные» (горячие, измотанные разлукой и похабными разговорчиками, готовые вспыхнуть), но справедливые и добрые мужья. Но есть и другие. В таких же деревнях. Да и в самой Каменке.
Во втором блоке «каменских» глав благополучная и основательная Агаша Плужникова (вышла замуж за крепкого во всех смыслах немолодого мужика, «солдаткиной» доли избежала, на опасные выдумки, вроде Катёниной, едва ли пускается, справно ведет роль хозяйки, в нужный миг напускается на «городского», словно тот один в росте цен виноват, чем удачно подыгрывает мужу) изобличает четырнадцатилетнего купеческого сынка Колю Бруякина: «со взрослыми бабами спознался». Для Колиного отца это – новость, но смотрит он на сыновние выходки снисходительно. И даже не без одобрения. Рановато, конечно, но «пусть скорей мужиком станет, скорей и помощником». Да и сам Бруякин-старший «близ этого возраста стал шарить по бабам». Понятно, что распутство на деревне не в 1914 году завелось, но есть какое-то неуловимое различие между прежним и новым греховодничеством. Не случайно, «шалости», которым научила Колю Маруся-смуглянка, томящаяся, «как все солдатки»,[34]34
Томятся все (если не касаться патологических случаев), но ведут себя солдатки неодинаково. Тут уместно вспомнить историю няни Воротынцевых, у которой после кончины мужа (вдруг стал солдат Иван Тихонов «не жив», хотя «войны никакой не было») вся «личная жизнь» кончилась. Совсем молодой была, легко могла бы выйти замуж, родить сына, взамен Архипушке, который вскоре последовал за отцом, а провековала весь свой век в людях, при чужих детях (18).
[Закрыть] названы «адскими», описание их любовных игр («Она и раздеваться ему не давала самому, всё снимала сама и целовала, где хотела, и повелевала им, как только ей желательно, и без устали теребила, и всячески наслаждалась») кажется свернутой цитатой из Федора Сологуба (эпизоды Саши Пыльникова и Людмилы в «Мелком бесе»), а демоническая энергия Маруси передается ее избраннику («как будто и девки в нём что-то почуяли»), которому захотелось «лихой, заблудной дороги».[35]35
Впрочем, декадентский рисунок эпизода (соотносящий его с рядом петроградских сцен) заземлен другой скрытой цитатой. Сквозь «Уже очень ему досаждало, что отец всё слал его в земскую школу, и переростком. И никак он там не справлялся кончить науки» (45) отчетливо слышится чистосердечное признание «героя на все времена» Митрофанушки Простакова: «Не хочу учиться, хочу жениться».
[Закрыть] По этой дороге уже двинулась компания Мишки Руля, «первого дикого озорника, драчуна и героя», история о похабной проделке которого заключает главу. Не важно, действительно ли потешился Мишка с Липушкой в бане или попусту бахвалится. Важно, что брёх вызывает восхищение, что парни усваивают «поучение» Руля, перекликающиеся с болтовней Чернеги: «Вот так, ребята, когда женитесь – своим бабам не верьте. Холостой всегда близ них поживится» (45).
Стародавняя дикость (забавы парней над девками, помянутые в связи с переживаниями Катёны – 36) «обогащается» новыми «городскими» мерзостями, а война, обезмужичившая деревню и сделавшая всякого парня потенциальным смертником (рекруту и в старину дозволялось и даже полагалось куражиться), тому сильно способствует. Череда праздников в Каменке (Арсений пришел домой под Казанскую) обрывается указом от 23 октября о призыве «ратников второго разряда в возрасте от 37 до 40 лет, и всех пропущенных предыдущими призывами. И первый день призыва – завтра, 25 октября» (вновь роковая дата). А
…на днях… будет указ о призыве 98-го года рождения. Брать будут к весне (как раз революция объявится. – А. Н.), а распубликуют ноне.
Это что ж, и до девятнадцати годков не допустят, ране того?
Если мужики могут слабо утешиться тем, что загребут вместе с путными парнями Мишку Руля, то читатель с печалью догадывается, как этот прохвост «повоюет» в пору стремительного пореволюционного развала армии, каких чудес натворит в надвигающейся гражданской войне (хоть у красных окажется, хоть у белых, хоть у зеленых). Короткая счастливая побывка Арсения пройдет под бабье голошенье, и он, пощаженный пулей, дважды Георгиевский кавалер, изрядный хозяин, добравшийся наконец-то до своей ненаглядной Катёны, одним словом – счастливец, чувствует вместе со всеми: «Нету жизни. Не дают устояться» (46).
Не случись революции, может, вырос бы Арсений в хозяина не хуже, чем Захар Томчак. Оставаясь в мужицкой сфере, поднимемся на ступень выше – к селянам, основательно разбогатевшим (сцены в доме Плужникова и в экономии Томчака взаимоориентированы и в ином плане, о чем будет сказано ниже). О неудовлетворенности Ирины жизнью уже говорилось, но и Романа тяготит его «образцовая» жена:
И умна Ирина. И преданна. И молода. И красива. Для представительства, для показа, для путешествий – лучшей жены не придумать, – все любуются, все завидуют. Но до чего обманчива бывает эта показная красота – а чего-то, чего-то нет нутряного, живого, задевающего, какое бывает и в дурнушке в затрёпанной юбке. И если б этим одним владела ты, голубушка, – не надо бы ни всех твоих мудростей, ни винчестера, ни Общества Четырнадцатого Года.
(60)
Брак заключен правильно, о возможной неверности жены можно говорить только в шутку, мечтательные причуды Ирины должны бы вносить в размеренное существование толику пикантности, но любовью в семье и не пахнет. (Только ли потому, что Роман – человек неприятный? Или в его невысказанных укорах жене есть какое-то зернышко правды? Слышится ведь тут что-то, похожее на сетования Феди Протасова, который не чувствовал в своей добродетельной жене «изюминки».) Формальное соблюдение старого порядка счастья не дарит. Да и трещит этот самый порядок. Овдовевший сын властной старухи Дарьи Мордаренки (перед которой вроде бы все трепещут) взял да
…привёз себе вместо жены – шансонетку, с тех пор к нему в гости семейные не ездили, а та принимала гостей в кружевах шантиль, под которыми одно трико.
Была ли она именно шансонетка, пела ли когда где песенки, Ирина не знала точно (опять не существенно, правда или пакостный слушок; может, тут настоящее чувство к «чужачке», которая ни в чем не грешна, а просто не по обычаю одевается. – А. Н.), но этим собирательным отвратительным словом «шансонетка» она обозначала и припечатывала всю категорию непорядочных женщин, разбивавших семейные устои.
(60)
Было б в своем доме ладно, не занимала б Ирину «шансонетка». Но в доме, где свекор со свекровью на невестушку не надышатся, где всего в изобилии, где есть досуг читать теософские книги и фантазировать о переселении душ, где и муж формально ничего дурного жене не делает, в роскошном этом доме – не ладно. И потому (а не только из-за где-то гремящей войны, уберечься от которой изо всех сил, к стыду Ирины, стремится ее муж) степные костры (жгут бодылья подсолнуха) оборачиваются устрашающим видением: «будто это стали на ночлег несчётные кочевники, саранчой идущие на Русь» (60).
Плохо, когда нет семейного тепла. Но когда устоявшаяся жизнь (в которой это тепло было – и сейчас слабо дышит) сминается военным укладом, еще хуже. Самая больная точка неспешного и тоскливого разговора стариков в литейке Обуховского завода – взбесившиеся цены, искорежившие жизнь их жен:
…Те денежки на прилавок выкатывать реберком – бабам, не им. Вот иде сердце отрывается.
– <…> Выкатывать! Ещё до того до прилавка достойся. Мы вот пошли на работу, и тут в суше, в тепле, в кооперативной столовой пообедали. Называется лишь – работа, а всё ладом. А бабе – платок обматывай потеплей да иди под морозгою стой – и два часа, и три, и ещё дождёшься ли. За свои деньги. А малые – с кем? И дом разорён.
Говорил Евдоким Иваныч с той сроднённой сочувственностью к жене, какая только к старости приходит, когда сам в её шкуру влезаешь.
(32)
Впервые увидев в Москве, как, «загораживая проход по тротуару, скопились и стоят странно выстроенные в затылок друг другу люди разных возрастов, больше женщины», и получив объяснение извозчика («хвосты»), Воротынцев сокрушается: «Это и Алине так достаётся?» (13). Полковничьей жене достаётся, конечно, меньше, чем бабе Евдокима Иваныча и прочим рабочим женкам. У нее прислуга есть («Са-ма? Ещё б я стояла! Что бы мне тогда оставалось в жизни! Мне – пять часов ежедневно надо просидеть за роялем!» – знала бы она, что ждет в уже недалеком, но зато очень долгом будущем почти всех российских женщин, включая пианисток!), но на бешеный рост цен Алина жалуется (11). И ведь не только цены и очереди. Заметил в Москве Воротынцев «чего никогда не бывало: женщины – трамвайные стрелочницы. Вагоновожатые, кондукторы. И вместо дворников. И промелькнула девушка в красной шапке посыльного» (13). Нам, с детства привыкшим видеть не только кондукторш, дворничих и почтальонш, но женщин, вкалывающих – гробящих себя – на земляных или железнодорожных работах (в мирное время, не в лагерной зоне!), необходимо усилие, чтобы понять, чему изумляется Воротынцев.
Обида за мерзнущих в очередях баб, которым, может, и хлеба не достанется (да, разогретая демагогической ложью агитаторов, да, вырвавшая из треклятых хвостов далеко не всех обывателей, да, подстегнутая привычкой рабочих безнаказанно бастовать), стала толчком к разгрому хлебных и мелочных лавок на Петербургской стороне 23 и 24 февраля 1917 года. Рабочие повалили на улицу. Фабричные девки принялись заговаривать зубы солдатам. Подростки ринулись озоровать – уж если взрослые буянят, то как этим, давно без догляда живущим, стекла не бить? Именно так в Петрограде начались события, вскоре названные Февральской революцией (М-17: 7, 10).
Но и в мире пролетариев интимные чувства не сводятся к «домашним» (жалости к бабам и досаде от нарастающего бытового разлада). Когда Кеша Кокушкин срывает наметившееся взаимопонимание между рабочими и инженером Дмитриевым (рассказ о траншейной пушке, просьба работать сверхурочно), крикнув (по наводке манипулятора-большевика):
А кто начинал – тот пусть кровь и облегчает! А нам – Рига не нужна, пущай её немцы заберут!! —
(33)
главной наградой за «подвиг» стали не похвалы «товарищей», а рукопожатие «товарища Марии»:
Да бережно как пожала, или нежно как – зашлось кешино сердце, голова закружилась. Барышня такая ему и издали не снилась, не то что прикоснуться.
(34)
Для такой барышни и в другой раз инженера отбреешь, и бастовать с охотой будешь, и на митинг побежишь. Барышня, стесняющаяся дорогой шубки, отнюдь не «соблазняет» Кешу по партийному долгу. Напротив, она восхищена «героем». Сама бы в него втюрилась, если б не было рядом еще более героического «товарища Вадима» (Матвея Рысса), «настоящего» революционера, составляющего огненные листовки, ставшего совсем своим в рабочей массе, связанного аж с БЦК, вдохновенно рассказывающего, как двигаться в светлое завтра и каким прекрасным оно будет. «Товарищ Мария» – «в миру» Вероня Ленартович, та самая, чья «бессознательность» выводила из себя ее тетушек-радикалок в предыдущем Узле (А-14: 59). За два года девушка переменилась, вышла на «правильную дорогу» (в отличие от своей отрешенной декадентской подруги Ликони). Взяли свое наставления говорливых старушек и общая интеллигентская атмосфера. А может быть, и что-то еще. «Она касалась этих честных рабочих труженых рук почтительно-благоговейно, а ей пожали крепко, железно, больно – и радостно». Конечно, Вероня искренне хочет быть «хоть немного полезной и достойной этих людей и этого благородного движения: кончать войну! Кончать все войны на земле, раз и навсегда! И все смертные казни! Никого не угнетать! Всех освободить от покорения!» Но есть тут и девичье восхищение «железностью», решительностью, силой:
…замкнутость партийной тайны и собственная неуклонная твёрдость Матвея сливались для Вероники в одну единую мужественность. Эта партия – не шутила, не болтала, лясы не точила, и так сильно отличалась от того расслабленного, бездейственного окружения, где Вероника прозябала до сих пор.
И не разберешь, кого любит Вероня – большевистскую партию или Матвея Рысса. Партия – это Матвей, а Матвей – партия. Как Вероня стала манком для рабочего юнца (сколько же таких сюжетов было!), так и Матвей – для барышни в изящной шубке (и таких историй не меньше). Когда Матвей неожиданно начинает жадно целовать Веронику, не обязательно предполагать, что студент-агитатор хочет крепче привязать уловленную курсистку «к делу» или вульгарно «попользоваться» заболтанной прежде красоткой. Его напряженность на возвратном пути может объясняться и смущением, понятной юношеской зажатостью, стремлением «выдержать марку», не рассиропиться. Писатель не дает однозначных мотивировок, ибо и чувства персонажей – путаные. Существенно, однако, что Вероне
…не было… ни холодно, ни изогнуто, ни колко.
Счастливо.
(34)
Сцена напоминает не действительно страшный эпизод падения, нисхождения в «чёрный колодец» Вари (А-14: 8), а раскрытие друг другу Воротынцева и Ольды, которому тоже предшествовал долгий разговор о политике (Андозерская ведь тоже «улавливает» и наставляет полковника):
И он стал её просто целовать, в губы, в губы, которых насмотрелся в этот вечер, всё более запрокидывая, всё более запрокидывая на качельной доске – и шляпка её свалилась, покатилась, а тут ещё ветер.
(27)
Даже шляпка Ольды ведет себя почти как сбившийся платок Верони.
Две мельком очерченные любовные (скорее – предлюбовные) истории, связанные с «классовой борьбой» на Обуховском заводе, корреспондируют с другими интимными сюжетами «Октября…». Эпизод «Вероня – Матвей» заставляет вспомнить историю жизни Нины Ободовской, урожденной Бобрищевой-Пушкиной, которая раз и навсегда решила: «Замужество – это судьба». Полюбив Петра Ободовского, Нуся порвала со своим кругом, оставила аристократические привычки, отказалась от каких-либо житейских радостей. Её не смущает ни бедность, ни ссылка, ни эмиграция, ни то, что мужа она видит мало, а «просвещать» жену Ободовский считает лишним («Я слишком уважаю тебя как личность, чтобы навязывать тебе свои взгляды. Вырабатывай сама»), ни даже отсутствие детей. Нуся бесконечно любит Петра (и он платит ей тем же: «Ты моя жена, это всё равно что я сам») и следует за ним до конца. Предчувствуя, «что ожидает их обоих на родине страшный конец» (24).[36]36
Страшный конец – участь многих персонажей «Красного Колеса», но Солженицын далеко не всегда сообщает о нем читателю. Иногда в том нет необходимости – кто же не знает, что сталось с царской семьей. Потому тревожные раздумья государыни о будущей участи дочерей (64) воспринимаются в двойном свете. С одной стороны, читатель, узнавая о действительно сложных – и редко обмысливаемых – матримониальных проблемах царского дома, сочувствует Александре Федоровне, а еще больше – великим княжнам, которым труднее, чем кому-либо, достичь человеческого счастья. С другой – помня о екатеринбургском убийстве, невольно воспринимает предреволюционные раздумья царицы как мелкие, недальновидные, «барские». Об этом ли думать надо было? Но ведь и об этом – тоже. Материнские чувства невозможно отменить, даже если страна катится в пропасть, а политического ума Бог не дал! Ничего не говорится и о страшном конце Шингарёва, убитого пьяной матросней в больничной палате ночью с 7 на 8 января 1918 года. Меж тем хотя дикая расправа с бывшими министрами Временного правительства (вместе с Шингаревым погиб Ф. Ф. Кокошкин) потрясла Россию, в 1970-е годы, когда шла работа над «Октябрем…», факт этот был известен немногим. (Да и сейчас так.) Правда, описывая думское заседание (23 февраля 1917), Солженицын называет выступавшего там Шингарёва «закланцем нашей истории» (М-17: 3'), но намек его далеко не всем внятен. И о самоубийстве генерала Крымова (в пору так называемого «корниловского мятежа») сообщено только в конспективном изложении Узла Шестого («Август Семнадцатого»), но не там, где Крымов появляется (А-14: 16) или значимо упоминается (42). А вот о гибели удивительного инженера-оборонца-революционера сказано не только в «Замечаниях автора к Узлу Второму» (здесь назван прототип – Пётр Акимович Пальчинский), но и в тексте: «и расстреляли чекисты Ободовского» (31). Это (в скобках данное) сообщение введено в «гвоздевскую» главу, входящую в ту «сплотку», которая начинается на рабочем месте Ободовского (Дмитриев обсуждает с ним отказ обуховцев от сверхурочных), а завершается поцелуями Матвея и Верони.
[Закрыть]
Другой вариант счастливого супружества (и тоже с революционным отсветом) – большая (пятеро детей) семья Шингарёвых, с их подчеркнуто скромным бытом, квартирой на пятом этаже без лифта (думский депутат, один из лидеров влиятельной партии), помощью из скудных средств трем племянникам, капустой со школьного огорода («и квасили сами»), хутором, на котором вся семья (кроме Андрея Ивановича) не только грибы собирает, но и сад с огородом обрабатывает своими руками каждый год с весны до осени (20, 21). И здесь муж с женой живут душа в душу. Прямо это не декларируется, но весь уклад дома, радость, с которой Шингарёв смотрит на вышедших к столу дочек, естественность, с какой хозяйка принимает многочисленных и не слишком-то нужных гостей, свидетельствуют о подлинной любви, без которой народному заступнику было бы куда труднее тащить свой воз. Да и человеческая широта Шингарёва, обнаружившаяся в его рассказе о Столыпине (политическом враге, в котором Андрей Иванович, несмотря на свою партийность, увидел много доброго и память эту сохранил – 21), его непоказное народолюбие, не позволяющее забыть Ново-Животинное, о бедах которого он рассказывает Воротынцеву (20), его открытость и сердечность неотделимы от общего духа задавшейся семьи, настоящего живого и теплого дома. А женские чувства и домашние заботы Ефросиньи Максимовны не противоречат ее «общественному» складу:
У Фрони – дети, у Фрони – хозяйство, у Фрони – гости пересидевшие, но Фроня – жена своего мужа и знает вместе с ним: увы, Это неизбежно, Это – будет всё равно, к Этому идёт, Это – у всех на уме. Была же и Фроня когда-то курсисткой, и помнит давнее-давнее-давнее, еще – как ожидали Ту.
(26)
«Это» здесь не любовь (как во многих других случаях), а революция. Страшная (для нас, в какой-то мере для Воротынцева и Андозерской, но не для остального общества, собравшегося в квартире Шингарёва) ретроспектива Той – революции 1905 года – разворачивается в томительные минуты ожидания инженера Дмитриева, сообщившего по телефону Ободовскому смутную весть. «Вы знаете, господа… Как бы не… Кажется… Началось!» (25). И не только младшая из околокадетских дам-активисток, шепотом декламирующая экстатические стихи Волошина, старшая дама, уверенная – «поезд не опоздает, билет у неё в кармане», приват-доцент, озабоченно, но оптимистично просчитывающий варианты «движения» (не поезд движется – катит красное колесо!), Ободовский, в котором инстинкт революционера сейчас переиграл опыт инженера, Нуся, неколебимо спокойная (вопреки прежним предчувствиям), ибо «все невзгоды уже в прошлом видены. Как Ту переплыли, переплывём и эту», взвихрённая (не столько «вестью», сколько приближением «вестника») Вера Воротынцева, но и домовитая хозяйка, горячо любящая своих детей мать, просто немолодая и неглупая женщина, не видит (не помнит, знать не хочет) того – в деталях представленного – ужаса, который и назвать можно лишь всеохватным местоимением – Это. О возвращении которого (пока – «черновом», до Февраля – еще четыре месяца, до захвата власти большевиками – целый год) повествует добравшийся наконец до шингарёвской квартиры инженер, чей рассказ переходит в экранный показ октябрьской «репетиции» Февраля.[37]37
Эпизод ожидания революции (в октябре 1916 года – не выявившейся) отзовется в следующем Узле. 26 февраля в квартире Шингарёва нежданно появится Струве и скажет: «Надо идти». Ибо что-то начинается. Шингарёв двинется с ним пешком (трамваи уже не работают, извозчиков нет). Оглянет с Троицкого моста великолепную (тщательно прописанную) панораму города, празднично освещенного зимним солнцем. Выслушает монолог Струве о свободе, в которой должна звучать вся русская история. «Иначе это не свобода будет, а нашествие гуннов на русскую культуру». Почувствует что-то особенное. «Однако – нигде ничего не происходило <…> Нигде ничего не происходило – и жаль. И – жаль было Шингарёву: опять победила власть, и опять потащит Россию по старой колее» (М-17: 44; эпизод подробно рассмотрен в Главе III). Знал бы он, как страшно ошибается. Куда сильнее, чем его преждевременно обрадовавшиеся гости четыре месяца назад.
[Закрыть] Погрома, остервенения, злобы, хлынувшей на улицы дикости никто не видит.
Вечер в квартире Шингарёва – вершинная «романная» точка. Здесь завязывается чувство Георгия и Ольды, здесь проясняется сюжет несбыточной любви Веры и Дмитриева, а истории состоявшихся (хотя и глубинно различных) семей Шингарёвых и Ободовских оттеняют те нарушающие обычный ход жизни и требующие нравственного выбора «особенные случаи», что выпали на долю и сестре, и брату Воротынцевым. Но сложно организованная система запечатленных в этой сплотке глав (20–26) любовных коллизий и семейных историй ни на миг не позволяет читателю отвлечься от войны. Именно у Шингарёва Воротынцев, вдохновленный присутствием странной и уже влекущей «профессорши», решается выговорить – почти сполна – свою страшную правду о том, что творится на фронте (22), и о революции, ожиданием которой захвачены хозяева и большинство гостей. И не только в описываемый вечер, но многие уже годы. Потому Шингарёв (лучший из кадетов!) не может не «нагонять параллелей» меж современностью и французской ситуацией конца XVIII века (эта вошедшая в общественную привычку игра аналогиями настраивает на единственный – вообще-то не радующий и самого Шингарёва – революционный исход). Потому Родичев упоенно пересказывает легенду о Сивилле и скудоумном царе Тарквинии, который не хотел «читать Книгу Судеб в её естественном порядке», а потому был обречен дорого платить «за страницы развязки» (20). «Дорого платить» совсем скоро придется не только «ца-арю» (понятно, почему Родичев с таким наслаждением растягивает титул Тарквиния), но и тем, кто полагает себя и своих единомышленников сегодняшними аналогами Сивиллы. Общество (символический сгусток которого и представлен гостями Шингарёва) тоже не хочет и не может читать Книгу Судеб в естественном порядке. Потому так будоражит (в общем-то – весело) собравшихся еще невнятное (но желанное!) известие о каких-то беспорядках. Призраков 1905 года, которые фактически врываются в мирную квартиру, здесь не замечают. Не могут угадать, что нахлынувшие воспоминания (в том числе смутные, те, которые спрятать от себя хочется) сигнализируют о близящемся будущем. Короткое (на сей раз) «торжество улицы» дано в «Октябре Шестандцатого» не самостоятельным эпизодом, но в «уютном» контексте неустанного интеллигентского словоговорения – того самого, что год за годом раскачивало страну.
Вечеру у Шингарёва предшествует обзорная глава «Общество, правительство и царь – 1915» (19'), в которой подробнейшим образом описан один из последних эпизодов многолетнего противостояния, в итоге погубившего Россию. Сюжет 1915 года сложно отзывается в ключевом политическом эпизоде Второго Узла – рассказе о заседании Государственной Думы 1 ноября 1916 года, где Милюков произносит свою афористически провокационную сентенцию «Глупость или измена?» (65'). Осенью 1915 года Государь сумел проявить необходимую твердость, но сделал это излишне резко, вновь оттолкнув общество, что тоже отмечено Солженицыным: «Нельзя отсекать пути доверия с обществом – все до последнего» (19'). Год с небольшим спустя высшая власть позволила себе «не заметить» милюковскую дутую инвективу, которая тут же стала предметом всеобщих толков, большей частью – одобрительных, а если и раздраженных, то не на одного лишь зарвавшегося оппозиционера, а и на пришипившиеся, словно и впрямь виноватые верха. Ужас случившегося не только в том, что Милюков опирается на большевистскую фальшивку, а все его выступление, по слову Варсонофьева, «не речь государственного человека, а какой-то перебор сплетен» (73). Былой союзник Милюкова, ставший его убежденным оппонентом, Варсонофьев отмечает ничтожность речи, в которой нет глубины (тут же переходя к общей – в том же ключе строящейся – оценке кадетского лидера[38]38
Презрительная оценка Милюкова-историка звучит и из уст Андозерской (29); есть основания полагать, что суждения эти близки автору, но все же следует учитывать, что высказывают их персонажи, наделенные определенным идеологическим кругозором и конкретными человеческими чувствами. Андозерская и Варсонофьев не могут не проецировать Милюкова-политика на Милюкова-историка (все же не случайно бывшего любимым учеником Ключевского), не могут не испытывать толики ревности «неудачников» к успешливому «карьеристу». Укажу еще на две сходные ситуации. Когда Государь иронично оценивает исторические труды великого князя Николая Михайловича, нельзя игнорировать личные мотивы этого мнения. Во-первых, император предчувствует неприятный разговор и давно дядюшкой раздражен (не без причины); во-вторых, он сам увлечен русской историей. Но не иметь «лучшего предмета для чтения и размышления» и заниматься наукой суть разные вещи. Николай Михайлович ведет разговор не лучшим образом (впрочем, видим мы его глазами Государя), но и в этой беседе обнаруживает чутье историка. Его сравнение безукоризненно умеющего себя вести и располагать к себе людей, но мнительного, склонного менять решения и откладывать важнейшие проблемы на потом Николая II с другим «великим шармёром», Александром I (69) совсем не бессмысленно. (Напомню, что «уклончивая» политика Александра Благословенного – как в отношении тайных обществ, так и в вопросе о престолонаследии – поставила Россию на грань смуты. Великий князь Николай Михайлович занимался преимущественно Александровской эпохой. И довольно успешно.)
Когда отец Северьян (высказывающий немало глубоких мыслей) утверждает, что Толстой «никогда в православии не был», – это тезис спорный, но его ссылка на «Войну и мир» просто неверна: «Уж такую быль богомольного народа поднимать, как Восемьсот Двенадцатый, – и кто и где у него молится в тяжёлый час? Одна княжна Марья?» (5). Пережив «курагинскую» историю и длительную болезнь, говеет и молится Наташа; причастившись, «она в первый раз после многих месяцев почувствовала себя спокойной и не тяготящеюся жизнью, которая предстояла ей». Следующая глава посвящена обедне в домовой церкви Разумовских, где, слыша возглас священника «Мiром Господу помолимся», Наташа думает: «Мiром, – все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью – будем молиться». Перед Бородинским сражением поднимают икону Смоленской Божьей Матери, на которую «однообразно жадно» смотрят солдаты и ополченцы, серьезное выражение чьих лиц поглощает все внимание Пьера. Молится с детской страстностью в Воронеже Николай Ростов, пусть и «умиленный воспоминаньями о княжне Марье» – и его молитва, действительно, не о пустяках, он просит Бога (сам того не вполне понимая) не столько о разрешении своих отношений с Соней, сколько о счастье всей будущей жизни. Денисов, возглавив партизанскую партию, не только надевает чекмень и отпускает бороду, но и носит на груди образ Николая-чудотворца – и это не кажется барским маскарадом, подыгрывающим народным чувствам. Услышав об оставлении Москвы французами, Кутузов «повернулся <…> к красному углу избы, черневшему от образов.
– Господи, Создатель мой! Внял Ты молитве нашей… – дрожащим голосом сказал он, сложив руки. – Спасена Россия. Благодарю Тебя, Господи! – И он заплакал» (Толстой Л. Н. Указ. соч. Т. 6. С. 84, 87, 222–223; Т. 7. С. 35, 160, 131). Не касаюсь здесь более сложных ходов (вера Платона Каратаева и ее воздействие на Пьера). Захваченный полемикой с действительно антицерковным учением Толстого, отец Северьян читает (помнит) «Войну и мир» весьма пристрастно.
[Закрыть]), но даже он – настоящий мыслитель, яснее всех персонажей «Красного Колеса» слышащий таинственный ход истории, – не думает о том, что сам факт произнесения милюковской инвективы (при всей ее бездоказательности и мелочности) – симптом чудовищной опасности, что «если под основание трона вмесили глину измены, а молния не ударяет, – то трон уже и поплыл» (65'). Не замечает и когда переходит от презренной «газетной» суеты к размышлениям о самом главном:
Пять десятков? шесть десятков? семь десятков лет? надо прожить, чтобы понять, что жизнь общества не сводится к политике и не исчерпывается государственным строем.
(73)
В высшем смысле Варсонофьев бесспорно прав. Но правота его оказывается парадоксальным образом сопряженной со слабостью «звездочёта», а смирение перед таинственным ходом истории в октябре 1916 года свидетельствует не только об умудренности, но и о губительной усталости. Усталости от жизни общероссийской. И, видимо, незадавшейся личной, на что есть приглушенные намеки в зачине главы.
Особая значимость обзорной главы «Общество, правительство и царь» (19') для всей конструкции Второго Узла не отменяет ее частной функции – глава эта объясняет, что же происходит в главах непосредственно за ней следующих, действие которых разворачивается октябрьским вечером в квартире Шингарёва, что объединяет большинство новых случайных знакомцев Воротынцева, в чем смысл и каков генезис тех установок, которые – поверх личных особенностей совсем несхожих людей – определяют общее мировосприятие (около)кадетской интеллигенции. Сходно самое начало «воротынцевской» линии (полковник срывается с фронта, ощутив необходимость вмешаться в «большую политику») предварено обзорной главой «Кадетские истоки», повествующей о том, как «российская власть и российское общество, с тех пор как меж ними поселилось и всё разрасталось роковое недоверие, озлобление, ненависть, – разгоняли и несли Россию в бездну» (7'). Содержание этих очерков неуступчивого противоборства (общего, полувекового, и частного, характеризующего лишь один эпизод) позволяет почувствовать символическую суть «обычного вечера» у Шингарева и понять, почему идеализированный фантом «спасительной» революции закрывает для совсем не дурных и не глупых людей ее подлинный – уже явленный в 1905 году – неистовый и безжалостный лик. Что ж, если интеллигенция и в дни собственно революции способна отрицать ее свирепость, подлость и бесчеловечность, полуоправдывая отдельные – все-таки неприятные, но что ж поделать? – «эксцессы» (все это мы многажды увидим в «Марте Семнадцатого»), то в относительно, хоть и обманчиво, «спокойном» октябре 1916 года еще легче не видеть того ужаса, который несет восстание городской массы – разозленной войной, растравленной агитацией, чутко улавливающей и тут же переиначивающей на свой салтык веяния, господствующие в «цензовых кругах». Его и не видят гости и хозяева квартиры на Большой Монетной. Не только иронично обрисованные типовые персонажи, но и наделенные человеческой неповторимостью самые лучшие на свете жены, которые смотрят на мир глазами своих супругов.[39]39
Еще одна версия семейного счастья представлена домом Смысловских, куда Воротынцевы приходят, дабы отвлечься от ворвавшегося в их жизнь разлада (узнавшая об измене мужа Алина не может провести вечер в своем «гнёздышке»). Удивителен (слово то ли Воротынцева, то ли автора) состав дружного семейства, обретающегося, как положено хорошему московскому дворянству, в одном из арбатских переулков («близ Сивцева Вражка, прямо против церковушки Афанасия и Кирилла»): «тут не было ни одной брачной пары, ни одного ребёнка, а – незамужняя сестра и, младше её, трое холостых, совсем не молодых братьев», но трое остальных (женатых) «приезживали гостить с внуками» (58). Здесь политические убеждения значат много меньше, чем профессиональная общность (артиллеристы и математики), музицирование, всякого рода увлечения (от кулинарии до фотографирования) и, разумеется, семейственная приязнь. Да, об общественных вопросах за столом говорят, явно левую курсистку принимают приветливо, но уже при первом появлении Алексея Смысловского (в Первом Узле) сказано, что покойного тестя своего, генерала Малахова, подавившего в 1905 году московское восстание, он «очень уважал» (А-14: 21). Теперь же выясняется, что сын Алексея «и монархист, и националист (как вспомнившийся Смысловскому Нечволодов, «вояка – замечательный». – А. Н.), и недоволен отцом» (58), но почему-то это недовольство не кажется слишком горячим. Странная, обаятельно хаотичная, но счастливая семья Смысловских ненавязчиво сопоставлена с обаятельно правильной (и совершенно единой) семьей Шингарёвых. У «чужих» (кадетских интеллигентов) Воротынцев приметил живое и доброе (в самом Шингарёве, в славных девочках); у «своих» столкнулся с неожиданностями (офицеры подтрунивают над монархизмом и сочувствуют «общественности»). Следствием ознакомительно-делового визита и напряженно тревожного вечера (внутренний спор с собравшимися во время рассказа о войне, обманчивый сигнал о начале смуты) стала неодолимая и поднимающая дух любовь к Ольде. Вечер, который должен был успокоить Алину (и вроде бы удался), в итоге только растравил ее душевную рану, после него она и сорвалась в Петроград: «посмотреть на твою красавицу-интриганку» (59). По другому семейство Смысловских (круг Воротынцева) соотнесено с окружением Алины. Предшествовавший отъезду Воротынцева в Петроград музыкальный вечер у Мумы лишен семейной теплоты, пропитан «политическими» сплетнями, аффектированно современен и претендует на изыск (11). Мы знаем, что Сусанна Корзнер замужем за известным адвокатом, что у них есть восемнадцатилетний сын, что у Корзнеров роскошная квартира, автомобиль, ложа в Большом театре, что здесь придерживаются левокадетских (если не еще более радикальных) взглядов, что Корзнер грозит «абсолютно безнадёжной» власти, которая ничего другого понять не может, «кулаком» (8), а Сусанна остро переживает «еврейский вопрос» и гордится своим народом (9), но о личных отношениях супругов не говорится ни слова – это «никакая» семья, хотя Сусанна упоена своим положением и поминает легенду о кольце Поликрата. Сопоставив дом Смысловских и близкий круг Алины, понимаешь, что расхождение Воротынцевых и до роковой встречи Георгия с Ольдой было достаточно серьезным. Более глубоким, чем казалось что-то смутно угадывающей Алине.
[Закрыть]
В семейном единстве – счастье этих прекрасных (при всех заблуждениях!) женщин и их мужей. Счастье, которое скоро будет разрушено – во многом тщанием самих счастливцев (что тоже сказано в «шингарёвских» главах), но пока – сущее и полновесное. Счастье, которого лишены тоже достойные, порядочные и умные люди – генерал Свечин и лидер октябристов Гучков.
Свечин специально приезжает в столицу из Ставки, чтобы порвать с женой, с которой даже встречаться не стал. На разрыв «и дня много», – заявляет он Воротынцеву, который будет тянуть свои мучительные отношения (разъяснения, успокаивания, попытки перемолчать беду или спрятаться от неразрешимого), по крайней мере, полгода.[40]40
Воротынцев прощается с женой на могилевском вокзале 5 мая 1917 года. Судя по некоторым намекам – навсегда. Но намеки эти сознательно затуманены автором. Нельзя понять, по воле ли Воротынцева расставание окажется окончательным, доведет ли дело до конца Алина (Георгий вспоминает ее слова «Нам не жить» и соглашается: «она угадала») или за супругов все решит судьба, то есть бушующая вовсю революция. «Со всем, со всем нам придётся расстаться: и друг с другом, и с этим последним солнцем, и с этим городом, и с этой страной.
И может быть – скоро…» (А-17: 173). В завершающей «Красное Колесо» главе Воротынцев, пытающийся с могилёвского Вала разглядеть грядущее, Алину не вспоминает (А-17: 186).
[Закрыть] Правда, Свечин не меняет «шило на мыло» (бабу на бабу). Он запретил жене принимать Распутина, та не послушалась. Поскольку «женщина – или понимает с первого предупреждения или безнадёжна», вопрос исчерпан.
Написал записку, сложил вот этот чемоданчик (выше сказано: «настолько маленький, что <…> даже генерал мог нести его, не противореча уставу. – А. Н.), всё остальное – ей. <…> Сыновья – оба в кадетском. Дальше в училище пойдут.
(38)
Решимость, конечно, впечатляет, но какой же глубокой была пропасть между мужем и женой, как же мало должен был ценить эту – даже по имени не названную – женщину, мать этих – тоже оставшихся безымянными – мальчиков Свечин, чтобы так резко обрубить концы? Экскурса в семейное прошлое нет, сам по себе склад характера «бешеного муллы» (как прозвали Свечина сослуживцы) ничего не объясняет (для гнева должны быть внутренние причины, тем более у человека, который отменно умеет нрав свой сдерживать). В том ли дело, что жена и прежде жила своей жизнью, а генерал, сжав зубы, терпел ее? Или, напротив, никогда не любил и рад поводу избавиться? Гадательность предыстории делает поступок Свечина еще более жутким. Персонаж, может быть, и считает, что ему теперь будет легче жить и служить царю с отечеством (хотя предстает нам мрачным и раздраженным, а не освободившимся), – читателю в это плохо верится. Какой-то надрыв произошел и со Свечиным. Очень похоже, что его «упертость» в войну, его уверенность в том, что тыловые неурядицы – вздор, победа точно будет за нами, а тревоги Воротынцева о выдохшемся народе, корень которого подрублен (39), стоят не дороже кадетской антиправительственной истерии (да и выросли из старой обиды и закисания на румынском фронте), – обусловлены отсутствием душевного покоя и семейного тыла.
Во всяком случае, примерно так объясняется состояние Гучкова, встреча с которым Воротынцева (и читателя) прямо следует за ресторанным разговором генерала и полковника. Гучков как раз не может – прежде всего, в силу своего общественного статуса – порвать с «женщиной чужой души».
От постоянного семейного разорения – тем отчаянней он занимался и общественной борьбой, даже с лишнею резкостью, лишь бы вырваться куда-нибудь.
Из-за непереносимости жизни с женой под одной крышей рванулся в Маньчжурию и
…не оказался близ Столыпина в его последние, загнанные месяцы, не протянул руки, когда, Бог ведает, и помогла бы она.
И
…в другие поры – веригами отягощала злополучная женитьба, не давая сил вовсе двигаться. Но самое страшное – когда умирал в январе, а жена, оттолкнувши всех сиделок, наконец-то несомненная перед лицом всей общественной России, в смерче почти радостной суеты владела отходящим.
(42)
Взаимная неприязнь с женой, не отмененная даже смертью сына, давит Гучкова не меньше болезни, разогревает его ненависть к царице (что-то метафорическое тут мерцает; если у меня дурная жена, то и у царя – «ведьма»), пришпоривает азарт заговорщика, у которого, в частности из-за того же многолетнего семейного раздрая, сил больше нет. («Он и себя-то на этот заговор волок через болезни и слабость».) Потому и не осудил Гучков Воротынцева, который из-за дня рождения жены (впрочем, не только потому, но Гучков скрытых сомнений частично разагитированного Андозерской полковника не приметил) отказался задержаться в столице, хотя вообще-то обещал содействие в готовящемся дворцовом перевороте:
Чтобы мелкие семейные обстоятельства презреть – ещё надо знать глубину той скользкой ямы, по краям которой не всегда и выбраться.
Сколько таких полудоговоренностей ни к чему не привели? В скольких случаях именно из-за «личных» обстоятельств потенциальных переворотчиков, спешащих упредить (и тем остановить) революцию? Да и самому «главному заговорщику» Воротынцев нужен прямо сейчас, «потому что до Кавказского фронта ему ещё надо было в Кисловодск – лечиться» (действительно – надо, действительно – болен). Так и сложилось:
Толк о заговоре (по всей России. – А. Н.) был – год, а заговора – не было.[41]41
Мотивы болезни Гучкова, семейного разлада, толкающего его на резкие действия, и необдуманности заговора будут развернуты в Третьем Узле. В самый канун событий оставшийся один дома Гучков вспоминает о своей упущенной любви – к великой актрисе Вере Комиссаржевской (Гучков любил ее, но «…велеть – “иди за мной!” – никогда не мог. Не смел» – слишком уважал творческую личность, идущую своей дорогой). Она и сосватала Гучкову (понимая, что у него тоже великий путь, движению по которому решающая свои задача женщина только помешает) любимую подругу – Машу Зилоти, ставшую крестом Александра Ивановича (М-17: 39). Вымогать у царя отречение Гучков бросается еще и потому (конечно, это не единственная причина!), что нет сил переносить мрачную жену (М-17: 326). Уже в вагоне, обсуждая предстоящее нешуточное дело с Шульгиным, он спохватывается: год намереваясь добиться отречения, не выяснил, что говорится о том в «династических правилах», не задумался о прецедентах, не выстроил в уме самой процедуры (М-17: 326). Нездоровье Гучкова – лейтмотив и «Марта…», и «Апреля…».
[Закрыть](42)
Выходит, прав резко решивший семейный вопрос Свечин? Не выходит. То есть лично Свечину, может быть, полегчает (здесь, как и во многих других случаях, Солженицын не ставит точки над i, заставляя читателя колебаться меж «мерцающими» версиями), но оснований для вывода о целительности бесповоротного разрыва, который, дескать, обязательно позволит человеку внутренне распрямиться, «Октябрь Шестнадцатого» не дает. Простых решений в сердечных делах нет и не может быть, хотя люди о том предпочитают не думать. Воротынцев искренне изумляется, услышав от Андозерской суждение, перекликающиеся с раздумьями Варсонофьева о смысле жизни:
– …в делах сердечных нужна твёрдость и решительность несравненно большая, чем в государственных.
– Что-о-о?..
Ну, сморозила!
(29)
Полковник просто еще не понял, какой груз на него уже обрушился. Скоро уразумеет. Но он-то не профессиональный политик, а потому судит о делах политических вчуже. Меж тем люди, всю жизнь свою подчинившие борьбе за власть и на том загубившие душу, тоже мучаются по неподобающим «личным» причинам. Страдает без Сашеньки Коллонтай Шляпников, которого она и сделала пламенным революционером (63). Тоска Шляпникова по все пребывающей за границей Сашеньке (а ведь революция началась – приехать можно) продолжится в «Марте Семнадцатого». Там же – к исходу Узла – возникнет въяве эта сексуал-революционерка (вовсе не намеренная длить отношения с околдованным ею партийцем из рабочих). Задним числом понимаешь, что отсвет Коллонтай уже в «Октябре…» окрасил ряд женских персонажей. Тех, что так или иначе хотят направлять, «огранять» и подчинять мужчин. Желание это присуще столь разным женщинам, как императрица, постоянно наставляющая Государя, Андозерская, не только влекущаяся к Воротынцеву, но и не без любопытства пробующая на нем свои чары (полковник для нее – «камень весомый, но не изошедший падений. Камень нерасщеплённый, но и необработанный» – 25), Ирина Томчак (стесненно, но руководящая мужем), Инесса Арманд (как и Коллонтай, теоретик «свободной любви»), жестоко играющая с Лениным. В несколько ином плане возникают ассоциации с женщинами, ищущими «своего» пути, – будь то Ликоня (в «Августе…» и «Октябре…», но не в «Марте…» и «Апреле…»!) и даже Алина Воротынцева с ее – уже в начале Второго Узла обнаружившимся – стремлением к самоутверждению (8, 11). Все они – при различии социальных статусов, убеждений, характеров, истинных целей, типов отношения к мужьям или любовникам, будущих судеб – существуют «после “Анны Карениной”». Потому так много разъясняет в случившемся с ними (и не только с ними) выход Коллонтай на сцену. «Мартовская» глава о ней начинается словами: «В мире выковалась Новая Женщина», а заканчивается репликой арестованной издательницы «Русского знамени» Полубояриновой, посмотреть на которую (дабы ощутить свое торжество над «женщиной из враждебного класса») направляется большевичка: «Ну, что пришла, потаскуха? Кто такая?» (М-17: 631).








