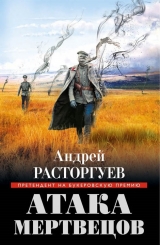
Текст книги "Атака мертвецов"
Автор книги: Андрей Расторгуев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Прежде всего сядемте и устроимся поудобнее, потому что я задержу вас надолго. Возьмите, пожалуйста, это кресло у стола. Вот папиросы. Турецкие. Я бы не должен их курить. Тем более они подарены моим новым врагом, султаном[62]62
Турция вслед за Германией и Австрией вступила в войну против России.
[Закрыть]. Но они превосходны. Да у меня других и нет… Позвольте мне взять карту… И теперь поговорим.
Закурив папиросу и предложив огонь Морису, император задул спичку, аккуратно положив ее в большую хрустальную пепельницу на краю стола.
– За эти три месяца, что я вас не видел, совершились великие события, – перешел он к делу. – Чудесные французские войска и моя дорогая армия дали такие доказательства своей доблести, что победа уже не может ускользнуть от нас. Конечно, я не строю никаких иллюзий относительно тех испытаний и жертв, которых еще потребует война. Но уже сейчас мы имеем право и даже обязаны посоветоваться друг с другом о том, что бы мы стали делать, если бы Австрия и Германия запросили у нас мира. Заметьте, что для Германии действительно было бы очень выгодно вступить в переговоры, пока ее военная сила еще представляет угрозу. Что же касается Австрии, то разве она уже не истощена вконец? Итак, что же мы стали бы делать, если бы Германия и Австрия запросили у нас мира?
Когда-нибудь этот разговор должен был состояться. Так почему не теперь? Мнение правительства Франции на этот счет Морису хорошо известно.
– Вопрос первостепенной важности, – неторопливо начинает он, – это знать, сможем ли мы договариваться о мире и не явится ли необходимым диктовать его нашим врагам. Какова бы ни была наша умеренность, мы, очевидно, должны будем потребовать у центральных империй таких гарантий и таких возмещений, на которые они никогда не согласятся, если только не будут принуждены просить пощады.
– Это и мое убеждение, – с радостью соглашается Николай. – Мы должны будем диктовать мир, и я решил продолжать войну, пока германские державы не будут раздавлены. Но я решительно настаиваю, чтобы условия этого мира были выработаны нами тремя – Францией, Англией и Россией, только нами одними. Следовательно, не нужно конгрессов, не нужно посредничеств. Позже, когда настанет час, мы продиктуем Германии и Австрии нашу волю.
– Какими вы, Ваше Величество, представляете себе общие основания мира?
Минуту подумав, пуская папиросный дым, император ответил:
– Самое главное, что мы должны установить, – это уничтожение германского милитаризма, конец того кошмара, в котором Германия нас держит вот уже больше сорока лет. Нужно отнять у нее всякую возможность реванша. Если мы дадим себя разжалобить, это будет новая война через недолгое время. Что же касается точных условий мира, то я спешу вам сказать, что заранее одобряю все те, которые Франция и Англия сочтут нужным потребовать в их собственных интересах.
Палеологу вспомнился его разговор с графом Коковцовым двумя днями ранее. Бывший председатель Совета и министр финансов, ярый патриот и здравомыслящий человек, чей острый ум сильно импонировал Морису. Он приехал в посольство из своего имения, что находится под Новгородом, сказав буквально следующее:
– Вы знаете, что по характеру я не склонен к оптимизму. Тем не менее у меня хорошее впечатление от войны. Я, право, никогда не думал, что наша борьба с Германией может начаться иначе. Мы потерпели большие неудачи, но наши войска непоколебимы, наше моральное состояние превосходно. Через несколько месяцев мы будем в силах сокрушить нашего ужасного противника… Когда пробьет час мира, мы должны быть жестокими! Да-да, жестокими!.. К тому же мы будем к этому принуждены национальным чувством. Вы не можете себе вообразить, до какой степени наши мужики настроены против немцев.
Морис тогда невольно усмехнулся:
– А вот это интересно… Вы сами это констатировали?
Русский министр, однако, не принял его иронии, продолжая вполне серьезно:
– Не позже чем третьего дня. Это было утром, в день моего отъезда. Гуляя по своему полю, я замечаю старого крестьянина, который давно потерял своего единственного сына и чьи два внука сейчас находятся в действующей армии. Сам, без всякого вопроса с моей стороны, он выражает мне свое опасение, что войну не будут продолжать до конца, не истребят окончательно немецкую породу, не вырвут с корнем из русской почвы сорную немецкую траву. Я поздравляю его с тем, что он с таким патриотизмом принимает опасности, которым подвергаются два его внука, его единственная поддержка. Тогда он отвечает: «Видишь ли, барин, если, к несчастью, мы не истребим германцев, они придут даже сюда. Они будут править всей русской землей. И запрягут нас, тебя и меня, да, тебя тоже, в плуг»… Вот что думают наши крестьяне…
Что ж, нельзя не признать, что рассуждения русского мужика совершенно правильные, по крайней мере, в иносказательном смысле. И царь думает о том же, хоть и не столь радикально.
Посол слегка поклонился Николаю, выказывая признательность:
– Я благодарен Вашему Величеству за это заявление и уверен со своей стороны, что правительство Республики встретит самым сочувственным образом желания императорского правительства.
– Это побуждает меня сообщить вам свою мысль целиком. Но я буду говорить только за себя лично, поскольку не хочу решать таких вопросов, не выслушав совета моих министров и генералов.
Николай поднялся, энергично передвинул свое кресло ближе к Палеологу и разложил на столе карту Европы, прижав ее пепельницей с недавно затушенным окурком. Закурив новую папиросу, пыхнул пару раз, выпустил дым изо рта и продолжил заговорщически пониженным голосом:
– Вот как приблизительно представляю я себе результаты, которых Россия вправе ожидать от войны и без которых мой народ не понял бы смысла тех усилий, что я заставил его приложить. Германия должна будет согласиться на исправление границ Восточной Пруссии. Мой Генеральный штаб хотел бы, чтобы это исправление достигло Вислы. Мне это кажется чрезмерным. Я еще посмотрю. Познань и, быть может, часть Силезии будут необходимы для воссоздания Польши. Галиция и северная часть Буковины позволят России достигнуть своих естественных пределов – Карпат. Дальше Малая Азия… Здесь я должен буду, естественно, заняться армянами. Нельзя, конечно, оставлять их под турецким игом. Должен ли я присоединить Армению? Присоединю, но лишь по особой просьбе армян. Если же нет, устрою для них самостоятельное правительство. Наконец, я должен буду обеспечить моей империи свободный выход через проливы…
Царь прервался, снова глубоко задумавшись и попыхивая папиросой.
– Могу ли я просить Ваше Величество пояснить сей момент? – деликатно уточнил Морис.
– Конечно, мой дорогой посол. – Вторая папироса отправилась в пепельницу. – Мысли мои еще далеко не установились. Ведь вопрос так важен… Существуют все же два вывода, к которым я всегда возвращаюсь. Первый, что турки должны быть изгнаны из Европы. И второй, что Константинополь должен отныне стать нейтральным городом, под международным управлением. Само собой разумеется, что магометане получили бы полную гарантию уважения к их святыням и могилам. Северная Фракия до линии Энос-Мидия была бы присоединена к Болгарии. Остальное, от этой линии до берега моря, исключая окрестности Константинополя, было бы отдано России.
Палеолог, внимательно следивший по карте за ходом мыслей императора, хмыкнул:
– Если я правильно вас понимаю, турки были бы заперты в Малой Азии, как во времена первых османидов, со столицей в Ангоре или в Конии. Босфор, Мраморное море и Дарданеллы составили бы их западную границу.
– Именно так.
– Ваше Величество не удивится, если я еще прерву его, чтобы напомнить, что Франция обладает в Сирии и в Палестине драгоценным наследием исторических воспоминаний, духовных и материальных интересов. Полагаю, что вы согласились бы на мероприятия, которые правительство Республики сочло бы необходимыми для охраны этого наследия.
– Да-да. Конечно.
Торопливое движение рук – и поверх изображения Европы разворачивается карта Балканского полуострова. Растопыренные пальцы Николая замирают в сантиметре от рисунка, и царь с воодушевлением говорит:
– А вот что я думаю о том, какие территориальные изменения желательны на Балканах. Сербия присоединила бы Боснию, Герцеговину, Далмацию и северную часть Албании. Греция получила бы Южную Албанию, кроме Валлоны, которая была бы передана Италии. Болгария, если она будет разумна, получит от Сербии компенсацию в Македонии.
Аккуратно, со всей тщательностью сложив карту, он возвращает ее на прежнее место на письменном столе. Управившись, откидывается в кресле, скрестив руки на груди.
– А что же будет с Австро-Венгрией? – спрашивает мечтательным тоном, воздев глаза к потолку.
Понятно, куда клонит – этот союз просто распадется и, соответственно, перестанет быть угрозой. Хочет услышать признание своих побед из уст французского посланника? Что ж, можно и потешить самолюбие самодержца.
– Если победы ваших войск разовьются по ту сторону Карпат, если Италия и Румыния выступят на сцену, Австро-Венгрия с трудом перенесет те территориальные уступки, на которые будет принужден согласиться император Франц-Иосиф. Австро-венгерский союз потерпит крах, и я думаю, что союзники уже не захотят более работать совместно, по крайней мере, на тех же условиях.
– Я также это думаю… Венгрии, лишенной Трансильвании, было бы трудно удерживать хорватов под своей властью. Чехия потребует по крайней мере автономии. Австрия, таким образом, сведется к старым наследственным владениям, к немецкому Тиролю и к Зальцбургской области.
Царь вдруг нахмурился, замолк ненадолго, будто еще и еще раз прокручивал в голове те мысли, что не давали ему покоя последние несколько дней. Когда его взгляд переключился с внутреннего созерцания на внешнее и бегло скользнул по кабинету, глаза на какое-то мгновение замерли, устремленные за спину собеседника. Палеолог помнил, что там, на стене, висит портрет отца нынешнего императора.
А Николай уже опять внимательно смотрит на посла, продолжая:
– Большие перемены произойдут в особенности в самой Германии. Как я вам сказал, Россия возьмет себе прежние польские земли и часть Восточной Пруссии. Франция возвратит Эльзас-Лотарингию и распространится, быть может, на рейнские провинции. Бельгия должна получить в области Ахена важное приращение своей территории, ведь она это заслужила. Что касается германских колоний, Франция и Англия разделят их между собой по желанию. Я хотел бы, наконец, чтобы Шлезвиг, включая район Кильского канала, был возвращен Дании. А Ганновер? Не следовало бы нам его воссоздать? Поставив маленькое свободное государство между Пруссией и Голландией, мы бы очень укрепили будущий мир. Наше дело будет оправдано перед Богом и перед историей, только если им руководит великая идея, желание обеспечить на очень долгое время мир всего мира.
На последней фразе император выпрямляется, продолжая сидеть в кресле. Голос дрожит. Чувствуется волнение. Царь торжественно-религиозен. Взгляд сияет, словно бы освещенный изнутри особенным блеском. Нет, это не игра и не картинная поза. Полнейшая простота во всем. Николай, похоже, действительно считает, что в этом деле затронуты его совесть и вера.
– Так, значит, – подал голос Палеолог, – это конец Германской империи?
В ответ он слышит уверенный голос царя:
– Германия устроится, как ей угодно, но императорское достоинство не может быть сохранено за домом Гогенцоллернов[63]63
Гогенцоллерны – швабская династия прусских королей, которые с 1867 г. были к тому же и канцлерами Германии и с 1866 г. правили Румынией.
[Закрыть]. Пруссия должна стать снова простым королевством. Не так ли, дорогой мой посол?
– Германская империя в том виде, в каком ее задумали, основали и как ею управляли Гогенцоллерны, столь явно направлена против французского народа, что я, конечно, не буду выступать на ее защиту. Было бы большим облегчением для Франции, если бы силы германского мира не были сосредоточены в руках Пруссии…
За непринужденной беседой время летит незаметно. Пользуясь тем, что император задумался, Палеолог бросил быстрый взгляд на большие напольные часы, приютившиеся у книжного шкафа. С удивлением отметил, что разговаривают они уже больше сорока минут. Что-то вдруг вспомнив, Николай говорит:
– Мы должны думать не только о непосредственных результатах войны; мы должны заботиться также и о завтрашнем дне. Я приписываю большое значение поддержанию нашего союза. Дело, которое мы желаем совершить и которое уже стоило нам стольких усилий, будет прочно и длительно только в том случае, если мы останемся сплоченными. А раз мы сознаем, что работаем для мира всего мира, нужно, чтобы наше дело было прочно.
Его глаза снова горят священным, совершенно мистическим огнем. И опять никакой театральности. В одухотворенном лице, во всей позе императора некая романтическая приподнятость. Он выглядит вполне искренним. Старается скорее скрыть свое волнение, затушеваться, нежели выставлять это все напоказ.
Николай встает. Предложив собеседнику еще папиросу, говорит непринужденно, самым дружеским тоном:
– Ах, дорогой мой посол, у нас будут великие общие воспоминания. Помните ли вы начало войны? Ту тревожную неделю, что предшествовала ей? Чего стоят одни личные телеграммы, которыми обменивались мы с императором Вильгельмом. Ни одного мгновения он не был искренен. В конце концов, сам запутался в своей лжи и коварстве… Так могли бы вы когда-нибудь объяснить себе телеграмму, которую он мне послал через шесть часов после того, как мне было от него передано объявление войны? То, что произошло, на самом деле непонятно. Не знаю, рассказывал ли я вам об этом… Была половина второго ночи на второе августа. Я только что принял вашего английского коллегу, который принес мне телеграмму короля Георга, умолявшего меня сделать все возможное для спасения мира. Я составил с сэром Джорджем Бьюкененом известный вам ответ, заканчивавшийся призывом к вооруженной помощи Англии, поскольку война была уже навязана нам Германией. По отъезду Бьюкенена я отправился в комнату императрицы, уже бывшей в постели, чтобы показать ей телеграмму короля Георга и выпить чашку чая перед тем, как ложиться самому. Я оставался около нее до двух ночи. Затем, чувствуя себя очень усталым, я захотел принять ванну. Только что я собрался войти в воду, как мой камердинер постучался в дверь, говоря, что должен передать мне телеграмму: «Очень спешная телеграмма, очень спешная… Телеграмма от его величества императора Вильгельма». Я читаю и перечитываю телеграмму, повторяю ее себе вслух и ничего не могу в ней понять. Вильгельм думает, что от меня еще зависит возможность избежать войны?.. Он заклинает меня не позволять моим войскам переходить границу… Уж не сошел ли я с ума? Разве министр Двора, мой старый Фредерике, не принес мне меньше шести часов тому назад объявление войны, которое германский посол только что передал Сазонову? Я вернулся в комнату императрицы и прочел ей телеграмму Вильгельма. Она захотела прочесть ее сама, чтобы удостовериться. И тотчас сказала мне: «Ты, конечно, не будешь на нее отвечать?» Боже, конечно же, нет… Эта невероятная, безумная телеграмма имела целью, без сомнения, меня поколебать, сбить с толку, увлечь на какой-нибудь смешной и бесчестный шаг. Случилось как раз напротив. Выходя из комнаты императрицы, я почувствовал, что между мной и Вильгельмом все кончено и навсегда. Я крепко спал… Когда проснулся в обычное время, я почувствовал огромное облегчение. Ответственность моя перед Богом и перед моим народом была по-прежнему велика. Но я знал, что мне нужно делать.
– Я, ваше величество, объясняю себе несколько иначе телеграмму императора Вильгельма, – позволил заметить Морис.
– А посмотрим ваше объяснение, – с готовностью весело согласился Николай.
– Император Вильгельм не очень храбр, не так ли?
– О нет!
– Это комедиант и хвастун. Он никогда не смеет довести до конца своих жестов. Он часто напоминал мне актера из мелодрамы, который, играя роль убийцы, вдруг бы увидел, что его оружие заряжено и что свою жертву он и в самом деле убьет. Сколько раз мы видели, как он пугался собственной пантомимы. Рискнув на свою знаменитую манифестацию в Танжере в девятьсот пятом году, он вдруг остановился на середине разыгрываемой сцены[64]64
Манифестация в Танжере – в марте 1905 г. Вильгельм внезапно заявил в Танжере о своих притязаниях на французский протекторат в Марокко, после чего Берлин всячески накалял обстановку вокруг марокканской проблемы, явно стремясь довести дело до войны с Францией, но в этом вопросе оказался в полной изоляции, не получив поддержку даже ближайшей союзницы – Австрии. В результате Германия была вынуждена отступить и 8 июля принять все французские условия проведения будущей международной конференции по Марокко. А спустя всего два дня после своего фиаско Вильгельм предложил Николаю заключить военный союз между Германией, Россией и Францией.
[Закрыть]. Поэтому я смею предположить, что как только он отправил свое объявление войны, его охватил страх. Он представил себе реально все ужасные последствия своего поступка и захотел сбросить на вас всю ответственность за него. Может быть даже, он уцепился за нелепую надежду, что его телеграмма вызовет какое-то событие – неожиданное, непонятное, чудесное, – которое вновь позволит ему избежать последствий своего преступления.
– Да, ваше объяснение довольно хорошо согласуется с характером Вильгельма.
Часы у стены бьют шесть раз, притягивая к себе взгляды обоих собеседников.
– О, как поздно, – разочарованно тянет император. – Боюсь, я вас утомил. Но я был счастлив, имея возможность свободно высказаться перед вами.
Они встают и направляются к дверям.
– Как проходят бои в Польше? – напоследок интересуется Палеолог.
– Это большое сражение. Большое и крайне ожесточенное. Германцы делают бешеные усилия, чтобы прорваться через наш фронт. Это им не удастся. Они не смогут долго удержаться на своих позициях. Таким образом, я надеюсь, что в скором времени мы вновь перейдем в наступление.
– Генерал Лагиш мне писал недавно, что Великий Князь Николай Николаевич по-прежнему ставит себе единственной задачей поход на Берлин.
– Да, я еще не знаю, где мы сможем пробить себе дорогу. Будет ли это между Карпатами и Одером, или между Бреславлем и Познанью, или на север от Познани? Это весьма зависит от боев, завязавшихся теперь вокруг Лодзи и в районе Кракова. Но Берлин – конечно, наша единственная цель… И с вашей стороны борьба имеет не менее ожесточенный характер. Яростная битва на Изере[65]65
Битва на Изере (20 октября 1914 г. – 12 ноября 1914 г.) – сражение за последний клочок бельгийской территории, оставшейся в руках союзных войск, закончившееся тем, что германцы, несмотря на все свои «тактические успехи», были вынуждены отступить перед непреодолимой преградой в виде наводнения, и стратегическая победа осталась за союзниками. Кратчайшие пути к Дюнкерку для германцев были закрыты, а их стремлению обойти левый фланг союзников был положен конец.
[Закрыть] склоняется в вашу пользу. Ваши моряки покрыли себя славой. Это большая неудача для немцев, почти столь же важная, как поражение на Марне… Ну, прощайте, мой дорогой посол! Повторяю, я был счастлив так свободно переговорить с вами…
Глава 11. Бои на границе
Середина октября ознаменовалась относительным затишьем на Северо-Западном фронте.
Штаб 22-го армейского корпуса перебрался в Ольшанку. Его работа понемногу налаживалась, хотя до совершенства было еще довольно-таки далеко. Генерал Огородников практически самоустранился от всяческой работы, избегая даже появляться в поле зрения командира. Земцов с Ивановым с головой ушли в работу. Вечно пропадали в помещении связи, прячась за нагромождением телефонных аппаратов и катушек с проводами. Похоже, там и жили. Прочие службы, вроде артиллерийской, комендантской, инженеров, медиков и так далее, и без того постоянно располагались отдельно. Вся оперативная и разведывательная работа легла на плечи Бориса и еще пяти строевых офицеров. Бринкен часто навещал их, давая всякие распоряжения – всегда напрямую, в обход начальника штаба.
Отношения с командиром корпуса у Сергеевского хоть и улучшились, но полного контакта и взаимопонимания по-прежнему не было. Препятствовал совершенно противоположный начальственному взгляд на тактику ведения боевых действий. К тому же сюда примешивался упрямый формализм Бориса, его приверженность установленной субординации. Плевать он хотел на взаимные претензии генералов, не считая себя вправе игнорировать Огородникова, своего непосредственного начальника. Что до Бринкена, тот вообще не желал иметь с Огородниковым никаких дел, хотя вслух этого и не говорил.
Впрочем, недостаток взаимопонимания с руководством ни в коей мере не мешал Борису заниматься своими прямыми обязанностями. Основным из них был опрос пленных, который давал много ценной информации для разведки. Их приводили в штаб довольно большими группами, так что работы хватало.
Солдаты самых разных родов войск, все они были на удивление откровенны, давая совершенно точные и правдивые показания, нисколько не пытаясь лукавить. Поначалу это сильно удивляло Бориса, но впоследствии он разгадал, похоже, самый большой военный секрет Германии. Просто-напросто каждый опрошенный им пленный безумно гордился тем, что владеет кое-какой информацией и может с точностью доложить ее «господину капитану». Не раз и не два слышал Сергеевский от немцев: «Германский солдат знает все, что должен знать солдат» или «германский солдат не может лгать офицеру». И неважно, из какой армии этот офицер, пусть даже русский. Вот и выкладывали плененные враги все, что могли рассказать. Причем безо всякого принуждения. Да здравствует принципиальная добросовестность германцев!
Правда, иной раз она граничила с простодушной наивностью.
– Нет ли у вас жалоб? – как-то спросил Борис одного пленного. – Никто не обижал?
Вполне обычный вопрос, который задавался каждому в конце допроса.
– Есть жалоба! Обидел меня один офицер, – неожиданно заявил немец, заставив Сергеевского удивленно вскинуть брови. – Когда шел призыв из резерва, он оскорбил меня. Обошелся грубо. Обозвал в моем собственном доме…
– Постойте. Так это было на германской территории?
– Так точно, господин капитан. Прошу вас возбудить это дело…
Пообещав, что непременно разберется, Борис приказал стрелку-конвоиру забрать пленного и привести следующего. Пока ждал в одиночестве, зашел казак, вольноопределяющийся из конвоя командира корпуса. Поздоровался, попросив разрешения присутствовать при допросе. Несмотря на свой огромный рост и слегка неотесанный вид, этот казак был довольно хорошо образован. Окончил университет в Германии, прекрасно владея немецким. Сергеевский, не видя совершенно никаких причин для отказа, разрешил ему остаться.
Очередной пленный оказался довольно пожилым и на редкость неразвитым немецким батраком, тоже из резерва. Даже грамотой не владел, как, впрочем, и какой-либо ценной информацией. Поэтому ничего толкового не рассказал, зато по наивности своей вдруг добродушно заявил:
– Слава богу, что в плен меня взяли пехотинцы, не казаки.
– Почему же «слава богу»? – спросил Борис, весело глянув на казака, который все это время молча стоял рядом.
– Господин офицер шутит? – искренне удивился солдат. – Ведь попадись я казакам, уже не смог бы разговаривать с господином офицером. Они бы сразу меня съели!
От прежней веселости не осталось и следа. Сергеевский не на шутку разозлился на этого простофилю. Не сдержавшись, крикнул:
– Что за вздор ты несешь!
Нет, сегодня ему определенно везет на ненормальных. Но второй подряд – это уж слишком. Попробовал доказать пленнику его дремучесть:
– Ты ведь даже не знаешь, как отличить казака от неказака.
Но тот неожиданно парировал:
– О нет, уж этому я обучен. У казаков здесь красная полоса, – и провел пальцем по наружной стороне своей штанины.
Вольноопределяющийся вдруг поставил ногу на свободный табурет, громко бухнув сапогом, и откинул шинель.
– Смотри сюда! Видишь? – грозно выкрикнул по-немецки, показывая свой лампас.
У пленного глаза полезли на лоб. Он побелел, сжался и затрясся всем телом. Пытаясь что-то сказать, беззвучно двигал челюстью, шлепал губами, но так и не смог произнести ни слова. Лицо выражало полное отчаяние.
Казак медленно приблизился, несколько раз обошел германца, рассматривая бледную, дрожащую фигуру чересчур мстительным, плотоядным взглядом. Потом повернулся к Борису, встал смирно и на немецком же четко произнес:
– Ваше высокоблагородие! Нам он вряд ли сгодится. Стар и худощав. Хорошего жаркого не выйдет.
Подхватив игру, Сергеевский закричал тоже по-немецки:
– Не рассуждать! Мы на войне. Бери, что дают! Повозражай здесь еще!
Пленный буквально подпрыгнул от ужаса. Голос у него все-таки прорезался, и бедолага завопил:
– Что же я сделал дурного? Господин офицер, сжальтесь! У меня трое детей!
– Веди его к коменданту, он мне больше не нужен, – перешел Борис на русский, обращаясь к стрелку-конвоиру. Тот стал выталкивать пленного за дверь.
– Простите, ваше высокоблагородие, теперь и я вижу… Если его вот так и вот так обрубить, выйдет еще недурной кусок! – продолжал издеваться казак, для пущей наглядности сопровождая свои слова жестами.
Жестокая шутка? Возможно… Слишком уж взбесила Бориса только что услышанная клевета. Хотя бы так отплатил он за то гнусное вранье, которое враг внушал своим солдатам и распространял среди населения.
Последним в этот день Сергеевский допросил немца, которого специально оставил «на закуску». Его почти у самой границы захватили разведчики 1-й бригады, ходившие за Распуду. Там они наткнулись на германский отряд человек в тридцать, пробиравшийся к русским позициям, расположенным севернее местечка Рачки. Завязался бой. Почти всех немцев перебили, захватив только двух уцелевших солдат и русско-подданного поляка из крестьян, жителя приграничной деревни. Последний был у немцев проводником. За это ему грозила смертная казнь, и Бринкен приказал предать крестьянина корпусному суду по обвинению в измене.
Но в виновности старика засомневались – и военный следователь, который опрашивал его, и председатель суда генерал Дон[66]66
Дон Павел Александрович (28.06(11.07).1860–1920) – ген. – майор (ст. 02.04.1906), военный судья Петербургского военно-окружного суда с 02.07.1908, был прикомандирован к 22-му армейскому корпусу.
[Закрыть], обратившийся к Борису с просьбой постараться допросом пленных установить истину. Крестьянин уверял, что германцы взяли его в проводники силой, а он умышленно навел их на засаду. Видел, когда незадолго до этого проходил неподалеку, как русские разведчики обустраивались на опушке леса. И стрелки подтверждали, что проводник вел германцев как-то странно, по открытой местности, зорко всматриваясь в лесок, точно ждал, когда начнется пальба. При первом же выстреле он бросился на землю, почему и уцелел.
Не мог этот почтенный старик быть предателем, считал Сергеевский. За все время пребывания в районе боевых действий нигде не видел он враждебности со стороны поляков и не слышал ни об одном случае измены с их стороны. И простые люди, и интеллигенция, наоборот, выражали только горячую симпатию. Население, оказывая всяческую помощь русским, кляло немцев на чем свет стоит.
Пленный был в звании унтер-офицера. Вполне себе образованный купец из Гамбурга. Этакий высокий здоровяк тридцати восьми лет от роду, с холеным лицом и приличными манерами. Борис даже почувствовал к нему некую симпатию, пока общался.
Делая вид, что перешел от официального допроса к частной беседе, Сергеевский демонстративно почистил перо, положил его на чернильницу и отодвинул от себя бумаги. Намеренно избрав укоризненный тон, произнес:
– И как же могло случиться, что такой здоровый и сильный германский унтер-офицер вдруг взял, да и сдался неприятелю?
Германец вздрогнул, недовольно повел плечом. Помолчав, ответил хмуро:
– Да, конечно, я сдался. Поднял руки… Но при каких обстоятельствах! Прошу господина капитана разрешить мне доложить подробно, тогда он увидит, что я не так уж и сильно виноват!
– Рассказывай, – позволил Борис, мысленно себе аплодируя.
Пленник откашлялся и продолжил:
– Мы шли один за другим за этим предателем поляком. Впереди фельдфебель, потом я, потом мой большой друг, с которым в Гамбурге мы с детства росли вместе, потом остальные. Мы никак не ожидали, что здесь будут русские. А поляк, наверное, знал. Он вывел нас туда прямо на убой. Сразу из леса начался сильный огонь. Фельдфебель приказал залечь и, ведя стрельбу, наступать на лес, но тут же был убит. Я заменил его. Мы стали переползать вперед. Но многих уже или убило, или ранило. Пришлось остановиться. Уцелевшие отстреливались. Я выпустил все патроны, кроме одного. Последнее время стрелял только я. Когда перестал стрелять, русские вышли из леса. Показывая знаками, чтобы мы бросили оружие, стали приближаться со всех сторон. Я хотел застрелиться. Зарядил ружье последним патроном, вскочил и приложился виском к дулу. Но в этот момент услышал сзади: «Вильгельм, не бросай меня!» Кричал мой друг. Я обернулся и увидел, что он лежит на земле тяжело раненный, а к нему подходят двое русских. Я начал кричать. Махал им, умоляя пощадить моего друга. Подойдя к нему, русские стали перевязывать его раненую голову. Тогда я бросил ружье и поднял руки. Ко мне подошел русский солдат. Маленький такой, мне по плечо. Говоря что-то по-своему, он похлопал меня дружески, вынул из своего мешка кусок хлеба и протянул мне… Я заплакал, господин капитан, хотя, кажется, никогда в жизни не проронил ни слезинки. А теперь вот все думаю, зачем столько жестокостей? Зачем нам рассказывали о русских столько злого? Зачем мы убиваем друг друга?!
С тяжелым осадком в душе Сергеевский велел увести немца. «Сколько лучших, честнейших, добрейших людей с обеих сторон погибло на войне ужасной смертью, – думал он. – И сколько еще погибнет. А всякая погань останется, окопавшись в тылах, сбежав с фронта или вовсе на него не попав под различными предлогами…»
Германский унтер сделал свое дело. И слава Господу, что война для него уже закончилась. Того польского крестьянина впоследствии оправдали, а командир корпуса, сменив гнев на милость, приказал наградить его Георгиевской медалью.
С двадцать третьего октября на фронте 22-го корпуса от селения Распуды до леса, что у деревни Зайончково, вновь завязались бои. Немцы активно наседали на 3-ю Финляндскую стрелковую бригаду, изрядно кромсая все четыре ее полка. Но те упорно сопротивлялись, продолжая оставаться на своих местах: 9-й полк – от переправы у господского двора Мазуры до стыка с 10-м, по-прежнему державшимся впереди Зайончкова; дальше на восток, вдоль извилистой опушки леса, окопался 12-й полк; 11-й был в резерве, но и его порядком потрепали, поскольку он то и дело вступал в бой там, где приходилось тяжелее всего.
Вправо, за лес, фронтом на северо-запад тянулись позиции 2-го Кавказского корпуса. Левее, за Распудой, уступом назад шел фронт 1-й Финляндской стрелковой бригады.
После двух дней боев противник все же вынудил 3-ю бригаду попятиться версты на две левым флангом и центром. Лес и переправа у Мазуры, а также деревни Рабалин и Зайончково перешли в руки немцев. Но пробиться дальше им не удалось. Все отчаянные попытки вражеской пехоты еще хоть немного потеснить русские части непременно разбивались об их упорное сопротивление. Тогда в дело вступила вражеская артиллерия, начав ожесточенную бомбардировку. Два дня подряд, с рассвета до наступления темноты, на фронте стоял страшенный грохот.
Корпус ничем не мог помочь своей бригаде. Резервов у него не было. Генерал Бринкен просил помощи отовсюду, правдами и неправдами выбивая подкрепления. Вроде и добился, и войска уже были в пути, но уж очень далеко. Их подход ожидался только на третьи сутки.
Минул всего лишь день, когда начальник 3-й бригады связался по телефону с Бринкеном и доложил, что положение у него критическое:
– …Полки едва держатся, на три четверти уже растаяв. С управлением бригадой нам не справиться. Что я, что капитан Колесников крайне утомлены. А старшего адъютанта Генштаба в бригаде нет.








