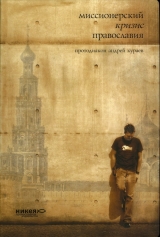
Текст книги "Миссионерский кризис православия"
Автор книги: Андрей Кураев
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
В IX же веке у стен Константинополя оказались русские, а на Кубани – хазары.
Снова сопоставляем две даты. Июнь 860 года – русы на 360 кораблях осадили Константинополь и разграбили его окрестности. Появление Константина у хазар, то есть в русском тылу, – январь 861 года. Главная задача этой поездки была в том, чтобы добиться от хазарского кагана подтверждения его союзнических отношений с Византией. В этом смысле миссия была успешной, поскольку в житии каган передает императору: «Все мы – друзья и приятели твоего царства и готовы идти на службу твою, куда захочешь» (Житие Константина, 11). Учитывая военно-политическую сверхзадачу миссии, вряд ли Константин был очень настойчив в опровержении веры своих собеседников. Тем не менее, согласно житию, крестились 200 человек.
Однако те аргументы, что есть в житии св. Кирилла, немыслимо использовать сейчас. Вот он беседует с хазарским каганом о Троице: «Если кто почитает тебя и слова и духа твоего не чтит, другой же всех трех почитает, кто больше оказывает тебе доверия?» (Житие Константина, 9). Но ведь дух человека, его слово и сам человек никак не одноприродны и несопоставимы, а первые два еще и не ипостасны. Так что антропологический довод в пользу Троицы вряд ли доходчив...
И хотя у Отцов часты аргументы этого рода, я считаю неприемлемыми любые попытки объяснить тайну Троицы через параллель с миром обыденного опыта. Мол, в человеке есть ум, воля и память – и это отражение Троичного Бога. Есть солнце, луч солнца и свет – и такова Троица. Есть подземное хранилище вод, источник и ручей – вот так же Три составляют одно в Боге... Богословски такие образы опасны. В человеке есть еще и совесть, и подсознание, и рефлексы, и инстинкты, и эстетические чувства и нравственные. Можно тысячи подробностей найти в человеке, и неужели тогда и Бога придется дробить на все это множество наших антропологических изысков? А луч солнца не един с солнцем: он уже оторвался, он гаснет, он не вечен, он слабеет, и несет он в себе отнюдь не всю энергию первоисточника. Дух же Божий всегда имеет все, что есть у Отца... Так что то, что допустили отцы в своей миссионерской работе, недопустимо в догматическом богословии, да и в современной миссии эти образы уже мало помогут...
Еще более странно употребление Кириллом Писания. Иудеи, считающие Иисуса человеком, упрекают христиан строчкой из Псалтыря: «Проклят всяк надеющийся на человека». И слышат в ответ: «Но в Псалтыре же сказано: «"человек мира моего, на него же уповал". Человек же тот – это Христос» (Пс. 40,10). Продолжение этого стиха: «Евший хлеб мой, поднял на меня пяту». Христос эти слова относил к Иуде (Ин. 13,18; Деян. 1,16), св. Кирилл – к Самому Христу (Житие Константина, 10)...
А дальше идет фрагмент, который издатели жития из Троице-Сергиевой Лавры вообще предпочли вырезать, сказав, что оно «представляет трудности при переводе». На самом деле никакой трудности перевод не представляет, просто герой жития в этом месте ссылается на апокрифы.
Житие сообщает также о диспуте Константина с неким иконоборческим патриархом «Аннием». Возможно, это был ушедший в отставку патриарх Иоанн Грамматик, однако «рассказ агиографа об организации диспута между Константином и Иоанном Грамматиком в настоящее время вызывает единодушные сомнения всех исследователей. После восстановления иконопочитания в 843 году ни разу не вставал вопрос о возобновлении публичных споров с «иконоборцами». С другой стороны, поскольку Иоанн Грамматик пользовался репутацией несравненного полемиста и оратора, сумевшего с помощью «диалектических» доводов обратить в свою веру многих противников, то в житиях ряда святых – современников иконоборческого патриарха – появляются описания явно вымышленных диспутов, в которых святой одерживает полную победу над «ересиархом».
Как бы то ни было, в житии читаем: «И сказал старец: "Если Бог сказал Моисею: не сотвори всякого подобия, то почему же вы делаете иконы и поклоняетесь им?" Философ ответил: "Если бы сказал: не сотвори никакого подобия, то был бы ты прав, но Он сказал "всякого", то есть лишь достойное"» (Житие Константина, 5). Но в Писании сказано именно «никакого изображения» (Исх. 20,4; Втор. 5,8). Довод Константина был бы допустим, если бы там стояло «всякого». Но для 14-летнего мальчика простительно... Правда, для оценки достоверности этого житийного рассказа надо еще учесть, что учителем св. Кирилла был именно иконоборческий философ Лев, епископ Солунский.
Так что даже в тех редчайших случаях, когда мы что-то узнаем о былых миссионерских диспутах, оказывается затруднительным воспроизводить их в реальной полемике.
И даже если бы у нас были стенограммы с проповедями Кирилла и Мефодия, и если бы все их аргументы были замечательны, даже в этом случае мы не смогли бы их просто воспроизводить. Ведь хороший миссионер говорит именно ради того, кто перед ним. Плохой миссионер произносит заранее заготовленную речь, прошедшую семинарскую цензуру. Кирилл и Мефодий – хорошие миссионеры. Поэтому для того чтобы их ситуативные и авторские аргументы сработали, нужно найти хазара IX века и поставить его перед нами.
Раз это невозможно, то воспроизведение самых блистательных миссионерских речей прошлого бессмысленно: нет тех ушей. Это Символ веры можно веками воспроизводить слово в слово внутри православной среды. Да, есть такая глубина Церкви, где нет перемен. Но внешний мир изменчив и разнолик. Поэтому аргументы былых миссионеров, в том числе Кирилла и Meфодия, порой стоит воспринимать так, как естественнонаучные экскурсы свв. Василия Великого и Иоанна Дамаскина. Сам факт наличия таких страниц в их трудах показывает, что никакое знание не чуждо православному человеку. Но считать эти страницы нормой православного миропонимания было бы неуместно. Просто как те Отцы шли навстречу науке своего времени, так же по их примеру можем делать и мы...
В 1796 году митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил в наставлении русским миссионерам на Аляске советовал после возвещения Единобожия «изъяснять величество свойств Божиих и как мал пред Ним человек». Вполне вероятно, что проповедь о человеческой малости впечатляла жителей Аляски конца XVIII века. Но сегодняшний москвич или туляк (преимущественный адресат миссии нашей Церкви в XXI веке) вряд ли воодушевится таким тезисом. Сегодня уместнее подчеркнуть иную грань христианства: человек настолько велик, настолько дорог в глазах Бога, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3,16).
С прошлыми миссионерами, как и с прошлыми естествоиспытателями – сам факт миссии порой важнее ее конкретных путей.
Будь оно иначе, наша миссия среди мусульман свелась бы к тиражированию диспута Константина Философа с сарацинами, а среди иудеев – к распространению «Диалога с Трифоном Иудеем» св. Иустина Философа.
Но хотя рассказ о жизни Константина Философа мало может дать для современной «миссии народам», он способен оказать очень значимую поддержку для «внутренней миссии». Он может помочь некоторым церковным людям удержаться в Церкви, преодолеть соблазны, сеемые письмами типа «чукотского».
На определенном уровне не-знания церковной истории кажется, что очень легко определить границы Церкви и отождествить с этими границами область действия Божией благодати. В этом случае все, кто хоть малость не такие, как мы, – нехристи и никакое доброе общение с ними невозможно, ибо является «всеересью экуменизма».
Как сказал один из идеологов такого «простецкого богословия», «отсеченная часть тела... тотчас начинает разлагаться и гнить».
Но как же тогда свв. Кирилл и Мефодий не заметили, что они причащаются с гниющими трупами? Как же св. Мефодий не погнушался от руки мертвеца принять рукоположение?
В это время «филиокве» западная Церковь уже исповедовала. Претензии на папское господство весьма явно высказывала. Св. Фотия анафематствовала. А св. Мефодий этого «не заметил» и продолжал служить с западными епископами и сам был епископом в подчинении у римского папы... Память об этой странности очень помогает снизить убедительность крайних антиэкуменических выпадов, доходящих до обвинения в ереси Московского Патриархата. Оказывается, и в самом деле не всякая ссора церковных лидеров перекрывает доступ к Божией благодати для одной из спорящих сторон (пусть даже и неправой в предмете спора).
Поскольку миссионер должен научить людей жить в реальной Церкви в ее сложности, то тут рассказ о славянских апостолах действительно может оказать немалую помощь.
Были и великие миссионерские успехи, и все новые и новые народы принимали Евангелие... Христианство проникло в римский мир пятью основными путями:
работа проповедников;
письменные труды апологетов;
публичное исповедничество и твердость веры мучеников;
добрые дела христиан и слух о них (император Юлиан Отступник убеждал язычников так заботиться друг о друге, как это принято у христиан, а сами язычники восклицали: «Ах, какие у христиан женщины!»);
бытовое общение с христианами.
Наиболее действенный путь миссии именно бытовой. Такая низовая миссия не была сознательным усилием Церкви и решением ее иерархов, поддержанным мощью финансовых и образовательных церковных институтов. Она шла через установление брачных связей, через бытовые контакты, через купцов, гостей и пленников. Порой именно гонения приводили к расширению христианского присутствия.
Сначала варвары брали христиан в плен, а потом учились порой у своих же рабов.
Так, в 267 году скифы (готы) «переправились чрез Истр и вступили в пределы Римской империи. Они вторглись в Азию и заняли Галатию с Каппадокией. Там они захватили множество пленников, среди которых было немало клириков, и с большой добычей вернулись в родную землю. Пленники же сии были людьми праведными и, общаясь с варварами, немалое их число обратили. Из числа этих пленников были и предки Ульфилы, по происхождению каппадокийцы» (Филосторгий. Церковная история, 2,5).
Аналогично св. Нина прошла путь от пленницы до апостола Грузии, а св. Патрик от выкраденного свинопаса – до апостола Ирландии.
Первым проповедником Православия в Китае стал плененный же священник Максим Леонтьев из Албазинской крепости (1683 г.). Тобольский митрополит Игнатий в 1695 году отправил о. Максиму письмо: «Радуюся аз, аще и в плене пребываеши, но сам, с Божиею помощию, пленяеши человеки неведущия в познание евангельския правды. А пленение ваше не без пользы китайским жителям, яко Христовы православныя веры свет им вами открывается, и вам спасение душевное и небесная мзда умножается». Впрочем, в течение следующих двухсот лет китайские миссии были скорее дипломатическими и научными, нежели собственно евангельскими.
Потом, когда Римская империя сама стала христианской, воцерковлялись плененные ею иноверцы. Пример возьму, правда, из русской истории. По описанию путешественника, побывавшего в Москве в середине XVII века, «у каждой богатой женщины бывает 50, 60 рабынь и у каждого важного человека – 70, 80 рабов. Они обращают их в христианство, хотят ли они или нет, их крестят даже насильно. Если потом увидят, что они хорошо ведут себя и усердны в вере, то их женят между собой и детям их дают наилучшие имена. Мы заметили в них набожность и смирение, каких не встречали и среди лучших христиан: они научились тайнам веры и обрядам и стали такими, что лучше и быть нельзя».
В крещении болгарского князя Бориса было и то и то: первые знания о христианстве он получил от плененного им греческого монаха Феодора (Куфары), а затем к нему вернулась его сестра, бывшая в плену в Константинополе и там принявшая Православие (Продолжатель Феофана, 4,14).
Бывало, что христианское население, покоренное языческими князьями, со временем обращало тиранов в свою веру. Так произошло с вандалами в Северной Африке и вообще происходило повсеместно в пределах Западной Римской империи.
Но это ежедневное «низовое» миссионерство не оставило по себе письменных свидетельств.
И сами варвары-неофиты несли заново открытую ими веру дальше, своим соседям. Например, из Никоновской летописи мы узнаем, что князь Владимир послал к болгарам с миссией некоего «философа Марка Македонянина»: «Ты же иди к ним и проповеж им слово Божие». И хотя болгары его прогнали, все-таки «того же (990) лета приидоша из болгар к Володимеру четыре князи и просветишася Божественным крещением» (речь идет, конечно, о камских булгарах). В 991 году в Киев же «прииде печенежский князь Кучюг и прият веру греческую и крестися».
«Взаимная христианизация варваров при равнодушии имперских христиан – явление совершенно универсальное». Но «что касается самой имперской церкви, то ее роль в христианизации варваров носила пассивный характер. Это не было случайностью и не воспринималось самой церковью как недостаток. Ведь с ее точки зрения обращал Бог, а люди с их личной инициативой играли в лучшем случае вспомогательную роль». Не случайно о крещении Киева св. князем Владимиром не сообщает ни один византийский источник.
Наверное, именно тем, что миссия была по преимуществу «низовой», и объясняется одно малозаметное для самих христиан обстоятельство нашей истории. Список культурных состязаний, выигранных «верой рыбаков», не так уж велик. Она смогла одержать только одну сенсационную победу – победу над миром эллинистической культуры. Кроме того, среди побежденных и при этом культурно развитых ко времени прихода к ним христианства были Сирия, еще ранее открытая как для арамейского, так и для греческого влияний, Грузия (где письменность, в отличие от Армении, имела дохристианскую историю) и коптский Египет, уже забывший свои древние иероглифы. При встречах с другими письменно-литературными народами, христианство не смогло пустить корней. Оно побеждало варваров, то есть тех, над кем у христиан был культурно-цивилизационный перевес. Но Персия, Индия, Китай не стали трофеями христианских миссионеров.
Аналогично в России: Православие принимали бесписьменные народы (урало-сибирские «самоеды» и финно-угорские племена Севера), но татарский мир, который отнюдь не был «дикарским», оказал очень серьезное сопротивление, перед которым и административный ресурс оказался бессилен. В основном крестились те, кто желал «обрусеть», то есть те, кто сам ставил европейско-русскую цивилизацию и образ жизни выше собственного. И правительство ставило перед миссионерами задачу именно «обрусения всех инородцев и совершенного слияния их по вере и языку с русскими». Но те люди и народы, что не тяготились своей культурой и полагали ее по меньшей мере равной европейской, просили серьезных аргументов и часто именно их и не получали.
В самой Европе еврейский мир в целом также смог сохранить свою идентичность. Впрочем, восточнохристианский мир тут особой настойчивости и не проявлял. Миссия к евреям, прямо заповеданная Христом («Идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» – Мф. 10,6), всерьез не осуществлялась. Много ли Отцов Церкви учили еврейский язык? Знал еврейский св. Епифаний Кипрский (это его родной язык), Аполлинарий Лаодикийский, блаж. Иероним Стридонский. Но опять же одно дело знание языка, другое – его использование в миссионерских целях. Так что даже и трех миссионеров для библейского народа патристическая эпоха не дала...
Зато было авторитетно сказано, что эта миссия невыполнима: «Ты прибавляешь, что предстоит словопрение с иудеями; оставь этих христоборцев. Ибо если они не внимали наставлениям Самого Христа, то напрасно было бы нам руководить их или вступать с ними в беседу».
И потому приходится сделать вывод, что несколько лакун все же есть в общем строе церковных преданий. В их ряду не числятся предания педагогическое и миссионерское.
Можно, конечно, утешить себя тем, что отрицательный результат – тоже результат. Но он становится осмысленным лишь при условии, что над ним думают. Если есть желание заметить ошибку, признать ее именно как ошибку и неудачу и задуматься над ее причинами. У нас же пока церковные умы и уста слишком увлечены передачей сплетен о «жидомасонах», и поэтому никакие наши катастрофы не становятся предметом покаянного анализа. В лучшем случае – «мало молились и постились...».
Если мы мало знаем о причинах удач наших миссий, то мы можем обратиться к анализу их неудач. Поражения учат лучше, чем победы. Если и изучать византийскую миссионерскую традицию, то скорее для того, чтобы ей не следовать сегодня. Вот что не нужно оживлять из византийского наследства:
– малоскрываемое презрение к обращаемым «варварам» и совсем нескрываемое гнушение их своеобразными обычаями;
– жесткое подчинение интересов миссии политическим и военным интересам Империи, доходящее до понуждения новокрещеных народов становиться в положение подданных римского императора. (В 1393 году Константинопольский Патриарх Антоний IV в письме великому князю Московскому Василию Дмитриевичу весьма обиделся на слова князя о том, что «мы-де имеем Церковь, а царя не имеем и знать не хотим», и напомнил византийскую точку зрения: «Ты хочешь дела совершенно невозможного... Невозможно христианам иметь Церковь, а царя не иметь... Святой император не похож на других правителей и владык других земель... он есть освященный базилевс и автократор римлян, то есть всех христиан»). Кстати, успех проповеди ирландских монахов в Центральной и Северной Европе связан именно с тем, что за их спинами не маячило никакое царство. Согласие с римским миссионером означало подчинение народа папе. Согласие с греческим миссионером – то же самое по отношению к императору. А ирландский монах был равен самому себе. Его речь шла только о Христе и душе. Согласие с его верой никак не ограничивало власть местного князя (стоит также отметить, что ирландское монашество, в отличие от остального европейского, предписывало постоянное ученичество и работу с книгами).
– отождествление православной веры и греко-римского образа жизни (вплоть до запрета пить кумыс – так Константинопольский Патриарх ответил на вопрос русского епископа из Золотой Орды – и осуждения вкушения верблюжатины);
– чрезмерный акцент на вопросах брачной дисциплины;
– постоянное использование силы и подстрекание к ее использованию в интересах миссии.
Перечисление византийских миссионерских ошибок не означает, что миссии в те века не было. В конце концов, на византийско-святоотеческий период церковной истории приходится обращение сотен народов. Но есть странный разлад между реально ощутимыми плодами миссии и отсутствием литературного ее отражения.
В западной литературе выделяются три образа средневековой миссии:
1) Schwertmission – миссия, опирающаяся на вооруженную силу;
2) Tatmission – миссия путем деяний (под этим подразумевается разрушение капищ и идолов, то есть обнаружение их ложности через действие миссионера); этот метод «миссии» христианам СССР пришлось пережить на себе.
3) Wortmission – миссия через убеждение и проповедь.
Как имперские победы понуждали варваров склонить колени перед Крестом – это в литературе описано подробно.
Как сваливались языческие идолы, тоже описано многократно.
Но вот третий и собственно евангельский вид миссионерского труда отчего-то зафиксирован слабее всего.
И единственным источником по святоотеческому миссионерству остается заочно-литературная полемика не апостолов и не равноапостольных мужей, а апологетов (по большей части не причтенных клику святых). Но в античной литературной полемике дискуссия – не более чем прием, позволяющий развертывать аргументы лишь одной, авторской стороны. Узнать о том, действительно ли она была убедительна для оппонентов, из нее нельзя.
Я совсем не против миссии через чудо. Я был бы рад возрождению «миссии через присутствие» – миссии через облик христианина. Но для этого монашество должно быть совершенно бескомпромиссным, как древнее сирийское или ирландское. И монахи должны если не левитировать, то светиться. Монах-миссионер должен быть с неотмирно-«глазуновскими» глазами. Чтобы не одежда привлекала внимание, а именно взгляд.
Но, кроме этого, нужно еще и служение словом, а не глазами.
ИСТОКИ МИССИОНЕРСКОГО КРИЗИСА
Россия
Византийские авторы никогда не признавались в кризисном положении миссии. В отличие от них российские духовные писатели и миссионеры эту горькую правду видели и о ней говорили.
Св. Феофан Затворник: «Заснули все и живем спустя рукава... Вся беда в попах молчащих! Надо гайдуков нанять и всех их пооттаскать за аксиосы».
Св. Филарет Московский: «Идея миссионерства еще мало развита в Российской Церкви». «Миссионер должен иметь возбужденную особенную ревность к распространению веры между не знающими ее: но сему особенному возбуждению трудно произойти, когда идея миссионера не приготовлена образованием, по неимению заведения для сей особенно цели, и не довольно раскрыта не многими, не близкими опытами».
Перед революцией иерархи говорили, что «в нашей миссии что-то неладно». «Миссия всегда была какой-то падчерицей в глазах благоволения нашего церковного начальства; ей поэтому приходилось вступать в разные непрочные и неблагодарные сделки и компромиссы и покрываться тенью какого-то даже полицейско-сыскного дела».
Через полвека, уже по ту сторону революционной катастрофы, митр. Евлогий скажет столь же грустно: «Нужно заметить, что миссионерское дело в Русской Церкви стояло не на должной высоте... Не чувствовалось в нем подъема и воодушевления, не ощущалось веяния духа апостольского... Большинство архиереев относилось к этому важнейшему делу равнодушно. Святое дело миссии облекалось в формы бюрократические».
И, конечно, нельзя забыть слезы св. Николая Японского: «А миссионером здесь пока я один, и то частным образом. Да когда же эта раскинувшаяся на полсвета, семидесятимиллионная Россия найдет у себя несколько тысяч рублей и несколько десятков людей для того, чтобы исполнить одну из самых существенных заповедей Спасителя. Католичество и протестантство облетели мир. Ужели и здесь Православие ничего не сделает? Нет, не может быть – даст Бог. С этим «даст Бог» я поехал в Японию, с ним ежедневно ложусь спать и просыпаюсь, для него я семь лет бился над японским языком» (Иеромонах Николай (Касаткин). Письмо митрополиту Московскому Иннокентию).
Проходят годы, иеромонах становится епископом. Но все равно – одиноким. «О, как больно, как горько иной раз душе за наше любезное Православие! Я ездил в Россию звать людей на пир жизни и труда, на самое прямое дело служения Православию. Был во всех четырех академиях, звал цвет молодежи русской – по интеллектуальному развитию и, казалось бы, по благочестию и желанию посвятить свои силы на дело веры, в которой она с младенчества воспитана. И что же? Из всех один, только один отозвался на мой зов, да и тот дал не совсем твердое и решительное слово, – студент Забелин, и тот, быть может, изменит. Все прочие, все положительно, или не хотели и слышать, или вопрошали о выгодах и привилегиях службы. Таково настроение православного духовенства в России относительно интересов Православия! Не грустно ли? Посмотрели бы, что деется за границей, в неправославных государствах. Сколько усердия у общества служить средствами! Сколько людей, лучших людей, без долгой думы и сожаления покидают родину навсегда, чтобы нести имя Христово в самые отдаленные уголки мира! Боже, что же это? Убила ли нас насмерть наша несчастная история? Или же наш характер на веки вечные такой неподвижный, вялый, апатичный, неспособный проникнуться Духом Христовым, и протестантство или католичество овладеют миром, и с ними мир покончит свое существование?». «Мне грустно-грустно было, что до сих пор из Лавры и Москвы нет тружеников для миссии, и, прикладываясь к мощам святого Сергия, я не мог воздержаться умственно от жалобы: "Буду судиться с тобою пред Господом – отчего не даешь миссионера в Японию"».
В конце концов святитель Николай осознает, что понимания и помощи от русского духовенства он не дождется, что при жизни ему не будет дано увидеть рост созданной им миссии. «Знать, так и умру я, не дождавшись помощника и преемника. Так бедно Православие миссионерами! А инославных – Боже, какое необозримое множество их!». «Католичество и протестантство заняли весь мир; почти нет на свете островка и уголка, где бы не виден был или патер с своим учением о папе, которого он ставит чуть не четвертым лицом Пресвятой Троицы, или пастор с Библией под мышкой и готовый раздвоиться в толковании Библии чуть не с самим собою; а Православие, наше безукоризненное, светлое, как солнце, Православие таится от мира! Вот и еще страна, уже последняя в ряду новооткрытий: хоть бы здесь мы могли стать наряду с другими, не для соперничества и брани – это не свойственно Православию, – но для того, чтобы предложить людям прямую истину вместо искаженной, – и ужели станем сзади, сложа руки или ограничась ничтожными действиями? «В России», говорят, «денег нет»! А в Иудее разве больше было денег, когда она высылала проповедников во все концы мира? А в Греции разве больше нашего было средств, когда она просвещала Россию? «Людей тоже нет»! У каких-нибудь моравских братий, которых и самих-то не больше пяти-шести тысяч, есть люди, чтоб идти на проповедь к лапландцам, а у семидесятимиллионной России людей нет! Боже, да когда же у нас люди будут? И разве люди могут сами твориться, если их не вызовут к бытью? Отчего же их не вызывают? Где творческие силы? Или они иссякли?».
«Протестантский мир в начале двадцатого столетия стоит во всеоружии четырехсот сорока девяти миссионерских обществ со стеною позади них великих церквей и неисчерпаемых источников... Кстати спросить: у нас же что против заграничных язычников? А вот что. В Китае – отец Иннокентий, да и тот еще вернется ли из России, куда вытребован Синодом; в Корее – отец Хрисанф; да в Японии мы, бедные, вдвоем с отцом Вениамином, что ныне в Нагасаки и годен более для русских, чем для японцев. Итого: четыре миссионера. Господи, воззришь ли Ты когда-либо на Православную Церковь, отъяти поношение от нея?». «В заключение пристали с вопросом: почему же Россия в Индии не имеет духовной миссии? Все имеют: и американцы, и французы, и немцы, не говоря уже об англичанах, а русской нет – почему?.. Почему, в самом деле? Не пора ли нам шире открыть глаза? Покуда же мы будем краснеть при подобных вопросах за наше немощество?».
«Какая это беда – не иметь достаточно проповедников и быть вынужденным довольствоваться всяким негодьем!».
При сопоставимом числе баптистов и православных в Японии 1903 года – «у баптистов десятки миссионеров, а православных миссионеров хоть шаром покати».
«Господи, скоро ли Православие воспитает в своих чадах такую верность по вере?». «Был в англицкой миссии; там опять – новые члены. Господи, откуда у них берутся люди?! А у нас вечно нет никого. Недаром такая грусть одиночества; знать, с нею мне и в могилу лечь придется – не даст Бог утешения видеть выходящими на поле Христово православных миссионеров, которым, собственно, и предназначено поле. Что ж, вероятно, не умедлят после выступить. Дай-то Бог поскорее, хоть и после нас! Мы пусть канем, как первая капля, бесследно пропадающая в жаждущей орошения земле». «Какое обилие христиански настроенных молодых людей в Америке, да и в других странах, кроме России! Скоро ли Православие даст такой цвет?»
«Духовенство – много ли в нем ценного в очах Божиих? Хоть в микроскопическом виде, и я имею опыт сего: 35 лет жду миссионера сюда, прошу, ищу его и – нет! Четыре академии в 35 лет не могут дать ни одного миссионера! Чудовищно! Дальше что?.. Да что! Не смотрел бы на свет Божий! Перо падает из руки». «Вот у них миссионеров не оберешься: куда захочешь и сколько захочешь – с избытком! Должно быть, еще чрез тысячу лет и в Православной Церкви появится сколько-нибудь подобной живости. А теперь она – птица об одном крыле».
Тысяча лет еще не прошла. А вот спустя сто лет пришлось посылать миссионеров не в Индию и Японию, а в Россию. Впрочем, и для этого случая их нашлось тоже немногим более четырех...
Конечно, не только наша национальная вина усматривается в этом многовековом кризисе. Все Средневековье, а не только Русь, прошло мимо мира ребенка (а педагогика – это и есть изначальное миссионерство). Да, Средневековье создало свою дивную культуру. Но в этой культуре не было места для ребенка. Вот слова блаж. Августина, столь же показательные для средневековой культуры, сколь и непонятные для культуры современной: «Кто не пришел бы в ужас и не предпочел бы умереть, если бы ему предложили на выбор или смерть претерпеть, или снова пережить детство?» (О граде Божием, 21,14).
Античная и средневековая культуры вообще не интересовались ребенком, рассматривая его как маленького взрослого. Даже детство Христа осталось за рамками Евангелий. Это молчание неудивительно: античные историки не считали нужным рассказывать о детских годах своих героев. Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» так начинает повествование о Цезаре: «Когда Сулла захватил власть, он не смог побудить Цезаря к разводу с Корнелией». Как видим, о детстве Цезаря просто ни слова. Было ли детство Цезаря таинственно? Секретно? Неизвестно? Провел ли он детские годы в гималайском ашраме? Да нет, просто античная литература не умеет описывать «негероическое», бессобытийное время.
Ребенок интересен античной литературе только как чудо-ребенок. Когда он ведет себя не по-детски мудро, мужественно или хитро, тогда заслуживает внимания (как спартанский мальчик, укравший лисенка). А так ребенок – это просто полюс недостатков: ребенок – тот, кто не умеет...
Основу античной библиотеки составляли книги, написанные монахами и для монахов. Великие книги. Мудрые советы. Но в итоге, как оказалось, христианскую педагогику нельзя импортировать из Средневековья. Ее там просто не было: «Идеал благонравного ребенка – тихий, рассудительный маленький старичок».
Нужны были столетия, чтобы через них проросло евангельское новое отношение к ребенку: «Если не будете как дети...» Христос – первый, кто увидел в ребенке плюсы. И, кстати, не пояснил, какие именно, дав нам тем самым и свободу и долг добрым и ищущим глазом всматриваться в жизнь детей. Может быть, главный детский плюс – отходчивость, непамятозлобие...
Через века зрело новое отношение к ребенку. Например, когда Златоуст неожиданно переворачивает традиционное отношение Бога и человека и предлагает нам на Бога взглянуть не как на своего Отца, а как на своего ребенка. Но все же это было редкостью (уже на следующей странице тот же Златоуст говорит привычное: «Приходя в зрелый возраст, мы смеемся над детскими забавами»).








