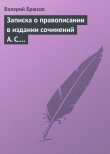Текст книги "Размышления читателя"
Автор книги: Андрей Платонов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
У Платонова-критика вызывало чувство протеста стремление (как он полагал) писателя-романтика создать условный мир, мир, освобожденный от «скверны конкретности», оставляя для этого мира «лишь главные элементы реальной вселенной: солнце, океан, юг, прямолинейно действующее человеческое сердце». Этим реальные трудности наполовину сокращаются. Ведь в реальном мире, кроме противостояния «человек – природа», есть еще социальное противостояние. Поэтому, убежден Платонов, произведения писателей-романтиков «не способны дать той глубокой радости, которая равноценна помощи в жизни», а ведь именно в этом и состоит задача и оправдание искусства. Вероятно, это слишком резко и решительно сказано. Романтическое искусство имеет право на свой путь к сердцу и разуму читателя, на свои условности. Однако Платонову были глубоко чужды художественные принципы романтизма. Он был слишком суровый и даже аскетичный человек и писатель, чтобы принять яркое искусство романтизма. Но его философские возражения серьезны и должны быть выслушаны. Тем более что его «нетерпимость» не помешала ему оценить картины «свободной, могущественной, доброй и злой природы» в рассказах А. Грина, увидеть и подчеркнуть открытие К. Паустовским «собственной страны», о которой он, Паустовский, говорил с «такой воодушевляющей прелестью, которая лишь изредка удается художнику слова».
Есть и другой аспект отношений человека с природой. Он тоже важен для Платонова – это противопоставление Природы и Цивилизации. С этим противопоставлением связан уход человека в природу, поиски «страны непуганых птиц и зверей», желание укрыться среди девственной природы от противоречий жизни. Это своеобразный протест человека против несовершенства общества. И этот протест понятен и объясним. Но вот вопрос – достойный ли это выход для человека? И не является ли подобная социология и философия выражением социального эгоизма? Платонов решает этот вопрос однозначно – человек не имеет права на бегство. Нельзя требовать «немедленной компенсации за свою общественную ущемленность», тем более что индивид легко может принять свою «раздраженную мысль» за действительное бедствие. Место человека в ряду других людей, «преодолевающих несовершенства и бедствия человеческого общества».
Отношения человека и природы Платонов понимал динамически и исторически конкретно – в обществе природа является звеном, посредством которого осуществляются социальные связи человека. В процессе человеческой истории природа становится человеческой, или, как говорил Платонов, происходит одухотворение мира. Герой повести Вэша Куоннезина («Исчезающая граница»), о которой в 1941 году пи– сал Платонов, бежит от капиталистической цивилизации в природу, бежит в поисках «страны непуганых птиц и зверей». Однако на этом пути нет и не может быть удачи – это движение назад. Потребовалось много времени и много событий, прежде чем герой начал другое движение, «медленное внутреннее продвижение в действительную страну непуганых птиц и зверей, в ту страну, которую создает человек своим творчеством, а не в ту, о которой он только мечтает по-детски». Узкоутилитарное, эгоистическое миропонимание рушится, и тогда человек осознает себя в огромном мире, осознает свою связь с этим миром, свою власть над ним и свою ответственность. Открывается новое ощущение себя в мире, где все – и человек, и животное, и неодушевленная природа, и вся вселенная – охвачено общим, единым ритмом жизни. Это чувство всепроникающей связи и есть источник творчества человека, творчества как «элемента этой связи».
Но так ли однозначно толкуется «всеобщая связь всего живого»? Не следует ли более решительно и определенно подчеркнуть социальный аспект этих связей? В романе Р. Олдингтона «Сущий рай» тоже много говорят об «огромной пряди жизни, которая прялась тысячу миллионов лет». И герои романа, и сам автор как бы забывают о том, что «прядь жизни» давно уже прядется не только природой, но и руками миллионов трудящихся людей. Природа здесь как бы выпадает из социальных отношений, она холодно и равнодушно противостоит человеку. Противостоит как укор и как арбитр человеческой судьбы. И Платонов возражает Олдингтону: «Природа нас не рассудит, у нее другое назначение, и обращаться к ней для решения наших, сугубо человеческих дел не только бессмысленно, но и печально». Путь от амебы к человеку (все та же «прядь жизни») есть путь бессознательный, движение же человека в истории есть дело его рук, его воли, его разума. «Для социалистического человека, – писал К. Маркс, – вся так называемая всемирная история есть не что иное, как порождение человека человеческим трудом, становление природы для человека…» [4]4
К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., Госполитиздат, 1956, стр. 598.
[Закрыть]
Поэтому иллюзии Р. Олдингтона, его надежды преобразовать мир на разумных основаниях вне и независимо от народа, усилиями «бедного, одинокого» сознания вызывают резкое осуждение Платонова. Особенно неприемлемы для него проникнутые экзистенциальным стоицизмом слова Криса (героя романа) о том, что если попытки преобразовать мир и не принесут нужных результатов, то останется радость самой попытки. «Крис (и, может быть, Олдингтон) не предполагает, насколько чуждо большим человеческим массам такое спортсменско-эстетское отношение к своей жизни и к истории. Люди живут не в шутку, чтобы допустить неудачу своих надежд и усилий; если даже неудачи бывают, то человечество, терпя великие жертвы, ищет и находит выход к удаче…» Это суждение верно и своевременно в наши дни.
Дело, однако, не только в пассивности стоицизма. Крис, конечно, полон искреннего желания улучшить человеческое общество и понимает необходимость подобной работы, но полное непонимание того, как к этой работе приступить, и стремление самому изобрести рецепт спасения мира – все это внушает Платонову опасение. Время, когда писалась эта статья (1938 год), было суровым и требовательным. Человечеству грозил фашизм. И литература должна была духовно вооружать людей. Поэтому с таким вниманием и ответственностью следил Платонов за работой своих товарищей по перу – передовых писателей Запада. Ему как критику и художнику, безусловно, импонировали попытки этих писателей открыть и показать «истинное достоинство современного человека». Однако Платонов полагал, что в такое тревожное время, когда человек особенно нуждается в поддержке, писателю следует прямо и открыто изображать торжество доброго и мужественного в людях. Точнее – писатель должен всегда иметь в виду, что, как бы ни было тяжело положение народа, он ищет и находит путь в будущее, ибо его, народа, «плаванье во время и в историю – плаванье безвозвратное». И он упрекает Э. Хемингуэя за отказ от прямого раскрытия доброго и героического человека. «Хемингуэй идет косвенным путем, – писал Платонов, – он «охлаждает», «облагораживает» свои темы и свой стиль лаконичностью, цинизмом, иногда грубоватостью, он хочет доказать этическое в человеке, но стыдится из художественных соображений назвать его своим именем». Сам Платонов-писатель никогда не стыдился прямо говорить об «этическом» и призывал к этому передовую литературу.
Подлинное искусство обращено к людям, призвано помочь им. Оно крепко-накрепко связано с обществом, его породившим, связано происхождением и направленностью. Но если это действительно прогрессивная сила, то искусство несет в себе и преодоление своего времени, «указывает выход из своего общества и времени». Оно есть преодоление исторической судьбы народа. Искусство, говорит своими статьями о литературе Платонов, дело не менее важное и серьезное, чем самая жизнь. И потому книги следует писать – «каждую, как единственную». Этим высоким критерием оперирует Платонов в своих критических статьях.
Свою книгу о литературе Андрей Платонов хотел назвать «Размышления читателя». И это не только выражение его скромности. Он действительно стремился говорить о книгах других писателей не как критик-профессионал, а просто как читатель. Ему казалось, что «литературная критика всегда немного кощунственное дело: она желает все поэтическое истолковать прозаически, вдохновенное – понять, чужой дар – использовать для обычной общей жизни». Это опасение Платонова понятно – он боится, как бы анализ не нарушил поэтического обаяния искусства. Однако самое это противопоставление «критик – читатель» условно. Читатель тоже переводит поэтическое на язык обыденной жизни. С другой стороны, критик и есть читатель, только особый читатель – способный лучше и глубже понять и оценить художественное произведение и донести свое понимание до остальных читателей.
Нашему современнику кое-что в книге Платонова может показаться наивным или несколько прямолинейным, но читатель, безусловно, поймет и по достоинству оценит искреннюю заботу писателя о литературе, его стремление рассказать о народных истоках искусства, его гуманизм и глубокую веру в светлый разум человека и проповедь активного и действенного реализма.
I
ПУШКИН – НАШ ТОВАРИЩ
Народ читает книги бережно и медленно. Будучи тружеником, он знает, сколько надо претворить, испытать и пережить действительности, чтобы произошла настоящая мысль и народилось точное, истинное слово. Поэтому уважение к книге и слову у трудящегося человека гораздо более высокое, чем у интеллигента дореволюционного образования. Новая, социалистическая интеллигенция, вышедшая из людей физического труда, сохраняет свое, так сказать, старопролетарское, благородное отношение к литературе. Нам приходилось видеть, как молодые инженеры, агрономы и лейтенанты-моряки, сплошь люди рабочего класса, по получасу читали небольшие стихотворения Пушкина, шепча каждое слово про себя – для лучшего, пластического усвоения произведения.
Серьезность их отношения к человеческому духу, к искусству столь же велика, как и к работе на подводной лодке, на самолете, у дизеля, – если не больше. Эти люди не нуждаются в рекомендации Гершензона – читать медленно, чтобы видеть растения поэзии, живущие под толстым льдом поверхностного, равнодушного внимания. Теперь читатель – сам творческий человек, и у каждого есть поле для воодушевленной, поэтической деятельности, ограниченное лишь мнимым горизонтом. Несущественно, что эта поэтическая деятельность заключается не в стихотворениях, а в стахановском движении, например. Существенно, что эта работа требует сердечного вдохновения, напряженного ума и общественной совести.
Сам Пушкин говорил, что без вдохновения нельзя хорошо работать ни в какой области, даже в геометрии. «Писать книги для денег, видит бог, не могу…» – сообщал Пушкин из Михайловского осенью 1825 года. Стаханов тоже не ради добавочной получки денег спустился в шахту в одну предосеннюю ночь 1935 года. Паровозные машинисты-кривоносовцы в начале своей работы следовали своему артистическому чувству машины, вовсе не заботясь о наградах или повышенной зарплате. Наоборот, и Стаханов, и Кривонос, и их последователи могли подвергнуться репрессиям, – и некоторые стахановцы подвергались им, потому что враг, сознательный и бессознательный, темный и ясный, был вблизи стахановцев и посейчас еще есть.
Всегда можно очернить, опозорить передового, изобретательного человека. «Вы путь расшатаете, мы станем навеки!» – говорили отсталые железнодорожники кри– воносовцам. «А вы содержите путь по-новому: под высокую скорость и тяжеловесную нагрузку, – как мы содержим паровозы!» – ответили кривоносовцы. Риск искусства художника любого рода оружия – от поэта до машиниста – всегда был. Задача социализма свести этот риск на нет, потому что творческий, изобретательный труд лежит в самом существе социализма. Риск Пушкина был особенно велик: как известно, он всю жизнь ходил «по тропинке бедствий», почти постоянно чувствовал себя накануне крепости или каторги. Горе предстоящего одиночества, забвения, лишения возможности писать отравляло сердце Пушкина.
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
Но, предчувствуя разлуку,
Неизбежный, грозный час,
Сжать твою, мой ангел, руку
Я спешу в последний раз.
(«Предчувствие»)
Но это горе, возникнув, всегда преодолевалось творческим, универсальным, оптимистическим разумом Пушкина; это было видно и в предыдущем стихотворении («Сжать твою, мой ангел, руку») и особенно в следующем:
Гордись, гордись, певец; а ты, свирепый зверь,
Моей главой играй теперь:
Она в твоих когтях. Но слушай, знай, безбожный:
…Ты все пигмей, пигмей, ничтожный.
(«Андрей Шенье»)
И самый враг, «свирепый зверь» Пушкина – едкое самодержавие Николая, имевшее поэта постоянно на прицеле, – вызывал у Пушкина не один лишь гнев или отчаяние. Нет: пожалуй, еще больше он смеялся над своим врагом, удивлялся его безумию, потешался над его усилиями затомить народную жизнь или устроить ее впустую, безрезультатно, без исторического итога и эффекта. Зверство всегда имеет элемент комического; но иногда бывает, что зверскую, атакующую регрессивную силу нельзя победить враз и в лоб, как нельзя победить землетрясение, если просто не переждать его.
Понятно, что самодержавие внешне как будто мало походит на «землетрясение», но если 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь вышли одни дворяне, то, значит, самодержавие было еще непреоборимо: оно все же «землетрясение». Известно, кто в действительности справился с самодержавием, не оставив даже праха его.
До сих пор нельзя считать решенным, почему Пушкин не присутствовал на Сенатской площади. Выехав из Деревни в Петербург, он вдруг возвратился обратно, если бы он доехал до Петербурга, он поспел бы ко времени события и, конечно, появился бы на площади, хотя бы из чувства товарищества, в силу своего храброго и благородного характера. Существуют доказательства, что декабристы сами не привлекали Пушкина к активной роли в движении, отчасти ради сохранения его великого поэтического дара, отчасти из понимания, что Пушкин не годится для их мужественной работы по особенностям своей личности. Это со стороны декабристов. А как думал Пушкин? Считал ли он декабристов – не только по их мировоззрению, но и по их объективному значению, по их связи с исторической судьбой русского народа – вполне подходящими для себя, вполне соответствующими его знанию и чувству исторической жизни России, наконец, отвечающими его, пусть неясной, социальной надежде? Личные отношения с декабристами здесь не в счет. Пушкин знал высокую цену декабристам, но он знал также, что личные качества не всегда служат измерением для исторической стоимости человека.
Это можно доказать на отношении Пушкина к Петру и отчасти к Борису Годунову и Пугачеву.
Мы хотим поставить вопрос, не обладал ли Пушкин более точным знанием и ощущением действительности, чем декабристы. И затем – не играл ли он пассивную политическую роль в декабрьском движении по собственному почину, а его друзья лишь отметили этот факт, поняли его и, объяснив его в соответствии со своим высоким отношением к поэту, вполне согласились с таким поведением Пушкина. Иначе следует допустить, что великий поэт, будучи человеком храбрым, несчастным и гениальным, отказался принять участие в улучшении своей и всеобщей судьбы, то есть оказался человеком, мягко говоря, недальновидным и легкомысленным. А мы знаем, что Пушкин применяет легкомыслие лишь в уместных случаях.
Попытаемся подойти к вопросу об отношении Пушкина к самодержавию и декабристам со стороны конкретного произведения. Возьмем «Медный Всадник». А. В. Луначарский писал о «Медном Всаднике»: «…Самодержавие в образе Петра… рисуется как организующее начало… начало глубоко общественное… Великий конфликт двух начал, который чувствовался во всей русской действительности, Пушкин брал для себя, для собственного своего успокоения, как конфликт организующей общественности и индивидуалистического анархизма… Конечно, в известный момент истории просвещенный абсолютизм царей играл отчасти положительную роль. Но она быстро превратилась в чисто отрицательную, задерживающую развитие страны…»
Если же внимательно прочитать «Медного Всадника», то станет видно, что суждение А. В. Луначарского объясняет его собственное мировоззрение, но не Пушкина. В поэме просто нет таких двух начал – организующей общественности и индивидуалистического анархизма; здесь и сама терминология не пушкинская и не поэтическая, – это уже публицистика новейшего времени.
В «Медном Всаднике» действует одно пушкинское начало, лишь разветвленное на два основных образа: на того, «кто неподвижно возвышался во мраке медною главой, того, чьей волей роковой над морем город основался», и на Евгения – Парашу. Вся же поэма трактована Пушкиным в духе равноценного, хотя и разного по внешним признакам, отношения к Медному Всаднику и Евгению. Вот в чем дело. Этого доказывать не нужно, для этого нужно просто читать поэму без всякой предвзятости, руководясь Пушкиным, а не собственными идеями; в противном случае нельзя понять объективное значение не только Пушкина, но и любого явления.
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.
Красуйся, град Петров,
и стой Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия…
Это во вступлении к поэме.
И далее, во второй, последней части поэмы – про Медного Всадника, про Петра:
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
О мощный властелин Судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?
И вслед за этим стихи про Евгения:
Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел.
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом…
Но ведь это – состояние Евгения, а не Пушкина. Пушкин же совсем иначе ценил Петра и «его творенье». У Пушкина: «Он дум великих полн», а у Евгения – «горделивый истукан». Однако и Евгений для Пушкина – великий этический образ, может быть – не менее Петра. Вот кончина Евгения, после утраты Параши навсегда:
…Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради бога.
Трудно написать печальнее и точнее про смерть несчастного человека.
Итак, по Пушкину, Петр прекрасен, и автор его любит, а про Петербург сказано:
Люблю, военная Столица,
Твоей твердыни дым и гром…
Евгений же изображен на протяжении всей повести-поэмы как натура любви, верности, человечности и как жертва Рока. Пушкин тоже любит его.
Больше того, Пушкин отдает и Петру и Евгению одинаковую поэтическую силу, причем нравственная ценность обоих образов равна друг другу. Из глубины своего деятельного сердца, из истинного творческого воодушевления, из поэтического человечного в конечном счете источника Петр создал свое чудное творение – Петербург и новую, европейскую Россию. И в глазах Пушкина предстало великое искусство, условно сосредоточенное в бронзовом памятнике Медному Всаднику, – поэт и истинный человек не мог не удивиться ему, не почувствовать в своей душе родства с Петром – по вдохновению жизни, по быстрому, влекущему стремлению к даль– ним целям истории… Но вот – Евгений. Бедный человек, чиновник. Его душа, тесно огражденная судьбою и общественным положением, могла отдать всю свою силу лишь в любовь к Параше, к дочери вдовы. Но эта такая частая и обычная человеческая страсть, взращенная в самых теснинах уединенного сердца и усиленная ими, – эта страсть не побеждается даже наводнением и гибелью Параши, даже Петром Первым, ничем, – человек уничтожается вместе со своей любовью. Это не победа Петра, но это действительная трагедия. В преодолении низшего высшим никакой трагедии нет. Трагедия налицо лишь между равновеликими силами, причем гибель одной не увеличивает этического достоинства другой.
Евгений с содроганием прошел мимо Медного Всадника и даже погрозился ему: «Ужо тебе!», хотя и признал перед тем: «Добро, строитель чудотворный!»
Даже бедный Евгений понял кое-что: «Строитель чудотворный!» Словно на мгновение его посетил сам пушкинский разум и просветил его потрясенное, разрушенное сердце. Евгений тоже ведь «строитель чудотворный», – правда, в области, доступной каждому бедняку, но недоступной сверхчеловеку: в любви к другому человеку. В это мгновение прошло понимание и как бы примирение между Евгением и Медным Всадником.
В повести Пушкина нет предпочтения ни Петру перед Евгением, ни наоборот. Они, по существу, равносильны – они произошли из одного вдохновенного источника жизни, но они – незнакомые братья: один из них не узнал, что он победил, а другой не понял своего поражения.
Но что было бы, если бы Параша осталась жива? Евгений пошел бы к ней в «домишко ветхий», и мир ограничился бы этим грустным жилищем, где бездеятельная, бессильная бедность иссушила бы вскоре любящие сердца.
А Петр? Он бы весь мир превратил в чудесную бронзу, около которой дрожали бы разлученные, потерявшие друг друга люди.
Где же выход? В образе самого Пушкина, в существе его поэзии, объединившей в этой своей «петербургской повести» обе ветви, оба главных направления для великой исторической работы, обе нужды человеческой души. Разъедините их: получатся одни «конфликты», получится, что Евгений – либо убожество, либо «демократия», противостоящая самодержавию, а Петр – либо гений чудотворный, либо истукан. Но ведь в поэме написано все иначе.
Видевший повсюду свежие следы деятельности Петра, Пушкин словно верил, что явление Петра еще раз повторится в русской истории, потому что дело Петра только начато, а вовсе не завершено. Ведь «народ безмолвствовал», откуда же еще ждать спасения? А в дворян, в своих «соплеменников», Пушкин верил очень слабо: образа дворянина-декабриста поэт не создал и не пытался его создать, он прославил декабристов лишь, так сказать, дидактически («Во глубине сибирских руд…» и другие стихотворения). Он знал, видимо, другую, свою, цену декабристам, отличную от нашей оценки их. Только в дали неопределенного будущего он предвидел, что декабристов помянут добрым словом – «и братья меч вам отдадут». Это исполнилось, но в гораздо более смелом и широком развороте истории. Пушкин вообще считал вперед довольно скромно: хорошие дороги с трактирами он предвидел, например, лишь лет через пятьсот. Он, конечно, сам грустно улыбался при такого рода предсказаниях (через пятьсот лет!): эти предсказания ведь равнозначны гаданиям о вечности, в которой все может случиться – что угодно. За такой срок можно даже предсказывать горы на месте волжского русла.
В близком родстве с «Медным Всадником» находится другая поэма – «Тазит». Евгений из «Медного Всадника» и Тазит – несомненно родные братья. Внутренняя тема обеих поэм одинакова. В «Тазите» опять действует великое сердце человека.
Отец.Кого ты видел?
Сын (Тазит).Супостата.
Отец:Кого? кого?
Сын.Убийцу брата.
Отец.Убийцу сына моего!..
Приди! Где голова его?
Тазит!.. Мне череп этот нужен,
Дай нагляжусь!
Сын.Убийца был
Один, изранен, безоружен…
И к концу поэмы (где любовники – в противоположность «Медному Всаднику» – соединились в «домишке ветхом»):
Но между юношей один
Забав наездничьих не делит,
Верхом не мчится вдоль стремнин,
Из лука звонкого не целит.
И между девами одна
Молчит уныла и бледна.
Они в толпе четою странной
Стоят, не видя ничего,
И горе им: он сын изгнанный,
Она любовница его…
Если бы не наводнение в Петербурге, то Евгений и Параша могли бы окончить свою судьбу, как Тазит и его возлюбленная: «и горе им», – с тою лишь разницей, что горе Тазита – от изгнания, а у Евгения – от бедности. В остальном их горе одинаковое: горе души, переполненной одним чувством и обессиленной им, горе ограниченной жизни, которая ничего больше не берет для себя из действительности, не участвует в ней и никаких других «забав не делит». Вот что понимал Пушкин и показывал, чтоб понимали другие, и вот почему он любил Медного Всадника. Петр для Пушкина был направлением в обширный, деятельный мир, где, однако, тоже нельзя существовать без Тазита и Евгения, чтобы не получилась одна «бронза», чтобы Адмиралтейская игла не превратилась в подсвечник у гроба умершей (или погубленной) поэтической человеческой души. Сознание Пушкина, выраженное в мелодии стиха, во внутреннем качестве и смысле его поэзии, ясно подсказывает истинное решение темы: объединить Петра и Евгения – они одно; породнить снова навеки отца и изгнанного сына – Тазита. Но Пушкин не мог и не хотел идти на подобный сюжет для своих поэм: это было бы фантастическое, а не реалистическое решение темы; действительность не давала возможности на такой исход. И Пушкин решил истинные темы «Медного Всадника» и «Тазита» не логическим, сюжетным способом, а способом «второго смысла», где решение достигается не действием персонажей поэм, а всей музыкой, организацией произведения, – добавочной силой, создающей в читателе еще и образ автора, как главного героя сочинения. Другого способа для таких вещей не существует.
Едва ли столь глубокое отношение к Петру было свойственно декабристам: для этого требовалось иметь универсальный разум гения, не считая обязанности быть поэтом. Декабристы сами многому и впервые научились у Пушкина.
С печалью и жадностью Пушкин осматривался в окружающем его мире, ища те силы, которые зажгли бы «солнце святое» и потушили бы свечки. В такие минуты он согласен был стать даже декабристом, а в Кишиневе хотел, чтобы его нанял кто-нибудь подраться за себя.
Мы уже говорили, что Пушкин не верил в историческую силу дворянства: он хорошо знал своих «соседей». Евгений Онегин, может быть, прелесть, но не сила; а реальная аристократия и деревенские помещики – это материал для эпиграмм и для будущих повестей Гоголя. Поэт ясно ощущал, что главная дорога истории началась где-то в стороне и второй Петр Первый уже никогда не появится. Пушкин едет в оренбургские степи, где ходил «бушующий мужик-казак» Пугачев.
В ту же пору своей жизни он пишет «Повести Белкина». «Черный народ», мелкие служащие, смотрители почтовых станций, коменданты забытых крепостей, крестьяне, пугачевцы, придорожные кузнецы и мастеровые, обездоленные девушки становятся предметом изучения и творчества Пушкина. Как бы невзначай, непреднамеренно он начинает великую русскую прозу XIX и XX веков.
Известно (см. А. С. Пушкин, т. V. М., Гослитиздат, 1935), что Пушкин в очень осторожной, иногда даже двусмысленной форме выразил свое сочувствие пугачевскому народному движению, хотя и не нашел в нем, и не мог найти, того, чего искал. И в этом «потустороннем» мире еще не было полной истины. Отношение Пушкина к Пугачеву в какой-то степени напоминает его отношение к декабристам. Правда, доказать это трудно, потому что Пушкин был очень связан и ограничен специфическими условиями (цензором-царем, своим общественным положением и пр.), чтобы яснее сформулировать свое мнение о Пугачеве. И наоборот, в отношении декабристов поэт был более свободным, и, кроме того, там имелись дружеские связи и родство по положению в обществе. Если снять эти коэффициенты на «удаленность», на социальную «потусторонность» Пугачева и на «приближенность» декабристов – величины хоть и реальные, но для нашей мысли несущественные, – то останется уважение Пушкина к обоим освободительным движениям и грустное разочарование в них. Причем в деле с декабристами поэт как бы заранее предчувствовал неудачу. Он видел точнее декабристов.
И Пушкин оказался прав, потому что время Петра – «известный момент… просвещенного абсолютизма царей, игравшего отчасти положительную роль» (А. В. Луначарский), – уже прошло, а никакой другой положительной исторической силы, в персонифицированном виде, еще не появилось; даже ублюдочная, «промежуточная» русская буржуазия еще только нарождалась и пока что смирно, «по-коммерчески» вживалась в Россию, а до действительной силы истории – до рабочего класса – было вовсе далеко. Работали одни, так сказать, предварительные вспомогательные силы (Пугачев) и декабристы. Ни те, ни другие не могли удовлетворить Пушкина, хотя и заинтересовали его до глубины души. Он думал о более главном.
История существовала лишь в свернутой, в своей предысторической форме. Действительность была словно ненастоящей. И Пушкин ощущал это обстоятельство. Поэтому, читая его, иногда кажется, что поэт сам жил и работал будто не всерьез. Едва ли Пушкин шутил: эта шутка не забавна, утомительна и печальна. Конечно, мы говорим не о качестве стихов, а об их пессимистическом смысле в частых случаях. Евгений Онегин живет на свете из роковой и жалкой неизбежности: ему лишь бы отбиться как-нибудь, а чтоб вытерпеть эту нагрузку, он равнодушно занимается почти не действующими на него удовольствиями. Какая разница с другим Евгением – из «Медного Всадника» – и Тазитом! Последние были как бы менее историческими людьми, Онегин же вполне точный социальный тип.
В истории, в большой жизни будто стало нечего делать:
…Евгений
Наедине с своей душой
Был недоволен сам собой.
Онегин не был отрицательным, как теперь говорят, типом. Он был всего лишь несчастным человеком, но причины своего бедствия не понимал и даже не заботился о таком понимании. В другое время, при другом состоянии общества Онегин мог бы стать героем великой деятельности. По адресу «света», то есть верхней части общества, из уст персонажей Пушкина нередко раздавалось глумление, издевательство, поднимавшееся до сатирического обобщения, до масштабов всей природы, до самых принципов общественного существования, – все же это было совершенно не то, что, продолжая эту частную пушкинскую линию, совершили затем Гоголь, позже Достоевский, Щедрин и другие. Мы еще вернемся к продолжателям дела Пушкина, столь, в сущности, непохожим на него.
Адресуясь определенным образом к «свету», Пушкин никогда не опорочил народа, даже когда, казалось, он был близок к этому. В стихотворении «Чернь» поэт (не Пушкин, а действующее лицо стихотворения) говорит:
Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты чернь земли, не сын небес.
А народ отвечает «поэту»:
Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй…
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.
Народ ответил терпеливо и благородно, а «поэт» говорил с ним как самонадеянный хвастун.
Но в чем же тайна произведений Пушкина? В том, что за его сочинениями – как будто ясными по форме и предельно глубокими, исчерпывающими по смыслу – остается нечто еще большее, что пока еще не сказано. Мы видим море, но за ним предчувствуем океан. Произведение кончается, и новые, еще большие темы рождаются из него сначала. Это семя, рождающее леса. Мы не ощущаем напряжения поэта, мы видим неистощимость его души, которая сама едва ли знает свою силу. Это чрезвычайно похоже на обыкновенную жизнь, на самого человека, на тайну его, скажем, сердцебиения. Пушкин – природа, непосредственно действующая самым редким своим способом: стихами. Поэтому правда, истина, прекрасное, глубина и тревога у него совпадают автоматически.