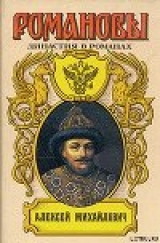
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 56 страниц)
Великая сила мастеровых и мелких торговых людишек собралась после обедни на Красной площади, у храма Василия Блаженного.
– Волим к царю с челобитною!
Ближние люди царевы набросились с кулаками на стрелецких полуголов.
– Так-то блюдете вы покой государев?
Служилые виновато отступали.
– Нешто можно нам православных христиан в храм не пущати?
Алексея всполошил рокот толпы. Когда отошла служба, он, посоветовавшись с Милославским, приказал допустить к нему челобитчиков.
Точно изваянный из камня и золота, сидел на троне важный и недоступный царь. Рядом с ним, такой же величественный и строгий, восседал, опираясь на палицу, патриарх. Ниже, до отказу задрав бороды к подволоке и выпятив животы, разместились на лавке ближние бояре.
Объятые трепетом, по одному, вползали на четвереньках выборные. Колотясь головой об пол, они благоговейно лобызали царский сапог и неслышно отталкивались в сторону Когда обряд целования окончился, Алексей разрешил челобитчикам встать.
– Сказывайте, по какой пригоде пожаловали.
Выборные переглянулись, но никто из них не решался заговорить. Тогда Никон наугад ткнул посохом в первого попавшегося старика.
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа, реки.
Старик, покряхтывая, опустился на колени и жалко уставился на царя
– Лихо нам, государь, горемычным сиротинам твоим!
– Лихо? – поморщился Алексей и с недоумением поглядел на патриарха.
Милославский заерзал на лавке и погрозил кулаком челобитчику.
– Лихо! —повторил выборный, не заметив угрозы Милославского. – Не дай, нам, преславный, природным своим холопам и сиротинам, от иноверцев и приказных жить в скудости и нищете.
Никон гневно поднялся.
– А ведомо ль вам, какую годину мать наша. Русь православная, переживает?
Царь остановил его мягким движением руки
– Не сбивай. Пущай печалуется да памятует что всяческая слеза сиротин моих – моя слеза.
Ободренный старик благодарно коснулся губами государева сапога.
– А бьем челом на том, государь, чтобы все были в тягле и в свободе иль в льготах равны, чтоб во всем народе мятежа и розни не было.
Милославский еле сдержался, чтобы не наброситься на смелого челобитчика. Алексей же, умиленно уставившись на образа, зашептал пухлыми губами молитву и, кончив склонился к выборному
– Восстань!
В повлажневших глазах царя сквозила скорбь.
– Воистину, тяжело испытует Господь людишек моих!
Он закрыл руками лицо и сокрушенно покачал головой:
– А то неспроста: за грехи наказует Господь За грехи плачет кручинная наша земля.
И, повернувшись неожиданно к патриарху, полным голосом крикнул:
– По делом человеков и отпускается им! Да мы не печалуемся, не ропщем!
Патриарх сурово поглядел на присмиревших челобитчиков.
– Молитеся о временах мирных. Ибо ныне, в годину брани и испытания, ропщут токмо недруги государевы.
Выборные, поклонившись царю, ушли из Кремля. На Красной площади было уже пусто: окольничий, пока послы были у царя, убедил толпу разойтись.
* * *
– Все от Никона, все от ереси его богомерзкой, – шептались по уголкам посадские и торговые люди. – Не было новой веры, мерзкой Богу, не было и лютых напастей на православных.
Чтобы избавиться от насилий царевых людей и никонианцев, «повелевающих кланяться болванам», многие побросали дома свои и ушли в леса и скиты на соединение с вольницами и на «подвиг спасения души». Но и в самой Москве, и в других городах раскольники, чувствуя за собой силу, повели открытую борьбу против Никона.
Протопоп Аввакум, вернувшийся из мезенской ссылки, куда отправил его патриарх, не только не смирился, но еще пуще осатанел. В одно из воскресений, дождавшись выхода народа из церкви, он истошным голосом крикнул:
– Молитеся, православные! Приближается бо кончина мира, и антихрист уже пришел, двурожный зверь. Един рог – царь, другой – Никон.
Площадь окружили, точно выросшие из земли, стрельцы. Голова взмахнул бердышом.
– Бей!
Но пораженные неслыханной смелостью протопопа, бесстрашно продолжавшего свою исступленную речь, стрельцы обнажили головы и не двинулись с места.
– И царь, и патриарх, и все власти поклонились антихристу! – дергаясь, выкрикивал протопоп и грозил кулаками в сторону укутанного в туман Кремля.
Потоками огненного ливня падали в сердца людей эти слова. И хотя многие, не искушенные в книжных спорах, не понимали истинного смысла речей, все они горели таким же бурным пламенем, как и сам Аввакум. Им все равно было, что послужило началом борьбы с государем, спор ли о книгах богослужебных или о двоеперстном кресте, они знали одно, понятное всем обезмоченным людишкам, – Аввакум ненавидит сегодняшние порядки, а кто восстал против порядков, с тем всякому нищему по пути.
Как очумелый, прибежал Ртищев к Никону.
– Хула на государя… и на тебя, патриарх! – выпалил он, задыхаясь от бега.
Никон по– отечески обнял постельничего.
– Не кручинься, чадо мое Ведаю про все и спослал великую силу монахов противу того Аввакума… Рейтарами переряженные, покажут они еретику, как смутой смутить!
Усадив Федора подле себя, патриарх показал ему цидулу от нижегородского воеводы.
– Корепин? – подпрыгнул от неожиданного Ртищев и широко разинул рот.
– Оный и есть!
Придя немного в себя, Федор решительно взялся за шапку.
– Куда?!
Постельничий гордо выпятил хилую грудь. Острые плечики его откинулись назад. Казалось, стоит ему взмахнуть тонкими плетями рук, и, полный порыва, оторвется он от земли, ринется в бой с самим небом.
– Сам, своими перстами удавлю поганого смерда! – взвизгнул он. – К государю пойду!
И, не слушая увещаний едва сдерживавшего смех Никона, бросился в сени…
Алексей принял Ртищева в опочивальне.
– Не набедокурил ли сызнов?
Федор упал на колени.
– Не я, Корепин набедокурил!
Ничего не понявший царь раздраженно насупил брови.
– С коих пор повелось, чтобы царей тревожить челобитною на Корепиных неведомых? Аль повышли у господарей батоги?
Постельничий стукнул об пол лбом.
– Не с челобитную я, а с вестью недоброю. Корепин, тот самый, что в языках ляцких ходил, холоп мой беглый, разбоем ныне промышляет на Волге. Атаманом ходит!
Поднявшись с колен, он умоляюще поглядел в посеревшее лицо государя.
– Покажи милость, отпусти меня на рать противу изменника!… Дай мне, сиротине твоему, великою потехой потешиться – сими перстами изменника удавить.
Алексей пытливо уставился на постельничего.
– Нешто и он блудил с Яниной, что так распалился ты противу него?
Но, заметив, как помертвело вдруг лицо Федора, дружески улыбнулся:
– Не гневайся, Федька, то не от сердца я. С юных лет верю в чистое сердце твое… А посему благословляю тебя на рать.
* * *
Вечером царевна Анна, выпроводив от себя боярышень, мамок и шутих, осталась вдвоем с Марфой.
– Лихо! – вздохнула она, подперев рукой двойной подбородок.
Боярышня недоуменно подняла голову
– Уж не занедужила ли от ока дурного?
Царевна положила вздрагивающую руку на голову Марфы.
– Я-то здрава, что со мной содеется… А с тобой вот – лихо.
– Со мной?…
Понизив голос до шёпота, царевна приблизила губы к уху боярышни:
– Пожаловал братец мой Ртищева воеводой противу разбойных людишек.
Напуганная было таинственным видом Анны, боярышня облегченно вздохнула.
– Неужто же мне кручина сия в кручину? Лети, соколик, воронам на потребу!
– Дура! – рассердилась Анна и больно ущипнула боярышню. – Аль век задумала в девках сидеть?
* * *
Федор стал частным гостем царевны. Едва освободившись от дел, он, пользуясь правом ближнего человека царева, не испрашивая разрешения, уходил на женскую половину дворца.
Поклонившись до земли Анне, он усаживался на краешек лавки и неизменно начинал с одного и того же;
– Вечор из пищали стрелял. Ратному делу навычаюсь. Так вот – ворон, а так вот – я.
Царевна улыбалась и подсаживалась ближе к гостю.
– И каково?… Убил ворона, а либо ранил?
– Покель не поддается проклятая птица. Каркает, а чтобы помереть или раниться – ни в какую!
Марфа, не вмешиваясь в разговор, усердно занималась рукоделием. Лишь изредка она печально осматривалась по сторонам, глубоко вздыхала и, хрустнув пальцами, снова склонялась над работой.
– Об чем тужишь? – спрашивала тогда царевна и щурилась на Федора.
Ничего не подозревавший постельничий виновато опускал голову и молчал…
Однажды Ртищев пришел в светлицу необычайно возбужденный и радостный.
– А боярышни нету? – спросил он, прикладываясь к руке царевны.
– Ишь ты, без боярышни и не дыхнет, – лукаво погрозилась Анна.
– Я не к тому… Я чтобы поклон отдать. Отъезжаю.
Царевна вздрогнула и отступила. Игравшая на ее лице приветливая улыбка исчезла.
– Все то вы, мужи, как един! Закружите, завертите девичьи сердца наши непорочные, а сами, как соколы, встряхнулись, крылами взмахнули и нету вас!… А я-то думала, Федор-де не из таковских!
Хотя Федор продолжал ничего не понимать, сравнение с соколом весьма польстило ему.
– Да оно хоть и сокол я, сдается, не клевал будто я сердца боярышни… Чтой-то не разумею.
Анна подошла вплотную к гостю и строго поглядела в его глаза.
– Лукавишь!… Иль не зрю я, что иссохлась Марфинька по тебе?
Она усадила опешившего постельничего на лавку и принялась рассказывать, как тает от любви к нему боярышня.
* * *
Ртищев ушел от царевны преображенный.
– Ну, какой я муж ратный, коли ворона убить не могу? – настойчиво спрашивал он и с наслаждением повторял слова, сказанные ему царевной:– Мое дело ученья свет возжечь в сердцах человеческих, а не из пищалей палить… Так ли?
– Так, так! – поддакивали собеседники и спешили отделаться от навязчивого постельничего.
У Троицких ворот, по дороге к царю, Федор встретился с Львовым.
– Здорово, воевода! – ядовито ухмыльнулся князь, свысока оглядывая Ртищева.
– Ну, какой я воевода, коли ворона убить не могу, – воспользовавшись случаем, остановился Федор.
– Доподлинно, – охотно подтвердил Львов, – воевода из тебя, что попу из бабьего сарафана риза.
Ртищев так был занят своими мыслями, что не понял обидной шутки.
– Вот, вот… Тоже и я реку! Еще греческие филосопы поущали…
Князь заткнул пальцами уши и трижды сплюнул.
– Не погань ты слуху нашего словесами языческими. За твои за филосопии, кол бы осиновый тебе всадить да в монастыре Андреевском на крыльце приладить на радости еретикам.
Федор растерянно попятился и обратился к дозорному стрельцу:
– Ну, обскажи хоть ты… Я ему про воеводство…
Но тотчас же осекся и почти бегом направился к царевым палатам.
Алексей, предупрежденный сестрой, встретил Ртищева с широкой, во все лицо, улыбкой.
– Едем?
– Коли воля твоя, еду, преславный…
– А может, застанемся?
Постельничий упал в ноги царю.
– Застанемся, государь! Ну какой я муж ратный, коли из пищали ворона убить не могу?
Царь помог встать Ртищеву и обнял его.
– А слыхивали мы от сестрицы, будто смутил ты сердце боярышни Марфы… Так ли?
– Так, государь! – залился гордым румянцем постельничий.
– Коли так, вместно тебе и побрачиться с нею.
– Коли воля твоя, государь…
– И добро. Быть по сему.
ГЛАВА VIIПосле женитьбы Ртищев забросил все свои дела и ни на минуту не разлучался с женой. Он старался предугадать каждое желание Марфы, потакал малейшей ее прихоти. В первое время молодая стойко переносила присутствие мужа. Иногда ее просто забавлял этот маленький человек, наряженный в польский жупан, вечно суетившийся и строивший самые неразумные планы преобразования государства. Но вскоре ей прискучили бесконечные ласки, слюнявая любовь и постоянная болтовня мужа.
– Ты бы, чем дома сидеть, – предложила она однажды, – творил дела какие добрые во имя Христово.
Ртищев, как всегда, увлекаясь, страстно ухватился за мысль жены. Едва дождавшись утра, он отправился к ближайшей церкви и там, склонившись перед распятием, долго и смиренно вымаливал благословения на какой-либо достойный христианина подвиг. После обедни, разомлевший и ни до чего не додумавшийся, он пробрался в алтарь и таинственно поманил к себе священника.
– Жажду подвигов христианских, отец, а за что приняться – в толк не возьму.
Поп одобрительно покачал головой.
– Похвально, чадо мое, гораздо похвально.
И с едва скрытым презрением оглядел жалкую фигуру постельничего. «В колпак бы тебя обрядить, чтоб малых чад потешал, вон оно тебе дело какое под стать», – подумал он, а вслух с чувством произнес:
– А хочешь великое добро сотворити, внеси лепту свою на храм сей и да почиет на тебе благодать дара духа свята.
Ртищев, ожидавший дельного совета, раздраженно поморщился.
– У тебя, отец, токмо и глаголов, что о лепте на храм сей да о нуждах своих. Ты бы хоть единожды иному деянию вразумил.
Но, тотчас же раскаявшись, виновато уставился на образа:
– Прости, Христа ради, лютость мою… Ныне же внесу тебе свою лепту, токмо вразуми на подвиг.
Поп обещал подумать и дать к вечерне ответ.
Федор, томимый жаждой сделать что-либо такое, что было бы угодно Богу и пришлось бы по нраву Марфе, затрусил на своем скакунке по улицам. Несмотря на праздничный день, улицы были почти пусты. Лишь изредка попадались дозорные да, обдавая пылью, с треском и грохотом проносилась одинокая колымага.
Постельничий свернул к окраине. Порасспросив у приказных о жителях, он решил наиболее нуждающихся одарить богатой казной. Мысль показалась ему удачной. Он приободрился и повеселел.
– Всех одарю… Достойных и недостойных!
Однако чем ближе подъезжал он к заставе, тем неприятней скреблось в груди чувство какой-то странной неудовлетворенности. «Ну, пожалуешь их казной, а на долго ли умилишь тем их жизнь? – думал он. – Токмо и радости, что напьются с гладу и в сугубые грехи ввергнут души свои…» Вдруг он остановил коня и шлепнул себя ладонью по лбу.
– Эвона!… Погоди!…
И в страшном возбуждении поскакал домой.
– Надумал я, Марфинька! – воскликнул он, повисая на шее у жены. – Грядет час, в кой ни единого на Москве не застанется хмельного человечишка!
Марфа высвободилась из объятий мужа и показала ему рукой на лавку.
– Садись, а там и потолкуем.
* * *
Вскоре, испросив разрешения у государя, постельничий занялся постройкой огромного приюта для пьяниц. Он так увлекся своей новой затеей, что почти не бывал дома и совсем позабыл о существовании Андреевского монастыря.
Марфа, предоставленная самой себе, с первых же дней заскучала. Ей нечем было заполнить свои дни, и они проходили, один за другим, долгие и безрадостные. Федор возвращался с работы ночью и заставал Марфу уже в постели. Наклонившись к жене, он с отеческой заботливостью и нежностью глядел на похудевшее лицо ее, не смея громко вздохнуть, чтобы не потревожить ее тихого сна. Но Марфа не спала, чувствовала на себе взгляд мужа. Ей становилось жалко его, хотелось привлечь его к себе, поделиться с ним своей тоской, и она готова была протянуть к нему руки, мягко-мягко окликнуть его – но еще плотней закрывала глаза и гадливо кривила губы…
Осенив крестом жену, Федор бочком уходил к себе, и помолясь, укладывался в постель. Поутру, едва потрапезовав, он садился на своего скакунка и мчался к месту постройки.
Быстро, точно из-под земли, выросли затейливые хоромы. Ртищев не жалел казны на украшение и внутреннее убранство приюта. Все терема были расписаны нарочно приглашенными для этого иноземными мастерами. В трапезной на стенах был изображен ад, в котором на раскаленных углях извивались в страшных корчах грешники, имевшие в земной жизни пристрастие к вину, а на подволоке, у престола Господня, ликовали, предаваясь обжорству и пьянству, трезвенники и постники.
В день открытия приюта сонм духовенства служил торжественное молебствование со здравицей «великому заступнику человеков противу козней лукавого, рабу Божию Феодору». Вся московская знать собралась в приют. Федор восседал в высоком кресле и, сложив руки на животе, застенчиво выслушивал поздравления.
Гости пировали и бражничали до поздней ночи. Отяжелевшие от обильных возлияний, попы неустанно перед каждой чарою хрипели хозяину многая лета, лезли к нему лобызаться. Ртищев, полный сознания своего величия, важно оттопыривал губы и почти все время молчал.
– Пейте, кушайте на добро здоровье! – изредка, как заученный урок, повторял он.
Толпы людей загромоздили улицу, примыкавшую к приюту, давили друг друга, вступали в бой за лучшее место. Каждому хотелось хоть одним глазком взглянуть на ломившиеся от яств столы.
– Эк бы в хоромины допустили! – то и дело вслух мечтали людишки, залепившие окна трапезной. – Токмо бы погладить того пирожка да бражки нюхнуть!
Им отвечал бесшабашный смех забулдыг.
– Дурехи! Нешто не для вас хоромы поставлены?
Задирая головы, забулдыжные люди, бродяги бездомные, торжественно, в тысячный раз, повторяли:
– При-ют для пьяниц… Так и прописано; для, дескать, пьяниц!
Наконец пир окончился. Дремавшие в сенях холопы, услышав оклик дворецких, ринулись в трапезную и понесли к колымагам перепившихся до бесчувствия господарей и попов.
* * *
Ртищев завел дружину, которая с утра до ночи расхаживала по Москве, подбирая пьяных.
Приют был всегда переполнен. Каждый, кому нечего было есть или становилось невмоготу жить без крова, подбирался поближе к усадьбе постельничего и, прикинувшись пьяным, валялся наземь, оглашая воздух площадной бранью и разбойными песнями.
– Боже мой, Боже мой… Потеряли людишки человеческий образ, – заламывал Федор руки в истинной скорби и слезливо глядел на безучастную жену. – Нешто пойти?
И, не дождавшись ответа, спешил на улицу.
Остановившись над «спасаемым», он тут же, на глазах огромной толпы зевак, принимался читать заговор против запоя.
– Слышишь ли, диавол? Слышишь ли, змий зеленый? – восклицал он, обегая трижды вокруг «пьяного».
– Слышу, – следовал обыкновенно ответ, сопровождаемый отвратительными ругательствами.
Федор срывал с себя шапку и чертил над лицом мужика таинственные знаки.
– Ты, небо, слышишь, ты, небо, видишь, что хочу я сотворити над телом раба…– Он подталкивал ногой отчитываемого и кричал:– Имя?
Кто– либо из дружинников или толпы называл первое приходившее на ум имя. Тогда Ртищев продолжал:
– Тело Маерено, печень тезе. Звезды вы ясные, сойдите в чашу брачную, а в моей чаше вода от загарного студенца.
Двое дружинников прыгали на живот «пьяного» и, жестоко колотя себя в грудь, подхватывали рыкающими голосами:
– Месяц ты красный, сойди в мою клеть, а в моей клети ни дна, ни покрышки! Солнышко ты привольное, взойди на мой двор, а на моем дворе ни людей, ни зверей!
Ртищев взмахивал рукой, и вся толпа тянула проникновенно за ним:
– Звезды, уймите раба от вина; месяц, отврати раба от вина; солнышко, усмири раба от вина.
После короткого молчания постельничий поднимал высоко руку и властно изрекал, изгоняя зеленого змия:
– Слово мое крепко. Аминь.
Дружинники уносили «спасенного» в приют, разделенный, по. совету приходского попа, на три части: для хмельных, протрезвившихся и исправившихся.
Ровно в полдень, Федор, строгий и полный сознания важности творимого дела, являлся в приют. За ним, навьюченный книгами из священного писания, выкидывая ногами кренделя и строя уморительные рожи, двигался приютский староста, исцеленный по убеждению постельничего от «пагубного пристрастия к зеленому змию».
– Смердит! – брезгливо дергал носом постельничий.
Староста бросал книги на стол и, растворив окно, злобно плевался.
– Ироды не нашего Бога! Колико раз наказывал я вам подпущать благодетелю нашему вольного духу.
Ртищев восхищенно взглядывал на старосту и садился за стол.
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
– Аминь! – отвечали «протрезвившиеся».
Начинался урок.
Староста стоял на коленях, лицом к слушателям, и, колотясь время от времени об пол лбом, пришептывал:
– Во!… Вот так премудрости… А и да нашинские, православные!
Наконец, перекрестившись в последний раз, Ртищев закрывал книгу и бессильно запрокидывал голову.
– Прониклись ли, люди?
– Прониклись!
Староста, зайдя за спину господаря, подмигивал кому-либо из товарищей. Лица призреваемых заметно оживлялись. К столу подползал посол.
– Благодетель, – произносил он с расстановкою, – дозволь ударить челом.
– Восстань, сиротина, ибо токмо пред Господом вместно на коленях стоять человекам, – отвечал Ртищев.
Челобитчик всхлипывал и протягивал к нему руки.
– Не восстану, покель не смилуешься над нами!
– А коли Божье дело, уважу, – милостиво изрекал постельничий.
Призреваемые срывались с мест, точно подхваченные ураганом.
– Неужли ж не Божье, коли без похмелья не миновать помереть нам без малого!
Ртищев возмущенно поднимался и отступал ближе к двери.
– Так-то вы прониклись глаголом Божьим?
Староста припадал к его руке и с чувством восклицал:
– Благодетель!… Ты ли, кладезь премудрости, не разумеешь, что пьяному без похмелья тверезым не быть? Токмо по чарке единой, задави ее брюхо ежовое!… Чтоб добежал бес из души христианской, яко бежит от лица Господа ненавидящий имя его… Токмо по чарке, брюхо ежовое!
– А не дашь, – перебивая друг друга, кричали людишки, – в Москва-реку бросимся, утопнем! На тебя смертный грех перекинем.
Перепуганный угрозами, Федор устремлял взгляд на иконы.
– Нешто по единой чарке на смерда?
И сурово поднимал к небу руку:
– Даете ли обетование в остатний раз ныне пить и закаяться до скончания живота?
– Даем, благодетель!
Пошептавшись со старостой, постельничий удрученно качал головой.
– Быть по сему. По единой отпустится вам.
Так происходило изо дня в день до тех пор, пока однажды, подожженный перепившимися призреваемыми, приют не сгорел до основания.







