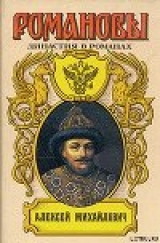
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 56 страниц)
Между тем уже давно стемнело. Вокруг дворца было тихо, впрочем, и всегда, за исключением разве каких-нибудь особенных случаев, здесь соблюдалась, по возможности, тишина. Лошади и экипажи не должны были подъезжать к крыльцу, а останавливались на довольно значительном расстоянии, и все люди, имевшие доступ во дворец, приближались к нему пешком и сняв шапки. Бояре, окольничие, думные и ближние люди имели право входить в «верх», т.е. в жилые хоромы государя. Здесь они обыкновенно дожидались в «передней». Эта «передняя» была заветною мечтою очень многих родовитых и заслуженных людей, которые нередко били челом государю, униженно моля его за их и родительские службишки наградить их – дозволить быть в «передней».
Люди же не столь близкие к особе государя – стольники, стряпчие, дворяне, стрелецкие начальники и дьяки – не смели и помыслить о «верхе» и «передней». Они собирались на «постельном крыльце», где постоянно была изрядная толкотня и редкий день обходился без какой-нибудь крупной ссоры, разбирать которую приходилось часто самому государю.
Теперь, однако, благодаря вечернему часу «постельное крыльцо» было почти пусто; на нем виднелись только три-четыре фигуры, мерно расхаживающие в полумраке. Это были старые дворяне, имевшие обычай толкаться у дворца до тех пор, пока их не попросят удалиться. Они хорошо знали, что никакой выгоды не получат от этого снования взад и вперед по крыльцу «постельному», но каждый все же держал в мыслях: а вдруг, не ровен час, его заметят да и пожалуют, а не то, все же придется новость какую-нибудь интересную услышать, которую можно будет потом разнести по городу со всевозможными прикрасами. И они ждут час за часом, почтительно пропуская мимо себя счастливцев, отправляющихся в «верх», переговариваются с дворцового прислугою, следят за сменяющимся караулом, всюду во дворце расставленным, голодают и дрожат от холода…
Зимняя ночь уже совсем наступила. Мраком окуталось причудливое дворцовое здание со своими роскошными парадными палатами. Полоса яркого света блеснула с лестницы, ведущей в государевы покои. Туда, туда бы пробраться, хоть глазком одним взглянуть, что там творится! Но лестница заперта медною золоченою решеткой.
Небольшие, уютные хоромы царя освещены восковыми свечами, вставленными в стенные подсвечники. Хоромы эти блестят новизною – они наряжены недавно покойным царем Михаилом Федоровичем[1]1
Новые жилые царские хоромы были построены в 1635-1636 гг. После пожаров 14 февраля 1619 г. и 3 мая 1626 г., уничтоживших деревянные постройки, новые хоромы впервые были сделаны из камня.
[Закрыть], которому так и не привелось пожить в них. Стены и потолки обшиты красным тесом и изукрашены тонкой столярной резьбой, а некоторые обвешаны яркими сукнами, атласами и парчою. Пол устлан мягкими восточными коврами, а в сенях и коридорчиках расписан красками в шахматах и под мрамор. Маленькие, по большей еще части слюдяные, окошки красиво расписаны, но теперь их не видно, так как время зимнее, морозное, и с наступлением вечера закрыты они изнутри втулками теплыми, стегаными. По углам хором жарко натопленные печи изразцовые: синие и зеленые, некоторые из них четырехугольные, другие круглые. Все они снизу доверху по изразцам расписаны травами, цветами, людьми, животными и разным узорочьем. На стенах развешаны листы фряжские (гравюры) и парсуны (портреты царские). У стен расставлены, одна возле другой, лавки, покрытые шелковыми стегаными матрасиками. Кое-где видны между лавок немецкие и польские столы с кривыми резными ножками на львиных лапах: все они хитро разрисованы по золоту и серебру.
Обширнее всех покоев Передняя да находящаяся рядом с нею Комната, то есть по-нынешнему кабинет царя. В Передней, в углу, большое, обтянутое парчою кресло на возвышении – это царское место. В Комнате, в переднем углу под образами, тоже большое кресло, но не на возвышении; перед креслом стол письменный большого размера, покрытый тонким алым сукном с золотою бахромою. На столе часы заморской работы, изображающие рыцаря в полном вооружении, серебряная чернильница с песочницею и трубкою, где перья мочить. Вокруг чернильницы разложены перья лебяжьи, серебряный свисток с финифтью, заменяющий колокольчик, перочинный ножик, карандаши в серебряной оправе, зубочистка и уховертка. Далее – клеельница с клеем: это вещь очень необходимая, так как бумага в то время резалась на столбцы, которые по написании подклеивались один под другой. Потом, тут же на столе, «книга уложенная», то есть «Уложение». Книга эта довольно истрепана от частого употребления покойным государем и уже хорошо знакома молодому царю Алексею Михайловичу Возле письменного стола другой маленький стол с шахматной доской и костяным шахматным ящиком. По стенам Комнаты, где нет лавок, поставцы с полками и выдвижными ящиками; тут хранятся бумаги, письма и любимые вещи царя, его нарядные платья, драгоценные изделия золотые, иноземная монета. Кроме того, в Комнате большая книгохранительница со многими книгами, главным образом духовного содержания, да несколько длинных висячих полок с золотою и серебряною посудою иноземной работы. Посуда эта – по большей части дары иностранных государей и послов. И каких, каких фигур тут нету! Вот немка золоченая серебряная: держит она в руках сосудец с крышкою; другая немка с лоханкою в руках; третья с ведром; кубок золотой, в виде крылатого змея, расписан весь финифтью, а глава змеиная – изумруд большой, в глазах яхонт, а во рту держит змей голову человечью. Вот медведь, вот слон, кораблик на колесах; и не перечесть всех фигур затейливых. Любит Алексей Михайлович, оставшись один в Комнате и утомившись от занятий, разглядывать эти фигуры. Снимает он их осторожно с полок, вертит во все стороны, любуется хитрою работой, а заслышит шаги чьи, тотчас же поставит фигуры на полку и зардеется румянцем – боится, скажут: «Царь еще малолеток, игрушками, гляди, занимается!» Да уж хитры больно и занятны игрушки-то эти!
В этой же царской Комнате накрыт теперь небольшой стол для ужина. Царь очень часто даже и обедает здесь с двумя-тремя из людей самых близких. В Передней давно его дожидаются Борис Иванович Морозов, Назар Чистой да князь Прозоровский.
Показался наконец Алексей Михайлович, все в том же смущенном и возбужденном состоянии духа, в каком вышел из сестриных хором.
– Не взыщите, задержал вас, – сказал он, обращаясь к присутствующим, – чай, проголодались, да и самому есть хочется; пойдемте!
Морозов подал знак дежурному стольнику, чтобы подавали ужин, и все вошли в Комнату. Алексей Михайлович, еще не подходя к столу, приблизился к иконам и, опустившись на колени, набожно крестясь и кладя земные поклоны, громко произнес молитву, слова которой за ним повторили и Морозов с товарищами. Потом чинно приблизился к столу, перекрестил свой прибор и сел на лавку.
Несмотря на почти еще детские годы, Алексей Михайлович уже выказывал многие черты характера и привычки, которые впоследствии развились в нем и всегда его отличали. Так, он уже и теперь удивлял приближенных необыкновенным своим благочестием и неизменной аккуратностью. Никакие забавы, никакое утомление не могли отвлечь его от молитвы, и только в самых крайних случаях отступал он от раз заведенного и утвержденного покойными родителями порядка своей повседневной жизни. Никогда не позволял он себе излишества в пище и питье, строго соблюдал все посты, да и во дни скоромные кушал очень умеренно и самые простые яства. И теперь стольник поставил перед ним кусок ржаного хлеба с солью, тарелку с солеными грибами и огурцом и маленькую жареную рыбу. Но прежде чем царь прикоснулся ко всему этому, подошел кравчий и отведал всего по кусочку. Без этой церемонии, по издавна заведенному обычаю, царь не мог приступить к еде. Необходимо было очевидное доказательство, что в кушанье не подмешано никакой отравы или зелья.
Вслед за кушаньями государя стали вносить множество блюд. Тут были всевозможные пироги, заливные, разные тельные[2]2
Тельное – любое рыбное блюдо.
[Закрыть], а потом и похлебки. Государь равнодушно взглядывал на каждое из этих кушаний и приказывал ставить их то перед боярином Морозовым, то перед Назаром Чистым, то перед князем Прозоровским. Большинство же блюд уносилось нетронутыми и поступало в распоряжение дворцовой челяди. Ужин продолжался в глубочайшем молчании; но вот государь насытился и подал знак стоявшему за ним чашнику.
– Государь великий, чего твоей милости угодно? – проговорил чашник.
– А дай-ка мне кваску да меду сладкого, – сказал Алексей Михайлович.
Чашник засуетился, налил из двух кубков, с квасом и медом, немного в ковш, сам попробовал, а кубки поставил перед государем. Собеседники же царские прихлебывали в это время старое заморское вино и то и дело повторяли: «За здравие твое, государь!»
Мало– помалу Алексей Михайлович разговорился.
– Что это, никак, у нас нынче тихо на крыльце постельном? – с улыбкой заметил он. – Видно, никого нету, а то уж наверно ссору бы затеяли.
– Да некому нынче и быть, – ответил Морозов. – День не такой да и поздно.
– А что же вчерашний-то шум? – перебил его Алексей Михайлович, обращаясь к Прозоровскому. – Что такое вышло? Расскажи на милость. Я еще утром хотел спросить тебя, да за сборами в Покровское запамятовал.
Прозоровский поставил на стол свой кубок, вытер усы и бороду и заговорил:
– А дело все то же, что и всегда: схватился князь Евфим Мышецкий с Федором Нащокиным и Иваном Бужениновым…[3]3
Челобитная князя Мышецкого приведена И.Е. Забелиным в книге «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Кн.1. Государев двор, или дворец».
[Закрыть] и бьет он теперь челом тебе, государь, и самое-то его челобитье со мною.
– Ну покажи, прочитай зараз уж, а мы послушаем, – сказал Алексей Михайлович и слегка зевнул, закрывая рот своею белой рукою.
Князь Прозоровский вынул из кармана сверток бумаги и начал читать:
– «Бьет челом холоп твой Еуфимка Мышецкий на Федора Васильева сына Нащокина и на Ивана Иванова сына Буженинова, что они нас, холопей твоих, и родителей наших бесчестили; Федор Нащокин называл нас, холопей твоих, всех боярскими и конюховыми детьми на Постельном Крыльце, передо всеми, а Иван Буженинов на Постельном же Крыльце называл меня, холопа твоего, дьяком, а детишек моих подьячими и ворами и подписчиками, будто мы подписывали воровские грамоты»…
– Довольно! – перебил государь. – Известное дело, дальше то же самое, только на лады разные. Уж и как мне все эти ссоры да челобитные надоели! Грызутся люди…
– А вот что, государь, – заметил Морозов, – раз навсегда всех этих молодцов, и старых, и малых, проучить нужно. Привычны они, что как подерутся или погрызутся, так сейчас и к государю, а царь их слова дерзкие и срамные слушай да мири их. Приказать бы, государь, князю Семену Васильевичу (он указал на Прозоровского) да еще кому ведаешь сделать обыск по этому самому делу, а потом повести его по суду: пускай князь Мышецкий ищет судом свое бесчестие.
Царь задумался.
– Ладно ли так? – нерешительно сказал он. – Больно обидится; ведь тут он что пишет? «Родительское бесчестие», говорит, так в делах таких, сам ты, Иваныч, не раз мне сказывал, суда не бывало.
– Точно, обидится, – сказал Назар Чистой, – только на это что же смотреть. Это боярин Борис Иваныч верно молвил, надо бы отучить идти к государю со всякой дрянью… пусть себе обидится князь Мышецкий, невелика важность, зато другой вперед будет обдумчивее.
– Быть по-вашему! – решил Алексей Михайлович и начал вставать из-за стола.
VIПростясь с Прозоровским, Алексей Михайлович прошел в Крестовую, или моленную, сопровождаемый своими неизменными спутниками Морозовым и Чистым. Очередной священник давно уж поджидал государя в Крестовой и, только что взошел он, начал привычным, монотонным голосом читать вечерние молитвы.
Алексей Михайлович, пройдя на свое постоянное место, сейчас же стал класть земные поклоны и долго потом стоял на коленях на небольшой поклонной колодочке, то есть низенькой скамейке, обитой узорчатым восточным бархатом и обшитой позументом. Никогда никакое утомление или разнообразие дневных впечатлений не мешали ему проводить, перед отходом ко сну, около часу в Крестовой. Он неустанно и благоговейно слушал молитвы и чтение Златоуста – сборника учительных слов, расположенных по дням года.
Он почти всегда умел в этот тихий вечерний час отдаляться от всех земных помыслов и находить неизъяснимое блаженство в горячей молитве. Но теперь что-то мешало ему молиться, как мешало и весь день заниматься обычным делом. Как утром любимая забава вдруг показалась ему скучною, так и теперь он не мог вникнуть в смысл слов, произносимых священником. Он слышал только его однообразный, несколько гнусливый голос, и этот голос как будто начинал даже раздражать его. Его взоры рассеянно бродили по сторонам, и вместо общего впечатления тихой, благотворно действующей на сердце красоты моленной, слабо освещаемой лампадами, он замечал каждый отдельный предмет, и в то же время все эти священные предметы казались теперь ему чем-то чужим, незнакомым и не имеющим никакого значения.
Вот прямо перед ним богатый иконостас в несколько ярусов, занимающий всю стену. Из-за золота и тонкой резьбы в полусвете выделяются лики Спасителя, Богородицы, Крестителя и Угодников. Но они уже не глядят на него как прежде, не глядят прямо в глаза ему с кроткой и благословляющей улыбкой. Они бледны и туманны. Тусклы и бесцветны драгоценные каменья, их украшающие; странно и некрасиво как-то висят на них длинные, широкие ленты и пелены, шитые золотом, низанные жемчугом, убранные дробницами – мелкими серебряными и золотыми иконами. Причудливые, дикие формы принимают привесы, то есть крестики, серьги, перстни и золотые монеты, украшающие киоты на боковых стенах.
Устали и дрожат колени молодого царя, и поднимается он с бархатной скамейки, и переминается с ноги на ногу – и все силы напрягает, чтобы вслушаться в слова молитвы. Но слова эти по-прежнему, одно за другим, мерно звучат и исчезают. Царь на лету ловит некоторые из них, машинально повторяет – и забывает тотчас же. Его рука привычным движением творит крестное знамение, а взоры опять бродят и останавливаются на богатых золотых ковчежцах, расставленных в углах у самого иконостаса и по всем стенам Крестовой. В этих ковчежцах хранятся смирна, ливан, меры Гроба Господня, свечи воску ярого, выкрашенные зеленою краскою и перевитые сусальным золотом. Свечи эти были зажжены от огня небесного в Иерусалиме, в день Пасхи и погашены вскоре, чтобы хранить их как святыню. Тут же части мощей, зуб святого Антипия, часть камня, павшего с неба, камень от Голгофы, от столпа, у коего Христос мучим был, от того места, где Он молился и говорил: «Отче наш!» – от Гроба Господня, песок реки Иорданской, часть от дуба Мамврийского, финики с того места, где был Моисеев жезл, – и многое множество святынь, присланных в разные времена патриархами или поднесенных царю русскими богомольцами. Рядом с ковчежцами поставлены пузырьки со святою водою и чудотворными монастырскими медами, восковые сосудцы с водой реки Иордана.
Бывало, Алексей Михайлович и в неурочные часы дня пробирается тихо в Крестовую и с великим благоговением оглядывает все эти святыни, жарко молится и прикладывается к ним устами, а в мыслях один за другим проходят святые образы, сказания Ветхого и Нового Завета. Вспоминаются ему чудные рассказы богомольцев, мечтает он, как поедет ко Святым местам, как сам зажжет свечу от огня небесного. Но теперь все эти ковчежцы ничего не говорят его сердцу, а между тем бьется и трепещет сердце. И опять то смутное и неведомое чувство, которое весь день его преследует, опять растет оно в нем.
– Помилуй мя Господи, Господи помилуй! – шепчет Алексей Михайлович, содрогаясь. – Что это со мною, бес меня искушает… и где же, когда, в каком месте!…
Дрожь пробегает по телу государя; со страхом оглядывается он, словно думает увидеть за собою беса-искусителя. Но все тихо и мирно в Крестовой. По-прежнему льют свой теплый, неугасимый свет лампады. Набожно кладут земные поклоны Морозов и Чистой в уголку, у входной двери. И так же мерно звучат непонятные ему теперь слова священника. Легкий дымок душистого ладана ходит по Крестовой и пробирается сероватыми струйками по верхам лампадок, к самому иконостасу, и еще больше туманит святые лики.
Вот опять нет ничего – исчезают все предметы, откуда-то издалека словно звон доносится. Что-то белое встает из тумана, какой-то образ… И он яснеет, и перед юношей нежный, розовый облик: длинные ресницы глаз опущенных, толстая коса девичья, соскользнувшая с плеч и упавшая на пол… Полные, круглые плечи в дымчатых складках фаты прозрачной – это… Сонюшка?… Нет, не она, что-то далекое, незнакомое и в то же время близкое, дорогое в этом образе – и трепещет сердце, и по жилам пробегает то жар, то холод…
«Государь!» – раздается над самым ухом Алексея Михайловича.
Он очнулся: пред ним Морозов зорко и пытливо глядит на него.
Вечерние молитвы кончены, Слово Златоуста прочитано. Священник закрывает книгу – тихо щелкают серебряные застежки.
Алексей Михайлович, с пылающей головой, с холодными, дрожащими руками, идет приложиться к иконам и не смеет поднять очей на святые лики. Боится он прочесть в них гнев и укоризну.
VIIПо выходе царя из Крестовой Назар Чистой дернул Морозова за рукав и шепнул ему:
– Совсем ныне не в себе, и причина тому мне, думаю, ведома. Попомни, боярин, что я говорил тебе намедни. Пора ему невесту – отрок пришел в возраст; не худое это дело. Заведи-ка с ним речь, боярин, и голову руби мне, если сам он тебе не то же скажет. Ну а мне и ко дворишку пора, дел много накопилось и час поздний… Прости, государь, – обратился он к Алексею Михайловичу, медленно и задумчиво шедшему перед ними по коридорчикам и переходам дворцовым, слабо освещенным восковыми свечами, усыпанным по полу мелким, просеянным красным песком.
Коридорчики и переходы эти были почти пустынны, только то там, то здесь в уголках виднелись неподвижные фигуры стражников с тускло блестевшим при огне оружием.
Алексей Михайлович на мгновение остановился, отдал рассеянный поклон Чистому и взглянул на Морозова.
– А ты не уходи, Борис Иванович, – сказал он ему.
– Зачем уходить, – ответил Морозов с улыбкою, – я тебя, батюшка, коли хочешь, раздену сам, как прежде.
Морозов уже не был дядькой Алексея Михайловича; но молодой царь по привычке часто заставлял его присутствовать при своем отходе ко сну, сажал его у кровати и беседовал с ним, пока не засыпал.
Войдя в опочивальню и заметив дожидавшегося там спальника, царь сказал ему, что он может удалиться, что нынче никого не нужно, кроме Бориса Ивановича.
Спальник низко и молча поклонился государю, с невольною завистью взглянул на Морозова и тихо вышел из опочивальни.
Борис Иванович, привычным взглядом окинув знакомую комнату и убедясь, что все в порядке, подошел к огромной царской кровати, бросавшейся в глаза яркой позолотой точеных столбов своих. Он отдернул тяжелые, затканные золотом шелковые занавеси балдахина и высоко взбил подушки.
Алексей Михайлович в это время с усталым и рассеянным видом сидел на низеньком мягком табурете и машинально расстегивал одну за другою пуговки кафтана. Он поднял глаза на Морозова, замешкавшегося у кровати, и увидел, что тот стоит и качает головою.
– Что ты, Борис Иваныч, али неладное нашел?
– Да так оно и есть, что неладное, – ответил Морозов, разглядывая шитый шелком ворот царской ночной сорочки. – Видно, опять тебе придется меня взять в дядьки. Что за люди! словно глаз нету, ворот-то вон разорвался.
Алексей Михайлович невольно улыбнулся. Ему вспомнилось многое, вспомнились детские годы, и показалось ему, что он и теперь совсем маленький ребенок. Вот добрый дядька его Борис Иванович ворчит, как это всегда с ним бывало…
– Ну полно, боярин, невелика беда, дай другую. Да, ключи-то у Князя Никиты, а его теперь не догонишь…
– Зачем мне князя Никиту, ключи со мною! – проговорил Морозов и пошел к большому кипарисовому сундуку, стоявшему в углу опочивальни.
В этом сундуке хранилось белье царское, и он составлял вещь неприкосновенную, ключи от него должны были храниться у самого доверенного лица, которое, в случае чего, и было в ответе. А ответ не раз случался немалый. Царское белье! – это то же, что еда и питье: мало ли каким способом посредством белья можно нагнать лихо на человека! Сорочку заговорить можно, зельем осыпать, через нее всякую болесть, всякую беду пустить на государя.
Морозов до сих пор не отдавал никому ключей от белья царского и сам выдавал спальникам все, что нужно.
Сорочка вынута. Царь перекрестился, приложился к образу у кровати и начал раздеваться с помощью Морозова. Он с видимым удовольствием погрузился в мягкую перину, вытянулся во всю длину ее, до самого подбородка укрылся стеганым шелковым одеялом и несколько минут лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Мечтательная полуулыбка замерла на розовом красивом лице его. Морозов сложил бережно и аккуратно царское платье.
– Что же, государь, – сказал он, – али уж и заснул?
Алексей Михайлович открыл глаза. Вдруг быстрым движением сбросил с себя одеяло и сел на кровати.
– Нет, я не сплю, Иваныч, и спать не хочу. Все какие-то думы непонятные в голове… Иной раз наяву словно сны снятся. Знаешь, мне сейчас на ум взбрело, хоть глупое оно, а все же на правду похоже. Глянь-ка ты на стол у кровати, что там такое на крышке?
Морозов с недоумением взглянул на стол, хорошо ему знакомый, и ничего на нем не увидел. Это был стол большой и роскошный, весь расписанный по темному дереву травами, с медным, серебряным и перламутровым вставным узором. На середине крышки был круг с орлом двуглавым, а по сторонам две фигуры.
– Ничего на столе нету, что это ты, государь?
– Знамо, на столе ничего нету, – улыбаясь ответил Алексей Михайлович, – да какие такие две фигуры возле орла написаны?
– А это птицы сирины, – сказал Морозов.
– Ну вот об этом-то я тебя и спрашиваю. Намедни Пафнутьич-странник был у меня тут в опочивальне, увидел стол этот и рассказал мне о птицах сиринах. Говорит он, было то в царствие Маврикиево, весь народ вдруг увидел, как в реке Ниле явились два животные человекообразные: до полтела муж и жена, а от полтела птицы – то и были сладкопеснивые сирины. И воспели они сладко, и кто слышал их, тот пленялся мыслию и, забыв все, шел за ними и умирал. Вот что рассказал мне Пафнутьич. Правда то, нет ли – сдается вот мне, что иной раз и я сам будто слышу такой глас сирина.
Алексей Михайлович оживлялся все больше, а Морозов его внимательно слушал.
– Нынче ехали мы из Покровского, спрашивал ты меня, Иваныч, что со мною? не болесть ли какая во мне?… Здоров я, а пожалуй, есть и болесть во мне. Иной раз дивное со мной деется; говорю – сирина слышу! Вот и теперь, сейчас будто пение такое сладкое, а где оно – не ведаю… Что это, Иваныч? не опоили ли чем уж?
Морозов покачал головою.
– Ничем тебя не опоили, государь, – сказал он, – мы всегда с тобою, при тебе верные люди, чтобы блюсти твое здоровье. Успокойся, все это пройдет, мало ли что бывает с человеком, а не спится тебе, потолкуем, благо у меня есть о чем и речь держать.
Легкая, лукавая улыбка скользнула по лицу Морозова.
– Ну что? Говори, я слушаю, – медленно произнес Алексей Михайлович, снова опускаясь на подушки. Его оживление пропало.
Морозов придвинул тяжелое кресло к самой кровати, покойно уселся в него, погладил себе бороду и начал:
– Царь-государь Алексей Михайлович, питомец ты мой дорогой! Скоро время идет, и не видишь, не чуешь, как оно проходит; только иной раз, как очнешься да вспомянешь старое – и сколько, сколько прошло его! Давно ли был ты дитя малое, давно ли у меня на коленях еще сиживал, и я тебя величал не государем батюшкой, а Алешей, царевичем своим. Прошло то время – словно в сказке какой; не по дням, а по часам возрос ты, возмужал – и волею Господнею ныне ты царь великой земли русской. И по милости Господа и по нашим грешным молитвам долгие, долгие годы будешь ты царить и править землей Русской. А и к тебе придет старость, и придет час смертный. И кажный-то из нас – и старец, и юноша – должен помышлять об этом, а ты сугубо помышлять должен, ибо смерть государей может великим быть бедствием для целого народа. Покойный родитель твой, – Морозов перекрестился, – отходя ко Господу, немало печаловался, что оставляет тебя в столь юном возрасте. Разумеешь ли, к чему я речь клоню?
Но Алексей Михайлович еще не разумел. Он только начинал все внимательнее и внимательнее слушать.
– А речь, – продолжал Морозов, – я клоню к тому, что пора тебе, государь, жениться. Раньше женишься, раньше сынок у тебя будет, наследник желанный. Успеешь сам ты его вырастить да внучат дождешься. Так ли говорю? По нраву ли речь моя?
Морозов совсем уже теперь улыбался и зорко глядел на юношу. Густая краска залила щеки Алексея Михайловича, он опять сбросил с себя одеяло и приподнялся.
Жениться! До сих пор он и не думал об этом, но теперь это слово показалось ему вдруг таким странным, таким волшебным. Он почувствовал необыкновенное смущение и в то же время радость.
– Жениться! – прошептал он. – Да на ком же, Иваныч?
– На ком? – повторил Морозов. – Я невесту еще не припас тебе, государь. Да за невестой дело не стало: вся земля русская тебе поклонится. По исконному обычаю повели собрать красных девиц со всех мест Русской земли да и выбирай себе любую.
– Да ведь я… я… ведь, пожалуй, бояре смеяться будут, скажут, что я еще не вырос! – робко и смущенно прошептал царь.
– Бояре уже давно толкуют, что тебе пора жениться.
– Ты это правду молвишь? – оживленно спросил Алексей Михайлович и, не дождавшись его ответа, прибавил:– Так как же им скажу? Мне как-то неладно да и стыдно сказать, что хочу жениться.
– Чего стыдиться! Святое дело, Божье дело, и не твоя это забота. Коли есть на то твой приказ, государь, так все и будет как следует. Завтра же оповещу бояр о твоем изволении, и отправим мы людей надежных по всем городам земли русской – звать на Москву лучших девиц честных родом, для твоего, для царского выбора. Изволишь ли, государь?
– Да! – прошептал Алексей Михайлович, еще больше краснея и не глядя на Морозова.
Долго не мог заснуть в эту ночь молодой царь под наплывом неясных и сладких грез. Заснул, и во сне ему привиделась чудная птица сирин, и пела та птица сладкогласные песни, и звала его, и манила…







