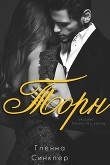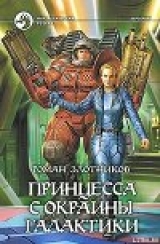
Текст книги "Личная терапия"
Автор книги: Андрей Столяров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Ну как?
– Нормально, – говорю я.
– Ты готов?
– Конечно. Готовее не бывает. Меня прямо сейчас можно выпускать на сцену.
– Тогда не нервничай, – говорит Никита. – А то у тебя даже – руки дрожат. Все равно прямо сейчас тебя никто не выпустит. Расслабься, сиди. Смотри на это – как будто все уже завершилось.
Никита, разумеется, прав. Я все-таки чересчур нервничаю, и, к сожалению, по мне это заметно. У меня сейчас – чрезвычайно сильное, точно у шизофреника, острое возбуждение, которое внешне выражается в том, что немного дрожат и дергаются кончики пальцев. Сделать с этим я ничего не могу. Это у меня – каждый раз, когда нужно выступать перед аудиторией. Так меня действует внимание слушателей. Причем я знаю, что сразу же после доклада это бесследно пройдет – я прогорю, успокоюсь, впаду в некое туповатое безразличие. Было бы в самом деле из-за чего волноваться. Однако это будет только после доклада, а сейчас я крепко сжимаю ладони, чтобы дрожь была незаметна, делаю несколько глубоких вдохов, стараясь придержать сердце, которое излишне трепещет, и клоню голову то вправо, то влево, высматривая в передних рядах Веронику. Она уже прошла в зал или еще не прошла? Если даже прошла и села, отсюда ее не видно.
– Не крутись, – строго говорит Никита.
– Я только...
– Откинься на спинку... Вот так... Дыши – ровно...
Между тем, на сцене происходит некоторое движение. В президиум, представляющий собой круглый столик, поставленный по отношению к кафедре несколько сбоку, усаживаются сам Ромлеев, сразу становящийся гораздо солиднее, сэр Энтони и еще один человек, появление которого для многих оказывается неожиданным. Это – Саша Гринпуттер, уехавший на постоянное место жительства в Штаты еще четыре года назад. Кстати, Саша Гринпуттер – еще один характерный пример, как Ромлеев даже явную неудачу может обратить к выгоде и себе, и общему делу.
Когда лет семь-восемь назад началась волна поспешных отъездов, вызванных катастрофическим состоянием института – дошли до ручки, кранты, зарплату тогда не выплачивали по несколько месяцев – то отношение к этому факту было очень противоречивое. Одни явно завидовали отъезжантам, сумевшим вырваться в рай, сулящий неисчислимые материальные преимущества, записывали адреса, брали клятвы, что никогда не забудут, питали надежды, между прочим, абсолютно не оправдавшиеся, что это каким-то образом изменит их собственную судьбу, другие в то же самое время произносили речи о моральной нечистоплотности, о трусости, о предательстве эгоистов, бросающих институт в трудный момент. Страсти, вероятно, кипели нешуточные. Я этого времени не застал, но кое-какие слухи до меня доходили. Ромлеев тогда дистанцировался от обеих крайностей. Он, разумеется, не приветствовал никакие отъезды, да и не мог, поскольку как научный руководитель терял перспективных сотрудников, но он также никого и не осуждал, во всяком случае вслух, и поставить ему потом в вину было нечего. Более того, каждому из отъезжантов, а их было, если не ошибаюсь, всего человек десять – двенадцать, он давал рекомендательные письма к тем знакомым на Западе, которые у него имелись. Рассказывают, что персонально каждому желал удачи, просил писать, не теряться и выражал надежду на будущее сотрудничество. Такая тактика, как позже выяснилось, имела успех. Социология ведь далеко не так интернациональна, как математика: здесь свои методы, часто достаточно специфические, свой «местный» материал, который невозможно распространить за пределы данного этноса или государства; большинство отъезжантов ушло, будто камни в воду – никаких кругов, никаких известий, будто их никогда и не существовало. Однако двое за пару лет все-таки всплыли, и вот Саша Гринпуттер, который, впрочем, и в институте был далеко не последним, стал руководителем целого научного направления, главой департамента, организатором двух масштабных проектов. Сейчас, насколько можно судить, один из этих проектов смыкается с исследования нашего института. Речь, по-видимому, идет о долгосрочном сотрудничестве: финансирование оттуда, а исследовательские работы выполняются местными силами. Так что появление Гринпуттера в президиуме не случайно. И не случайно он держится так свободно, раскованно и доброжелательно. Кивает знакомым в зале, машет кому-то рукой, пишет что-то на листочке бумаги и тут же передает его вынырнувшей сбоку Клепсидре.
Впрочем, все это быстро заканчивается. Ромлеев берет микрофон и объявляет, что конференция, «которую мы так долго готовили», наконец открывается. Он говорит о значении того факта, что данный форум проходит именно в Петербурге, благодарит городскую администрацию за «поддержку и понимание наших проблем», заверяет со своей стороны, что будут приложены все усилия и что «петербургская школа» будет и дальше достойно выглядеть в мировом сообществе социологов. Затем несколько приветственных слов говорит сэр Энтони, а затем Саша Гринпуттер произносит всего одну фразу: «Я очень рад снова видеть вас всех». Таким образом церемония открытия завершается, и для вступительного доклада слово предоставляется профессору Рокомыслову.
Это для меня полная неожиданность. Предполагалось – по крайней мере в черновике, который я получил неделю назад – что первый доклад на конференции сделает Е. И. Мильк из отдела социальной антропологии. И, на мой взгляд, это было бы абсолютно правильно. Женя Мильк – как раз тот, человек, которому и следовало бы прокладывать научный фарватер. Он сразу же задал бы соответствующий уровень разговора. А Рокомыслов, хоть и профессор, но – это уже нечто совсем из другой области.
– Они изменили программу, – шепчет Никита.
Я достаю из папки выданных мне документов программу, отпечатанную тоже в виде буклета, и обнаруживаю, что действительно – порядок выступлений теперь совершенно иной. Женя Мильк поставлен на вторую часть дня, как впрочем и двое других сильных докладчиков, а в первой части, кроме упомянутого Рокомыслова, наличествуют Зенчук с Решетниковым и Андрюша Семайло. И если, скажем, Зенчук с Решетниковым это еще ничего, оба, конечно, не блещут, но сделают, скорее всего, вполне достойные сообщения, то Андрюша Семайло – это уже полное недоразумение; ничего, кроме затасканных анекдотов, он предложить не сможет. То есть, я, конечно, догадываюсь, зачем это сделано. Мне понятно, что помимо принципа содержательности здесь присутствуют еще и всякие привходящие обстоятельства. Рокомыслов, например, советник губернатора по науке, и не дать ему слово было бы, наверное, административной ошибкой. В конце концов, он обеспечил конференции множество льгот. И Семайло, обязательный член всех мыслимых общественных комитетов, всех собраний и совещаний, всех встреч властей с творческой интеллигенцией города, тоже, вероятно, потребовал, чтобы его выступление было поставлено на видное место. И, вероятно, тоже – отказать ему было нельзя. И все-таки мне становится несколько не по себе. Какими бы ни были эти самые привходящие обстоятельства (я не мальчик и знаю, что иногда они имеют непреодолимый характер), лицо конференции – это прежде всего докладчики, и если их, пусть на первых порах, представляют Рокомыслов с Семайло, научный престиж всего действия резко падает. Неужели Ромлеев этого не понимает?
Действительность превосходит худшие мои опасения. Рокомыслов сегодня не просто бессодержателен, он еще и необычайно занудлив. Вот этого я категорически не принимаю. Неужели взрослому человеку, ученому, не понятны самые элементарные вещи: если уж выходишь перед аудиторией, особенно такой представительной, то все-таки надо в своем выступлении что-то сказать. Никто не требует от докладчика, чтобы он был блистательным интеллектуалом. Способности у всех разные и завораживающую концепцию способен создать далеко не каждый. Да и не так уж часто красивые концепции возникают. Но предложить в докладе занимательный фактурный материал, пусть не экзот, но нечто такое, что слушать было бы по крайней мере не скучно, мне кажется, обязан любой выступающий. В конце концов есть такое понятие как «публицистическое выступление»: докладчик опирается не на факты и обобщения, а исключительно на эмоции. Тем более, что и слушатели, как правило, воспринимают такие выступления с удовольствием. «Публицистика» дает им возможность отвлечься от засушенного языка науки. Обстоятельство, кстати, немаловажное. Рокомыслов однако, не способен даже на публицистические экзерсисы. Он гундосит что-то о «значении социальных исследований в современных глобальных процессах». Одна бесцветная фраза равномерно наматывается на другую, и уже минут через пять я необратимо теряю нить рассуждений.
Ничуть не лучше выступают и Зенчук с Решетниковым. Причем, надо заметить, что, в отличие от Рокомыслова, эти авторы вовсе не представляют собой пустое место, чувствуется, что оба они серьезно готовились к конференции, собрали любопытный материал и даже сумели его связать не слишком банальными соображениями. В другое время это, наверное, неплохо бы прозвучало. Однако то ли на них так подействовали унылые песнопения Рокомыслова (вот почему нельзя было выпускать его в самом начале), то ли уровень конференции слишком давит им на сознание, но сегодня и тот и другой явно не в форме. Обоим не хватает живости, оба невыносимо бубнят и – что уже никуда не годится – читают целые куски по бумажке. Выступать по бумажке, мне кажется, вообще не стоит. От этого голос мертвеет, в нем появляется удручающая монотонность. Как будто докладчику самому не нравится то, что приходится говорить, и он произносит текст исключительно по обязанности.
Не удивительно, что конференц-зал постепенно пустеет. Если после выступления Рокомыслова уходят сразу человек десять-двенадцать, это понятно: те, в основном, кто явился только на торжественное открытие, то после Решетникова уходят еще пять-семь человек, а после тусклого бормотания Зенчука еще столько же.
– Разбегаются, – говорит Никита сквозь зубы.
Впрочем, осуждать уходящих я не берусь. Я лишь мельком думаю, что в научных, как, кстати, вероятно, и в других конференциях, есть вообще нечто странное, не поддающееся никакой логике. Я еще понимаю менеджерское значение этих мероприятий: привлечь внимание общественности, собрать в результате, как это умеет делать Ромлеев, некоторые дивиденды. Я также понимаю значение конференций как места контактов: здесь возникают знакомства и устанавливаются непосредственные научные связи. Наверное, это потом способствует некоторой координации. Хотя мне лично кажется, что данный способ уже несколько устарел. В эпоху мгновенных «коннектов», во времена Интернета и электронной почты, когда сообщение с любого конца света можно получить буквально через десять минут, личный контакт уже не имеет такого значения, как в прошлые годы. Мне даже кажется, что он скорее мешает. Ученого все-таки лучше воспринимать только по его результатам. Сколько блистательных собеседников разочаровывают потом, когда по сайтам или журналам знакомишься с их работами, и сколько действительно умных людей, таких, кого заранее уважаешь, оказываются просто беспомощными при светском общении. Наука, как и любое творчество, требует некоторой аскезы. Она требует от человека всего, не оставляя времени на внешнюю сторону жизни. И как раз те, кто по-настоящему умеют нырнуть в темные глубины познания, вытащенные потом на свет, задыхаются в атмосфере праздного словоговорения. Конференции нужны почти исключительно болтунам. Они нужны тем, кто иначе не может обратить на себя внимания. Я уже не говорю о содержательной части подобного мероприятия. Магический ритуал докладов кажется мне просто бессмысленным. Я не понимаю, зачем требуется собирать вместе такое количество разных, как правило, занятых людей, и в течение целого дня рассказывать им о том, что можно изложить в виде тезисов. Или представить в сборнике – как таблицу. Или – дать отточенным резюме на один-два абзаца. Ведь доклад значительно проще прочесть глазами, чем воспринимать его с голоса. Большинство тех, кто умеет работать, действительно не умеют как следует доложить результаты. Они мямлят, бубнят, глотают слова, как, например, Решетников, и в итоге создают впечатление, что материал не стоит внимания. Еще имело бы смысл, наверное, обсуждать на конференции какие-нибудь крупные темы, чтобы каждый присутствующий, следя за дискуссией, вносил свой кусочек в развитие общего смыслового вектора. Тогда еще, вероятно, можно было бы на что-то рассчитывать. Однако подобный мозговой штурм не так-то просто организовать. Здесь требуется чрезвычайно квалифицированный ведущий – такой, кто сходу мог бы определить ценность того или иного высказывания, выделить из него суть, согласовать с предыдущими выступлениями, суммировать это, перевести на следующий смысловой уровень. Так – цикл за циклом, продвигая дискуссию в заданном направлении. Однако, где же найти человека, который бы это умел?
Правда, в нынешнем вялом течении конференции есть и свои преимущества. Пока разглагольствует Рокомыслов, которого слушать вовсе не обязательно, пока спотыкаются на грамматических оборотах Решетников с Зенчуком – это тоже можно воспринимать в полслуха – и пока выскочивший вслед за ними Семайло, как клинический идиот, пытается оживить зал дурацкими шуточками (почему-то все идиоты считают себя людьми остроумными), запредельное напряжение, скручивающее меня чуть не до судороги, постепенно ослабевает и переходит в нормальное рабочее возбуждение. Это именно то, что мне сейчас нужно, я включаюсь в общий настрой, выскакиваю покурить, возвращаюсь и к тому времени, когда Ромлеев объявляет со сцены мою фамилию: «Следующий доклад сделает научный сотрудник такой-то»... – я уже начинаю соображать – где нахожусь и что делаю.
На сцену я поднимаюсь с каким-то легким звоном внутри. Выкладываю текст в нишу кафедры и поправляю сетчатый микрофон, чтобы он находился на нужной мне высоте. Впрочем, это не столько действительная техническая необходимость, сколько уже ритуал, который я соблюдаю при каждом своем выступлении. Перед началом доклада надо обязательно выдержать паузу. Нельзя торопиться, иначе у слушателей возникнет ощущение суетливости. Новый персонаж уже авансом привлекает внимание, и важно это внимание не упустить, а еще больше сконцентрировать на себе. Поэтому я жду, пока в зале не смолкнут паразитические перешептывания, пока все лица не повернутся ко мне и пока не выразится на них удивление: почему, собственно, этот докладчик молчит, и лишь когда я чувствую, что удивление сейчас перейдет в смешки, я неторопливо, но как-то отчетливо произношу первые фразы. От этих фраз зависит сейчас очень многое. Я знаю, что есть такое особое состояние голоса, когда он «звучит». Когда в нем появляются некие ноты, буквально завораживающие аудиторию, и когда уже можно на этом «звучащем» голосе держать внимание сколько угодно. К счастью, сегодня голос у меня «звучит». Я это чувствую по настороженной тишине, внезапно установившейся в аудитории. Она, эта тишина, как будто живая, и ее чуткий трепет наполняет трепетом и меня самого. Я уверенно и спокойно излагаю вводную часть. Я знаю ее почти наизусть и потому могу не опускать глаза к тексту. Текст вообще мне нужен исключительно для страховки. Всегда есть опасность, что вдруг споткнешься и ни с того ни с сего ввалишься в смысловой ступор. Самое страшное, что может произойти с докладчиком. В голове – пустота, тело – как будто из мокрой ваты. Стоишь, укутанный в паническую немоту: ни одной мысли, ни одного разумного слова. Раньше, когда никакого опыта выступлений у меня не было, я именно из-за этого страха пытался заучивать текст наизусть. Ни к чему хорошему это, конечно, не приводило. Намертво заученный текст сковывает язык. Он заставляет произносить то, что положено, а не то, что в данную минуту нужно по настроению. Отсюда – занудство, отсюда – неестественные интонации многих докладчиков. От заучивания наизусть я отказался довольно быстро. Теперь я готовлюсь к выступлению совершенно другим способом. Текст доклада я все равно создаю в письменной форме. Это – полезно, это помогает находить красивые формулировки. А затем по утрам, когда встаю, чищу зубы и убираю постель, повторяю его – по основным сюжетным моментам. Не заучиваю, а рассказываю своими словами. Мало кто знает, какая у человека в этот момент свежая память. Утренние минуты обычно – самые драгоценные. Мне во всяком случае достаточно трех-четырех повторений, чтобы сюжет выступления начал автоматически возникать в сознании. Потом его уже можно будет как-то переиначивать: улучшать, дополнять, выделять интонацией наиболее выигрышные места, но текстовой базис уже будет положен. Именно это и придает выступающему уверенность. Правда, по уже имеющемуся у меня опыту я также знаю, что одной уверенности сейчас недостаточно. После четырех предыдущих докладов аудитория заметно устала, внимание рассеивается, следует поддерживать его особыми методами. Их у меня немного, но все они достаточно действенны. В частности, когда минут через пять – через семь, я начинаю чувствовать, что напряжение в аудитории ослабевает – какое-то шевеление, взгляды, вот-вот возобновятся паразитические шепотки – то специально понижаю голос до регистра басов и придаю ему, как выражается Авенир, «трагическую окраску». То есть говорю очень медленно, даже скорбно, отделяя одно предложение от другого длинными паузами. Это вновь возвращает ко мне внимание зала. А когда опять таки минут через семь, эта «скорбная» интонация в свою очередь приедается, я совсем останавливаюсь, немного вскидываю ладони над кафедрой и секунд десять молчу, будто пребывая в состоянии транса.
Отсюда я перехожу к заключительной части доклада. Это – самый важный момент, самая, пожалуй, ответственная часть выступления. Потому что как бы красиво ни говорил докладчик в первые десять – пятнадцать минут, как бы он ни блистал и какие бы потрясающие метафоры ни использовал, если он хоть чуть-чуть выдохнется и скомкает последнюю часть, впечатление от доклада будет безнадежно испорчено. Конечный «пшик» заслонит все хорошее, что было раньше. Кстати, не такая уж редкая ситуация на конференциях. Поэтому финальную часть доклада я произношу так называемым «горловым голосом»: звук идет, будто у птицы, на странно клекочущих, напряженных, нервических переливах. Не знаю, каким образом я это делаю; просто чуть напрягаю горло и тембр становится совершенно иным. Кроме того, я еще выше поднимаю ладони над кафедрой и, как бы подыскивая нужное слово, мучительно перебираю пальцами в воздухе. Прием, надо сказать, очень рискованный: можно и в самом деле запнуться, продемонстрировав залу свое волнение и беспомощность. Но это одновременно и один из самых мощных приемов: возникает иллюзия, что мысль докладчика зарождается прямо в данный момент. Это очень сильно действует на аудиторию. Я сужу об этом по той выразительной тишине, которая воцаряется в зале. Всегда ведь можно сказать, слушают тебя или нет. И если в зале, как говорят актеры, чуть-чуть «звенит», значит зритель внимает тому, что происходит на сцене.
Это меня несколько воодушевляет. Я вновь повышаю голос, переходя с «клекота» на уверенные энергичные интонации. Перед последними фразами я также выдерживаю небольшую паузу, чтобы сконцентрировалось внимание, и произношу их отчетливо, как будто расставляю предметы на освещенной поверхности. И, видимо, я в данном случае поступаю правильно. Потому что когда я заканчиваю, тишина в зале «звенит», наверное, еще секунды три или четыре. Эти умопомрачительные секунды ни с чем не сравнить. Все ждут продолжения, а для докладчика – это наивысшая форма признания. Если после двадцати минут говорения тебя хотят слушать дальше, значит – все, получилось, беспокоиться не о чем.
Впрочем, сейчас мне это уже почти безразлично. Я смотрю с кафедры в зал и не могу разобрать по отдельности ни одного лица. Лишь обращенное на меня громадное множество глаз. Что они смотрят? Чего они еще от меня хотят? Все закончилось. Время, отпущенное для судьбы, истекло. Упал занавес. У меня редко и гулко, как колокол, бухает сердце. Я беру почему-то расползшиеся по кафедре листочки доклада и, как во сне, ступая по воздуху, возвращаюсь на свое место.
Лишь в перерыве, который у нас называется иностранным термином «кофе-брейк», я наконец понимаю, как стратегически правильно сделал Ромлеев, перенеся наш доклад в самый финал заседания. Если бы мое выступление последовало сразу за Рокомысловым, как ранее и планировалось, то оно, вне всяких сомнений, было бы заслонено дальнейшими сообщениями. Потому что как бы ни мямлили и ни спотыкались Решетников с Зенчуком, как бы ни было ясно всем, что Андрюша Семайло ничего толком сказать не может – надувает щеки, пыжится, извергает из себя какофонию бессмысленных звуков – все равно впечатление от нашего материала было бы заметно ослаблено. Теперь же доклад подан точно на блюдечке, и перерыв, фактически, превращается в его спонтанное обсуждение.
Меня сразу же обступают со всех сторон, задают вопросы, протягивают отовсюду визитные карточки. Я просто захлебываюсь в гомоне голосов. Нормально, говорит Авенир. Он даже не вспоминает, что бы пропущен спорный кусочек. Молодец-молодец, говорит Никита. И это тоже в его устах – высшая степень признания. Балей пожимает мне руку и спешит представить какого-то низенького француза: Мсье Левез хотел бы опубликовать ваш доклад в «Социологическом обозрении». А степенный, всегда сознающий свою научную значимость Фокин, у которого галстук из-за объемистого живота торчит вперед, предлагает встретиться и обсудить некоторые проблемы. Позвоните мне на следующей неделе, низким рокочущим голосом просит он. У нас с вами, по-моему, найдется тема для разговора.
Однако все расступаются, когда подходит сэр Энтони. Сэр Энтони – звезда нынешней конференции, и его слово звучит весомее остальных. Одной рукой он держит пластмассовый, довольно-таки убогий стаканчик с кофе, а другую протягивает и осторожно прикасается к моему локтю.
– Я вас поздравляю. Очень, очень хорошее выступление...
Ничего больше сэр Энтони вымолвить не успевает. Клепсидра подхватывает его и очень вежливо, но непреклонно увлекает в боковой коридорчик. Насколько я понимаю, у них собственный кофе-брейк в кабинете Ромлеева, и Клепсидра обязана доставить гостя по назначению.
Хотя, может быть, это сейчас и к лучшему. Все равно обсуждать какую-либо серьезную проблематику я в данный момент просто не в состоянии. Меня еще трясет возбуждение, оставшееся после доклада, и я, охваченный им, едва понимаю, что вокруг происходит. Я тоже жму чьи-то руки, просовывающиеся как будто из ниоткуда, обещаю кому-то что-то, отвечаю, по-моему невпопад, на сыплющиеся градом вопросы, в свою очередь раздаю визитки, которые, к счастью, оказываются в боковом карманчике пиджака, и мне даже некогда подойти к дальним столикам, чтобы взять кофе.
Да, в конце концов, бог с ним, с кофе! Гораздо важнее, что наш доклад и в самом деле, по-видимому, произвел некоторое впечатление. Это для нас сейчас самое главное. Наша группа, как это ни странно, находится в институте, в общем, на птичьих правах. Мы были созданы временно, специальным приказом Ромлеева, и этот приказ действителен, пока действителен сам Ромлеев. Трудность здесь в том, что мы не слишком вписываемся в тематику института. С направлением наших исследований нам было бы лучше работать в каком-нибудь другом учреждении. Мы скорее биологи, чем социологи или психологи. Мы обращаемся к тем механизмам, которые в социальных исследованиях, как правило, не затрагиваются. И хотя наиболее перспективные научные достижения возникают, как демонстрирует практика, на стыке нескольких дисциплин (характерным примером здесь может служить появление синергетики), все же наша вполне очевидная жанровая инаковость вызывает и отчуждение и определенную ревность. Не всем нравится наше «привилегированное» положение в институте, наша замкнутость на себя, неожиданность наших выводов и материалов – непохожесть всегда вызывает приступы ксенофобии – и на одном из ученых советов, которые, к слову, Ромлеев старается проводить как можно реже, уже поднимался вопрос «о распылении сил и средств института на непрофильные исследования». В качестве иллюстрации, естественно, фигурировала наша группа. Особенно, говорят, усердствовал на заседании Рокомыслов.
Так что, обойдусь я пока без кофе. Кофе я, в конце концов, могу выпить в любое другое время.
Собственно, так оно в результате и получается. Почти всю вторую часть конференции я провожу в комнате оргкомитета. Я пью кофе с девочками, которые не заняты на дежурстве, болтаю о пустяках и дважды выхожу на набережную, чтобы выкурить сигарету. Правда, время от времени, влекомый чувством долга, я все-таки возвращаюсь в зал и честно пытаюсь вникнуть в тему очередного доклада. Однако опустошенность после моего собственного выступления еще слишком сильна – я сижу, как болванчик, улавливая сознанием лишь отдельные фразы. Меня это, впрочем, не очень волнует. И Никита, и Авенир, раскрыв блокноты, делают многочисленные пометки. Я знаю, что самое ценное из произнесенного будет ими выловлено и зафиксировано, а затем сведено в синопсис и доложено на нашей ближайшей встрече. В этом смысле мне беспокоиться не о чем.
Несколько раз я пытаюсь высматривать Веронику. Но ее то ли действительно уже нет, то ли она устроилась так, что с моего места, недалеко от дверей, ее не видно. Во всяком случае, мне ее обнаружить не удается, и от этого внутренняя моя опустошенность становится еще сильнее.
Более-менее я прихожу в себя лишь уже на фуршете. Он происходит в кафе, расположенном на другой стороне канала. Четыре довольно-таки крутые ступеньки ведут в полуподвальное помещение, обитое лакированными панелями, а оно, в свою очередь, продолжается вытянутым уютным кофейным зальчиком. Столики в этом зальчике отделены друг от друга полукруглыми выступами, и над каждым, наподобие свечки, горит небольшая удлиненная лампочка. Вполне подходящее место, чтобы вести приватные разговоры.
Правда, для нашего мероприятия кафе все-таки маловато. Когда все участники конференции, включая и тех, кто подтянулся сюда только ради фуршета, концентрируются внутри и распределяются вдоль стола, заставленного салатиками, бутербродами, фруктами, бутылками с вином и минеральной водой, образуется теснота, чуть ли не как в метро в час пик: осторожно давят, подталкивают, напирают практически отовсюду, а когда некоторые из присутствующих еще и закуривают, синеватый слоистый дым начинает плыть прямо на уровне глаз. Дышать становится трудно. Единственный способ хоть как-то существовать это – закурить самому. Что я и делаю со всей возможной поспешностью. Кроме того я наливаю себе фужер воды с мелкими пузырьками и выпиваю его сразу же, почти на одном дыхании.
Ничего другого я сейчас не хочу. Тем более, что легкий ажиотаж, возникший после моего утреннего выступления, еще дает себя знать. Ко мне непрерывно протискиваются какие-то люди, о чем-то спрашивают, пытаются завязать разговор.
Все это, кстати, вполне естественно. Фуршет, что бы там ни писали вышучивающие подобные мероприятия журналисты, одно из самых значимых и ответственных действий на конференции. Где еще можно установить контакт с человеком, которого в иной ситуации не увидишь? Где еще можно решить вопросы, обычное прохождение коих требует целых недель или месяцев? То есть, я, разумеется, не противник фуршетов. В отличие от легкомысленной прессы, я сознаю их деловую необходимость. Однако я также и не любитель подобных мероприятий. Чтобы получать удовольствие от фуршетов, надо быть прежде всего человеком светским. Надо уметь поддерживать разговор даже с тем, кто тебе абсолютно неинтересен, надо уметь с умным и серьезным лицом выслушивать всякие глупости. А я, к сожалению, всего этого не умею. Если собеседник не слишком приятен, меня охватывает такая тоска, скрыть которую я просто не в состоянии. Что, разумеется, влечет за собой шлейф ненужных обид. Это плохо, и считается, что это – мой недостаток. И тем не менее, я вовсе не стремлюсь от него избавиться. Я уже давно обратил внимание на следующий любопытный факт: люди светские – это, как правило, люди абсолютно бесплодные, умение приятно общаться – обычно сопровождается мизерными научными результатами. Мне также понятна механика этой закономерности. Для творчества, научного или художественного, как воздух, необходима коллизия с окружающим миром. Мир не таков, каким я хочу его видеть. Это то, что, на мой взгляд, рождает первоначальный творческий импульс. Действительность для человека невыносима, он старается изменить ее хотя бы силой воображения. А светскость – это как раз внутреннее примирение с миром. Это подсознательное приятие тех его черт, которые не имеют права на существование. Человек светский обычно полностью растворен в действительности, коллизии с миром нет, импульс творчества у него резко ослаблен. Незачем что-то делать. Незачем спорить и конфликтовать. Ему и так хорошо.
К тому же у фуршетов есть одна отрицательная черта. Чтобы добиться здесь чего-то реального, надо хотя бы немного толкаться локтями. Иначе будет просто не приблизиться к людям, от которых что-то зависит. Так и простоишь столбом, у стенки, с фужером минеральной воды. Эта черта фуршетов меня тоже отпугивает. Я физически не могу пробиваться куда-то и требовать внимания лично к себе, приятно улыбаться нужному человеку, шаркать ножкой, выслушивать его вежливые, снисходительные замечания. Я это пробовал, пересиливая себя, несколько раз, и потом каждый раз испытывал довольно неприятные ощущения. Как будто что-то внутри себя неизбежно теряешь. Что-то такое, что в дальнейшем восстановить очень трудно. Хотя многие, разумеется, считают иначе. Вот и сейчас, я вижу, как вокруг сэра Энтони скопился плотненький, в два ряда венчик страждущих. В первых рядах его, конечно, Выдра с Мурьяном: Выдра подсовывает диктофон – наверное, собирается сделать потом интервью, а Мурьян, от избытка чувств даже приподнимающийся на цыпочках, приветливо улыбается и протягивает поверх голов сэру Энтони свою книжечку. Старания их понятны. Только что Нонна Галанина, которая, как замдиректора по науке, всегда в курсе всего, сообщила мне, что следующую конференцию действительно планируется собрать на Мальте. Паршивый, между прочим, остров, заодно комментирует Нонна. Своей воды нет, используют либо восстановленную, либо из опреснителей. Чай на такой воде пить нельзя, кофе – нельзя, а после ванной на коже будто оседает какая-то мутная пленочка. От нашего института будут приглашены пять человек. Ну, двое это понятно: Ромлеев и кто-нибудь еще из дирекции. А вот за оставшиеся три места будет свалка. Вы, кстати, тоже в списке возможных кандидатур.