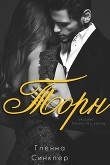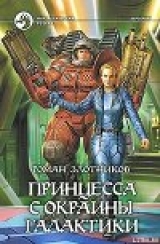
Текст книги "Личная терапия"
Автор книги: Андрей Столяров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Впрочем, невеселые мысли мои перебивает Клепсидра. Она хватает меня за локоть – внезапно, как будто материализовавшись из воздуха, поворачивает к себе, оглядывает с ног до головы, как больного, и возбужденным шепотом сообщает, что мне необходимо дать интервью телевидению.
Я угадываю в этом руководящую длань Ромлеева. В чем ему не откажешь, так это в умении привлечь внимание прессы. Трудно сказать, каким образом Ромлеев это дело поставил, но на каждом мероприятии в институте обязательно присутствует несколько журналистов. Тут и радио, сразу же делающее короткие репортажи для новостей, и корреспонденты двух-трех газет, наиболее читаемых в городе, и даже выпученный линзами монитор – хотя кто-кто, а телевизионщики терпеть не могут «говорящие головы». Причем, тут Ромлеев установил в этом смысле поистине армейскую дисциплину: интервью дают лишь те из сотрудников, кого он сам назначает; все остальные – это уж как получится, да и то, если пресса сама не спрашивает, то – лучше не надо.
Понятно, почему он относится к прессе с таким вниманием. Ромлеев хочет, чтобы об институте в городе было вполне определенное мнение. Потом это мнение, вероятно, доводится до определенных административных инстанций, и последовательно конвертируется в дотации, льготы, стипендии и другие материальные выгоды. Как это делается конкретно, я, разумеется, не представляю, но то, что такая конвертация происходит, очевидно даже последнему лаборанту, результаты ее, что называется, «на лице», и потому, несмотря на некоторое недовольство «авторитарными методами руководства», нравящимся, естественно, далеко не всем, большинство сотрудников подчиняется этим не писанным правилам. Ведь понятно, что тут не блажь, а для общей пользы.
И, кстати, то, что для сегодняшнего интервью он выбрал меня, тоже о чем-то свидетельствует. У Ромлеева просто поразительное чутье на перспективные разработки. Он буквально каким-то десятым чувством догадывается. что выйдет из того или иного исследования, что сегодня необходимо продвинуть, а что временно придержать, практически никогда в этом не ошибается, и мне приятно, что в данном случае он так очевидно ставит на нашу группу. Значит, по крайней мере в ближайшее время, ситуация нам будет благоприятствовать. Это – хороший признак, и он меня несколько воодушевляет.
Под руководством Клепсидры я перехожу к монитору, за которым сразу же вспыхивают два ярких рефлектора, и послушно выполняю все требования телевизионщиков: делаю шаг назад, поворачиваюсь чуть-чуть иначе, приподнимаю голову, помогаю технику просунуть под пиджаком черный проводок микрофона. Затем говорю несколько вводных слов, чтобы проверили запись, и по просьбе волосатого оператора смещаюсь к горке с цветами. Ему кажется, что так картинка будет живее. Пожалуйста, я не против. Меня немного смущает лишь то, что неподалеку от монитора начинает крутится Мурьян. Он – чуть ли не единственный в институте, кто пренебрегает негласными распоряжениями Ромлеева, Тщеславие в нем пересиливает в нем все остальные чувства. И уже давно замечено, что стоит появиться на мероприятии какому-либо корреспонденту (кстати, он их всех, по-видимому, знает в лицо; наверное, специально запоминает, ведет список), как Мурьян сразу же возникает неизвестно откуда и начинает, как бы случайно, прохаживаться в поле зрения. Обязательно здоровается с корреспондентом, о чем-нибудь заботливо спрашивает, иногда даже отваживается вступить в беседу. Ждет – а вдруг его тоже попросят на пару слов.
И, надо сказать, что такая тактика нередко приносит успех. Журналистам ведь все равно: они совершенно не разбираются кто есть кто в нашей области. Журналисты придерживаются, по-моему, очень простого правила: если лицо человека чуть-чуть знакомо, его можно интервьюировать. Поэтому Мурьян довольно часто появляется на экране. Гораздо чаще, чем другие сотрудники института. Видимо, это приносит ему некоторое удовлетворение. Однако сегодня все его титанические усилия оказываются напрасными. Сегодня телевизионщики Мурьяна упорно не замечают. Они вообще нынче какие-то хмурые, заторможенные, точно не выспавшиеся, отгороженные ото всего своими непонятными заморочками. Техник дергает провода и недовольно бурчит что-то в сторону, оператор морщится, словно у него болят сразу все зубы, а ведущая, симпатичная девушка с тщательно постриженной челкой, кусает губы и подгоняет выстрелами из-под ресниц то первого, то второго.
Телевизионщикам сегодня явно не до Мурьяна. Никто даже не бровью не ведет в его сторону. Тем более, что и Клепсидра настороже: как бы невзначай смещаясь к Мурьяну, она вытесняет его из круга опасной близости.
Клепсидра это делать умеет.
Наконец, оператор, еще раз грубовато довернув камеру, сообщает в пространство перед собой, что готов, и ведущая тут же подносит к губам ячеистую голову микрофона. Она спрашивает, чему посвящена открывающая конференция и как нам удалось организовать ее в наше трудное время.
Чувствуется, что слушать меня она не намерена. Ей требуется две-три минуты для вечернего выпуска новостей; что-нибудь такое, желательно не слишком занудливое, и дальше – все, опаздываем на следующее мероприятие.
Это меня немного заводит. Я коротко отвечаю, что конференция посвящена проблемам социотерапии. Одно из самых востребованных сейчас направлений в науке, в его разработке принимают участие исследователи разных стран. А что касается так называемых «трудных времен», говорю я, то не следует, вероятно, злоупотреблять этим определением. Современникам всегда кажется, что именно их эпоха – самая трудная и что раньше, несмотря ни на какие трагедии, было значительно легче. Так вот, это – не так. Просто история, которую мы с вами знаем, очищена от случайностей. Она освобождена от подробностей, когда-то загромождавших подлинную суть событий, и представлена в виде версии, логично связанной и с прошлым, и с будущим. Стараниями историков в ней выделен главный сюжет. Однако он выделен, обратите внимание, только для нас. Для современников этот главный сюжет ничем не отличался от второстепенных. Они в большинстве воспринимали свою эпоху как хаос и точно так же, как мы, захлебывались в пене накатывающейся повседневности. Человек тогда был нисколько не более счастлив, чем в наше время. Это – просто иллюзия, это – мираж, который всегда окутывает восприятие прошлого. Другое дело, что наше время и в самом деле – особенное. Мы переживаем такой странный период, который бывает не часто. Период, когда одна историческая эпоха уже закончена – все, она завершилась, ее больше нет, – а другая эпоха, совсем непохожая на предыдущую, только еще начинается. Такой период носит имя – «безвременье». Вот, хотим мы или не хотим, но сейчас мы пребываем в безвременье. А у безвременья – собственные законы. Безвременье отличается от «настоящей» эпохи тем, что в нем отсутствует так называемый «предельный смысл»; тот высший смысл, который образует собой кульминацию данного времени и с которым человек сличает себя, чтобы проверить на подлинность. Этот «предельный смысл» можно рассматривать в качестве Бога, если мы воспринимаем действительность сквозь оптику религиозного мировоззрения, но его можно считать и неким нравственным императивом, если мир воспринимается нами в координатах светской духовности. Такого смысла у нас сейчас нет. А если нет, значит, все вокруг размонтировано до полного бытийного несоответствия. Нельзя отличить добро от зла, истинное от ложного, умное от идиотического. Не с чем сравнивать эти понятия. Нет критериев. Человек блуждает среди обломков прежней, уже агонизирующей реальности. Жизнь утрачивает предназначение, а значит и внутреннюю энергетику. Отсюда – апатия, пропитывающая сейчас любого из нас. Отсюда – депрессия, личная – у каждого человека, и социальная – у общества в целом. Отсюда – нежелание жить и хорошо знакомое всем нежелание что-либо делать. Жизнь, лишенная смысла, перестает быть собственно жизнью.
Я замечаю, что журналистка вдруг начинает меня слушать. Глаза у нее, прежде стеклянные, оживают и вспыхивают яркими коричневыми зрачками. Она становится удивительно симпатичной. Подносит мне микрофон и с неподдельной тревогой спрашивает:
– И как же нам быть?
Я отвечаю, что этому как раз и будет посвящена конференция. Во всяком случае ясно, что данный вопрос является сейчас наиболее актуальным. Не подъем экономики, который лишь обостряет проблему «экзистенциального голода», но единственно – смысл, пронизывающий каждого по отдельности и всех вместе. Смысл, пробуждающий в человеке то, что несомненно выше него, и поэтому превращающий жадный комочек материи в одухотворенную сущность.
– Что это за смысл? – требовательно спрашивает журналистка.
– Любовь, например, – отвечаю я намеренно будничным голосом. Я не хочу чересчур акцентировать эту тему. – То, что возвышает дремотный быт до уровня бытия; то, что превозмогает и страх смерти, и обессиливающую тоску бессмысленности. Кроме этого у нас по-прежнему ничего нет. Бог есть любовь, но и человек – это тоже и прежде всего – любовь. Вне любви человека не существует.
На этом наше интервью завершается. Чувствуется, что журналистка была бы не прочь продолжить его целым рядом вопросов. Тема любви ее очень заинтересовала. Но, во-первых, время репортажа у них действительно ограничено, всего не втиснешь, какой смысл записывать лишнее, а, во-вторых, в этот момент все голоса вокруг нас разом стихают, все, прежде вольготно расположившиеся на стульях, встают, будто по единой команде, все головы поворачиваются к дверям, рядом с которыми, как изваяние, застывает Клепсидра, и в холл, продолжая беседу, начатую, видимо, еще на улице, неторопливо вступают Ромлеев и сэр Энтони.
Надо сказать, что вместе они смотрятся несколько карикатурно. Сэр Энтони, хоть и не слишком высок, но – пронзительно худ, суставчат, как и полагается классическому англичанину. Встопорщенные усы делают его похожим на Дон-Кихота, и низенький пухлый Ромлеев кажется рядом с ним Санчо Пансой.
Правда, никто, кроме меня, этого, вероятно, не замечает. Все, будто притянутые магнитом, немного кренятся в направлении известной пары. Клепсидра подтягивается и семенит впереди, указывая дорогу к конференц-залу, а сэр Энтони благожелательно улыбается и кивает знакомым. Я жду, пока они проследуют мимо. Однако Ромлеев вдруг останавливается у монитора и разворачивает именитого гостя в мою сторону.
– Вот наш сотрудник, который сегодня будет делать доклад, – объясняет он.
– Страст-вуйте... – переместив голубые зрачки, произносит сэр Энтони. Ладонь у него очень сухая и теплая. – Я слышал о вас много хороших вещей от мистер Ромлеефф...
Сэр Энтони прекрасно говорит по-русски. Кто-то рассказывал мне, что язык он начал учить, когда ему было уже ни много ни мало под семьдесят и всего через год стал обходиться без переводчика. У него довольно сильный акцент, неправильные падежи, но сразу видно, что он не затрудняется в подборе нужного слова. Это, на мой взгляд, самое главное.
– Я тоже – очень рад, – неловко говорю я.
До светскости сэра Энтони мне, разумеется, далеко. Тем более, что как раз в эту минуту я вижу, как в холл, стараясь быть неприметной, просачивается Вероника. Для меня все тут же проваливается сквозь землю, я абсолютно не понимаю, о чем сэр Энтони меня спрашивает. Я только вижу тонкие, слабо двигающиеся, бесцветные губы и почему-то отдельно – лицо Ромлеева, вдруг приобретающее тревожный оттенок.
Ромлеев тоже о чем-то спрашивает.
О чем, кого? Я даже не пытаюсь понять.
К счастью, меня выручает давешняя журналистка. Ей, разумеется, нет никакого дела до моих личных переживаний. Вспыхнувшая тревога Ромлеева ее тоже мало интересует. Ей надо сделать качественный репортаж, и она мгновенно соображает, что сэр Энтони здесь – самая выигрышная фигура. А потому, воспользовавшись образовавшейся паузой, она без стеснения вклинивает микрофон и просит сказать пару слов.
– Для российского телевидения, пожалуйста. Нам будет очень интересно узнать ваше мнение...
Сэр Энтони благожелательно соглашается.
Я отхожу в сторону и моргаю, чтобы глаза привыкли к нормальному освещению. Нет, это, оказывается, действительно Вероника. Она держит в руках блокнотик размером с ладонь и расспрашивает о чем-то мужчину в светлом, явно зарубежном костюме. Если не ошибаюсь, доктор Кессель из Берлинского университета. Вот она что-то записывает, встряхивает капризную авторучку, а собеседник ее кивает и протягивает визитную карточку. Меня поражает ее лицо. У нее лицо женщины, которая уже ничего не ждет от жизни. Раньше у нее такого лица не было. Мне вдруг становится не по себе, словно я вижу совершенно незнакомого человека.
С Вероникой мы не виделись, вероятно, месяцев пять или шесть. В последний раз мы с ней столкнулись на семинаре, который организовывал Международный центр соционики в рамках своего ежегодного цикла. Что-то там – «Типология и базовые характеристики современного горожанина». Впрочем, настоящей встречей назвать это тоже было нельзя. Вероника возникла там в перерыве между занятиями, всего, кажется, минут на десять-пятнадцать, в другом конце зала, где предлагали кофе, и пока я, едва справляясь с волнением, осторожно прикидывал, как бы к ней подойти и что лучше сказать, уже исчезла и больше на семинаре не появлялась.
Умение исчезать, вообще – одна из ее характерных особенностей. Никто не умеет так незаметно растворяться в пространстве, как Вероника. Даже без какого-либо колебания воздуха. Вот только что вроде присутствовала, стояла рядом, слушала, делала некоторые замечания. Существование было во всяком случае обозначено. И вот – ее уже нет, нет совсем, и никто не может сказать, куда она делась.
Собственно, мы и познакомились на каком-то из семинарских циклов. Только не «Типология и характеристики...», а что-то вроде «Репертуара современного социального поведения». Надо сказать, тоже – еще та тематика. И если бы я тогда знал, чем закончится встреча с девушкой, которая совершенно случайно попросила меня передать баночку кофе, я бы, наверное, даже не посмотрел в ее сторону. Человеку, к сожалению, не дано предвидеть будущее. Мы живем в настоящем и полагаем, что оно будет длиться вечно. А судьба, между тем, уже вытащила из колоды другую карту. В общем, как-то я тогда так удивительно повернулся, каким-то образом мы в этой толкучке оказались слегка прижатыми, о чем-то таком минуты три-четыре вынужденно поговорили (что интересно – потом ни я, ни она не могли вспомнить, о чем именно), этим, кстати, все могло и закончиться, однако, когда Вероника, наскоро прожевав бутерброд, были там такие малюсенькие, наколотые на соломинку, сказала, что ей пора, сидеть на второй части она не будет, я ни с того ни с сего вызвался ее проводить и от Садовой до самого Адмиралтейства шел за ней, как привязанный. И именно так, как привязанный, ходил за ней следующие полгода. Каждые два-три дня я звонил ей домой и предлагал встретиться. Звонил рано утром, звонил где-то днем, звонил поздно вечером. А если встретиться все-таки удавалось (что было непросто: Вероника оказалась человеком на редкость загруженным), то откладывал все дела и летел на свидание. Причем, к каждой встрече я тогда специально готовился: вспоминал все то, интересное, что со мной когда-либо происходило, всякие смешные истории, шуточки, мелкие анекдоты, все умное, что я слышал, читал или что мне самому приходило в голову. Я даже заранее продумывал темы для разговоров – чтобы, если уж вдруг получится к этой теме свернуть, я бы мог высказаться по ней весело и непринужденно – с гениальной легкостью, точно это не составляет для меня никакого труда. Женщина любит ушами, как выразилась в свое время Нонна Галанина. Нет ничего хуже мужского косноязычия и беспомощности в разговоре. Паузы могут здесь оказаться губительными. А когда я, чтобы закрепить отношения, начал водить ее в гости к своим приятелям и друзьям (тоже было непросто: сперва Вероника отказывалась наотрез), я обязательно звонил туда накануне и особо просил, чтобы обо мне отзывались как можно лучше. Это было что-то вроде внезапного помешательства. Позже Вероника призналась, что и она в тот период испытывала нечто подобное. Я просто ничего не соображала, сказала она. Я только чувствовала, что куда-то плыву; куда и зачем – не понять. И все это долгое время Вероника молчала. Я – говорил, говорил, говорил, как будто внутри у меня включился какой-то не умолкающий механизм. Никогда в жизни еще я не говорил так много. А Вероника, будто во сне, – слушала, слушала, слушала и лишь иногда отвечала короткими, ничего не значащими замечаниями. Позже она объяснила, что боялась что-нибудь ляпнуть. Ляпну что-нибудь несуразное, и ты меня бросишь. Решишь – зачем тебе такая глупая дурочка? Через полгода я сдался, потому что силы у меня кончились. Я так и объяснил Веронике: все, сдаюсь, считай, что меня больше нет. Я сказал все, что мог, и больше ничего сказать не могу; я все, что мог, сделал и сделать еще что-нибудь – не в состоянии. Вероника, помнится, мне ничего не ответила. Ночью вдруг позвонила, где-то уже около трех часов, и срывающимся, дрожащим голосом объявила, что тоже сдается.
Затем у нас целый год был, как в тумане. Мы примерно раз в неделю встречались на какой-нибудь из квартир, которую в тот момент удавалось найти. Это, кстати, вечная неопределенность со следующим свиданием, вечные переносы, вечная нестыковка внутри меняющейся ситуации. То у Вероники вдруг что-то не складывается, и она в этот день ну прямо никак не может, то на меня внезапно сваливается что-то такое, от чего не отделаться, то вдруг приятель (приятельница), который предоставляет квартиру, переиначивает свое расписание в самый последний момент. Впрочем, все это были, разумеется, пустяки. В действительности, в тот год для нас не существовало ни времени, ни пространства. Они возникали лишь в те два-три-четыре часа, когда мы с Вероникой встречались, и исчезали мгновенно, как только транспорт растаскивал нас в разные стороны. Бесполезно говорить об этом еще что-либо. Бывают в жизни такие периоды, которые просто не следует анализировать. Здесь как с яблоком: оно либо нравится, либо не нравится, а детальное представление о том, сколько в нем углеводов, солей, клетчатки, витаминов, аминокислот не имеет никакого значения. Ко вкусу яблока оно ничего не добавит. Поэтому я даже не буду пробовать что-либо здесь объяснять. Я только скажу, что если бы этого невероятно долгого, вне обычного времени года у нас с Вероникой не было, я бы, наверное, так и не знал, чем на самом деле является жизнь: что она представляет собой по сути и зачем мы являемся в мир, который нас вовсе не ждет. Потому что одно дело – читать о таком в знаменитых романах и по проблескам текста догадываться о некой настоящей реальности, и совсем другое – в этой реальности очутиться. Это как переводная картинка, с которой снимаешь пленочку: яркость красок такая, что поначалу кажется неправдоподобной. Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать по этому поводу.
А через год мы с Вероникой расстались. Мы с ней расстались, даже не подозревая в первый момент, что это уже навсегда. Мы с ней расстались, и это было до такой степени нелепо и глупо, что мы сами, по-моему, до сих пор не можем понять, как это произошло. Лично я полагаю, что мы просто не выдержали испытания. Любовь как предельное эмоциональное состояние требует от человека совершенно невообразимых усилий. Она требует непрерывного совершенствования по отношению к тому, кого любишь, ежедневного, ежечасного, ежесекундного преодоления отупляющей повседневности. Иначе будет не удержаться на достигнутой высоте. Иначе легкая эманация, которая только и позволяет парить над несуразностью быта, испаряется, как будто ее никогда не было, и задыхаешься там, где еще недавно дышал естественно и свободно. Это действительно непрекращающаяся работа души, и вот к такой постоянной возгонке эмоций мы оказались, по-видимому, не готовы. Кстати, довольно мерзкую роль здесь сыграли Выдра с Мурьяном. И если в том, что касается Выдры, имела место, скорее всего, обыкновенная зависть: как это так, ее полюбили, а я, значит, никому не нужна, простить такое, разумеется, невозможно, то Мурьяном, который далеко не трак примитивен, двигали несколько иные причины. Не столько зависть, хотя и это, конечно, имело значение, сколько ненависть ко всему, что самому Мурьяну заведомо недоступно. Возможно, это какая-то психическая аномалия, но Мурьян просто не переносит, когда кто-то из окружающих пусть немного, но счастлив. Он от этого буквально заболевает и не успокаивается до тех пор, пока не отравит чужую радость какой-нибудь гадостью.
Вероятно, именно так это и происходило. Я хорошо помню, как еще в те месяцы, когда наши отношения с Вероникой были совершенно безоблачными, я иногда весело спрашивал у нее: А эти-то, твои приятели, что? Шипят, наверное? – и как она также весело отвечала: Еще как! Стараются! В оба уха!.. – Сначала в самом деле – весело и непринужденно, вместе со мной посмеиваясь над потугами «сладкой парочки», потом – менее весело, уже с какой-то нехорошей запинкой, потом совсем невесело, чувствовалось, что тема ей неприятна, и, наконец, через какое-то время – стала просто отмалчиваться. Отрава, особенно психологическая, проникает в сознание далеко не сразу. Зато, если уж проникает, то деформирует его, как правило, необратимо. Возврат к нормальному состоянию практически невозможен. И это все происходило именно на моих глазах.
Тут следовало бы, конечно, соблюсти некоторую объективность. Я вовсе не утверждаю, что злопыхание Выдры с Мурьяном имело в данном случае решающее значение. Ни в коей мере. Могущество клеветы не стоит переоценивать. Само по себе, разумеется, это не могло ничего разрушить. Но в ситуации кризиса, которая вскоре у нас с Вероникой возникла, в том поле неопределенности, когда события могли развиваться так, а могли совершенно иначе, в момент растерянности и смятения чувств значение могло иметь каждое ядовитое слово. Дело, повторяю, заключалось не только в этом. Мы с Вероникой все равно, вероятно, расстались бы – независимо ни от чего, но в том, что Выдра с Мурьяном этому активно способствовали, в том, что многое было отравлено именно их стараниями, у меня лично нет никаких сомнений. Семена, к сожалению, упали на благоприятную почву.
Сейчас у нас с Вероникой отношения довольное неровные. Мы можем не видеться месяцами или, как в данном случае например, целых полгода, но при этом, мне кажется, непрерывно помним о том, что было, и стоит нам встретиться, как эти воспоминания обретают необыкновенную силу. Самое трудное здесь – какая-то постоянная неопределенность. Я никогда не знаю заранее, как Вероника будет со мной разговаривать. Иногда, если я обращаюсь к ней с каким-нибудь пустяком, она вдруг отвечает невежливо, всем видом своим демонстрируя неприязнь. Мне в этом случае становится неудобно перед окружающими. А иногда, напротив, неожиданно подходит ко мне сама – обычно, когда я менее всего этого жду – и вся сияет, как будто у нас ничего не менялось. Впрочем, и я держусь, наверное, нисколько не лучше. Бывают мгновения, когда я готов простить Веронике любую грубость; бог с ним, подумаешь, я же вижу, что человек не в себе, но, к сожалению, возникают нередко и совершенно иные моменты – когда я не хочу ни видеть Веронику, ни слышать, ни даже помнить о ней, и потому, как в истерике, вспыхиваю от самого безобидного слова. Тогда я с трудом удерживаюсь, чтобы не наговорить Веронике резкостей, а она, в свою очередь, вспыхивает, резко отворачивается и уходит.
Мне понятна внутренняя причина этих неловкостей. Мы не можем простить друг другу, что так нелепо, практически безо всяких к тому оснований расстались. Как будто соприкоснулись с чем-то, что, вероятно, является главным в жизни – испугались, отпрянули от него, оказались по разные стороны невидимого барьера. Исправить, наверное, уже ничего нельзя. Мы теперь так и будем – существовать в разных мирах. Вряд ли они еще когда-нибудь пересекутся. Однако память о том, что могло бы, наверное, быть и от чего мы по собственной слабости отказались, жжет нас, как тайный грех, и лишает покоя.
Вот и сегодня Вероника, по-видимому, не в настроении. Она несомненно замечает меня, но делает вид, что полностью поглощена беседой с Кесселем: улыбается ему, как лучшему другу, подается вперед, даже притрагивается пальцами к его рыжеватой ладони. Герр Кессель от такого внимания расцветает. Я становлюсь у колонны и тоже принимаю вид полного равнодушия. Я обдумываю доклад; Вероника меня нисколько не интересует. Стрелки, между тем, переваливают за одиннадцать, и возбужденная суета в холле стихает. Раздается звонок, свидетельствующий о начале мероприятия. Народ медленно втягивается в двери конференц-зала. Телевизионщики выдергивают провода и сворачивают штативы. Значит, Мурьяна они все-таки снимать не будут. Мурьян, конечно, расстроен, но держится очень мужественно. Он с достоинством переносит этот удар судьбы. Светски прощается в журналисткой, которая ему вовсе не отвечает, и, преисполненный скорби о несовершенстве рода людского, обращает печальный взор на меня.
– У вас, кажется, сегодня доклад? Ну – буду ждать. Вы всегда так содержательно говорите...
Я пожимаю плечами:
– Там видно будет...
Раздается второй звонок – более продолжительный, нежели первый. Вероника все также приветливо беседует с герром Кесселем. Пронзительное электрическое верещание она как будто не слышит. Наконец, изволит заметить мое присутствие и сухо кивает. Я тоже киваю, чувствуя на себе внимательный взгляд Мурьяна.
– Ну что, пойдемте?
– Я – через минуту...
Раздается третий звонок, и холл безнадежно пустеет. Я не знаю, что делать. Задерживаться далее уже неудобно. Девочки за столами посматривают с недоумением. Подскакивает Клепсидра и довольно невежливо, точно мальчишку, дергает меня за рукав.
Лицо у нее – как распаренная картофелина.
– Все-все!.. Начинаем!.. – яростно шепчет она.
Пока я даю интервью, зал, оказывается, наполняется. Заняты все места – вплоть до самого последнего ряда. Более того, на другой стороне этого довольно обширного помещения, там где между креслами и стеной существует второй проход, тоже поставлены стулья, видимо, принесенные из ближайших отделов, и там тоже – сидят, создавая у зрителей чувство забитости под завязку.
В этом, кстати, опять проявляется административный гений Ромлеева. Казалось бы, какое дело директору института до заполнения зала? Мелкий, второстепенный вопрос, от которого любой другой научный руководитель просто бы отмахнулся. Докладчики на местах? На местах. Участники конференции в сборе? Ну и достаточно. И только Ромлеев с его острым менеджерским чутьем понимает, что в самый первый момент зал должен быть забит именно под завязку. На открытии нет ничего неприятнее скудной аудитории. Незаполненные ряды, зияние пустот среди публики сразу же понижают творческую температуру мероприятия. Возникает чувство, что никому это не нужно, и такая угнетающая атмосфера, конечно, действует как на докладчиков, так и на прессу. «Выхлоп» потом оказывается довольно хилым. Поэтому Ромлеев, в отличие от многих других, не оставляет данное дело на произвол случая. Краем уха я слышал, что в оргкомитете существуют специальные списки людей, списки тех, чье присутствие на открытии было бы очень желательно. Этих люди непременно обзванивают, причем не по одному разу, если требуется, за ними высылают машину или заказывают такси. Некоторым из них Ромлеев звонит лично. Человеку же лестно, если ему звонит директор крупного института. Человек в этом случае, скорее всего, откликнется и не просто придет, но и добросовестно отсидит по крайней мере на нескольких заседаниях. Такая у Ромлеева поставлена технология. И, надо сказать, что она приносит соответствующие результаты. Зал сегодня немного гудит. Настроение – праздничное, как перед премьерой в театре. Чувствуется всеобщая наэлектризованность в воздухе. Главное же, что и пресса, и представители администрации города, которые здесь, разумеется, тоже присутствуют, могут убедиться собственными глазами, что конференция вызывает громадный интерес у общественности. Значит освещение ее в городских газетах, а потом и решения, которые, возможно, по этому поводу будут приняты, обретут ту форму, которая Ромлееву требуется.
Даже на меня эта атмосфера производит определенное впечатление. Я чуть-чуть столбенею и при виде такого количества слушателей впадаю в некоторую растерянность. В глазах – рябит, мне не найти свободного места. Правда, я тут же вижу Авенира с Никитой, которые энергично машут мне примерно из десятого ряда. Я и не заметил, когда они проскочили в зал. Но они проскочили и, как мы договаривались еще вчера, заняли для нас три места с края.
Я чрезвычайно рад, что это именно с края. Места по краям ценятся знающими людьми намного выше, чем в середине зала. С крайних мест, особенно если это недалеко от выхода, легко выскочить в коридор и погулять, пока идет какое-нибудь скучное сообщение. Это сильно облегчает существование на конференции. А у меня к тому же есть еще и некоторые специфические причины. Мне перед докладом обязательно нужно выкурить хотя бы одну сигарету. В обычном настроении, кстати, я практически не курю: целыми днями, бывает, не вспоминаю о пачке, засунутой в плоский кармашек портфеля. Нет у меня, к счастью, такой привычки. Однако если предстоит нечто ответственное, как например сейчас, меня так и тянет обжечь легкие горьким дымом. Наверное, я таким образом снимаю нервное напряжение. Авенир, кстати, в подобных случаях сосет какие-то мятные леденцы – причем исключительно одного сорта и совершенно в невероятных количествах. Тоже утверждает, что без этого невозможно. А Никита, который служит у нас образцом выдержки и спокойствия, если уж ему все-таки приходится где-нибудь выступать, обязательно принимает незадолго до этого капсулу какого-то китайского снадобья. Говорит, что исключительно в профилактических целях. Я лично думаю, что здесь сказывается известный «эффект плацебо». Пациенту дают таблетку из толченого мела пополам с сахарной пудрой, объясняя, что это – новое чудодейственное лекарство, только что созданное японскими фармацевтами по старинным тибетским рецептами. И пациент – выздоравливает. Вера и в самом деле способна творить чудеса.
В общем, я усаживают рядом с Никитой, и он первым делом спрашивает меня: