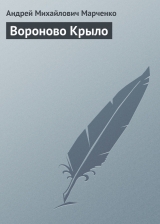
Текст книги "Вороново Крыло"
Автор книги: Андрей Марченко
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
– Ты почти угадал. Мне должно быть двадцать четыре. Просто я умирал… Я был мертвым восемь лет… Мертвые не стареют. Это было так резко и открыто, что я поверил сразу. «Поверил» – даже немного не то слово, ибо любая вера содержит в себе толику колебания. Я принял это впитал, будто вспомнил то, что знал всю жизнь. И от этого мне стало противно. Дальше я не стал с ним разговаривать – встал и вышел из комнаты. Весь день просидел у Орсона. Он рассказывал мне что-то про цветы. Но я не запомнил из его рассказов ни слова. Много лет потом я понял – это действительно так. Потом во мне появилось то, что некоторые называют зрелостью и иногда я с тревогой всматривался в зеркало: не придется ли мне за очередную бессонную ночь расплатиться седым волосом. Но Малыш всегда мне вспоминался таким, каким он был до своей смерти. И только в кошмарах он являлся другим – всего лишь на несколько часов позже. То бишь, когда он был мертвым… Пожалуй, это был первый раз, когда я хотел защитить слабейшего – я надеюсь это был последний случай, когда мне это не удалось.
В зиме бывают, которые будто сделаны из стекла. Они чисты и прозрачны, будто вырезаны из чистейшего горного хрусталя. Из сияющей пустоты неба глядит солнце – оно будто спешит быстрей проделать свой путь, закончить еще один день в стремлении к весне. В такой день луна гналась за солнцем, но догнала только вечером и ночь наступила раньше. Что-то в этом было: ведь та ночь была и так самой длинной в году – ночью зимнего солнцестояния. Это был необъявленный праздник – отбой сыграли раньше, потушили светильники, но посты усилили. Учителя шумели у себя, пленные разбрелись по комнатам и тоже как-то праздновали, что плохо или хорошо, но прожили еще один год. Когда вовсе стемнело я, Орсон и Громан выбрались на крышу. Орсон сварил бутыль самогона и запек в золе немного мяса. Самогон он охлаждал в снегу, а мясо, наоборот было еще теплое. Когда граф заметил, что кухню закрыли еще после обеда, Орсон, смеясь ответил, что в Школе это не единственная печь. Я чуть не подавился, но потом решил, что огонь очищает – даже если и горит в печи крематория. Кажется, Орсон был уже немного пьян – наверняка он начал отмечать раньше нас со Смотрителем Печей. Когда за нами закрылся люк, он затянул: Ты держишь глаза на дороге А ноги в стременах… Это была «Песнь дороги». Память услужливо подсказала следующие строки: «Пепельная дама – веди меня за собой Есть ты и я – теперь я только твой» Но в слух я сказал:
– Утихни, нас могут услышать…
– Да расслабься, Дже! Нас никто не слышит за ветром – а если и услышит, то подумает, что ревут беанши. Для нашей мясорубки их здесь должен быть взвод. Громан промолчал – кажется его беспокоила только судьба самогона. Он вытащил бутылку из пальцев Орсона, распечатал ее и разлил жидкость по стаканам. Она была обжигающе холодной. После первой никто не стал закусывать, дальше все ограничивались небольшими порциями мяса – ровно столько, чтобы забить горечь самогона. Вокруг было темно – солнце и луна сели вместе. В разрывах туч светили звезды – но их было мало, они были далеки и холодны. Спирт грел нас – становилось легко. У Орсона язык развязался окончательно и он болтал без умолку:
– Крыша мира – посмотри вниз, мы выше всех и вся! Ветры здесь дуют куда хотят, здесь ветры, а не сквозняки, заблудившиеся в паутине улиц. Здесь ветра пахнут полем или морем, дождем или солнцем – но никогда человеком… Но я не стал смотреть вокруг – я посмотрел в небо. В непостижимой высоте горели звезды. Я никогда не мог к ним прикоснуться, но было время, когда они были ближе. Мне стало плохо – у меня это отобрали… Сегодня не было луны. Ночь была темна – и в этой темноте свет звезд был еще ярче.
– Каково это – летать в ночном небе? – спросил Орсон.
– Не знаю, – ответил я. Он посмотрел на меня с удивлением:
– Ты ведь летал…
– Но не ночью. Ночное небо не принадлежит птицам.
– А ты разве птица? Я отрицательно покачал головой. Действительно – выше нас не было никого, если не считать черной громады церковной башни. Но сегодняшняя ночь была темной и башня была не видна. Может быть просто небо там было чуть темнее и все… Я подошел к самому краю крыши. Земли тоже не было видно. Почему-то захотелось сделать еще один шаг – броситься вниз, туда, где должна быть такая большая и такая твердая поверхность. Опять уйти в полет, даже если придется расплатиться за него жизнью.
– А как ты научился летать? – спросил Громан.
– Я со скалы упал. Там было саженей сто —я бы разбился вдребезги, но был слишком маленьким, чтобы испугаться. И пока падал – подумал: как это все же здорово. Воздух был жестким – я закрыл глаза, расправил руки и попытался вдохнуть…
– И полетел?
– Нет. Помешала одежда. Но я стал птицей – этого хватило, чтобы не разбиться… Громан печально улыбнулся, будто извиняясь за свой вопрос:
– Ты об этом жалеешь?
– О чем?
– О том, что не можешь летать?
– Говорят, когда человек взрослеет он перестает летать во сне…
– … И видеть цветные сны. Говорят самый крепкий сон без сновидений, – вдруг вставил Орсон.
– Сны ты видишь, просто потом не помнишь, – ответил ему граф, а потом обернулся ко мне: так о чем ты говорил?
– Я не летаю наяву, но летаю во сне… И сны у меня цветные.
– Значит не все потеряно… Когда мы все допили и стали спускаться, граф долго стоял, глядя на юг, будто стараясь что-то разглядеть. Он смотрел туда, откуда нас привели, где были или фронт или граница, где осталось то, что нас учили называть родиной. Когда мы позвали его, он вздрогнул и спросил:
– Как думаешь, о нас там помнят?.. Нас спасут?.. Я не знаю к кому он обращался – ко мне или Орсону, но ответили мы оба. Ответили одинаково: я отрицательно покачал головой, а Орсон бросил:
– На нас всем наплевать. Было бы странно, будь иначе… Но разве это не замечательно? Он расхохотался. На следующее утро у нас было жуткое похмелье. Но я знал: это не самое страшное, что бывает в жизни.
Случилось это в первый день весны. В первый день календарной весны – но, как водится, природе было плевать на сроки, установленные человеком. На улице стоял собачий холод, пурга отбивала по стеклам мелкую дробь. Солнце уже давно встало, но из-за низких туч было темно, будто не только зима, но и ночь расширила свои пределы. Просыпаться не хотелось – к утру сон превращался в крошево бытия и бреда. Мы то проваливались вниз, то всплывали, чтобы убедиться – можно еще немного поспать. Хоть немного… Но ровно к восьми часам мы собрались у учительской – каждый из нас устал, что ему было безразлична даже его собственная судьба. Однако, вместо имени приговоренного на доске объявлений мы увидели объявление: «С Сегодняшнего дня, отныне и навсегда, еженедельные умерщвления отменяются – вас осталось слишком мало, чтобы рисковать любым» Может быть в другое время мы ликовали, но мы разбрелись по комнатам, чтобы досмотреть свои субботние сны. Каждый подумал о том, что сегодня умирать не ему, не поняв больше ничего. Смысл стал доходить к нам после обеда, когда Равира Прода ненадолго появилась в школе, оставив дверь пыточной закрытой. С трудом мы стали понимать, что сегодня не умрет не просто я или он – не умрет никто. Мы так долго рядом жили рядом со смертью, что она вошла в нас. Радости не было – но просто не дозрели до этого чувства. Словно призраки, мы бродили по школе, иногда подходя к доске объявлений – листок по-прежнему висел на том же месте. Но мы все равно не верили – зима приглушила чувства и многим казалось, что они во сне. И чем глубже они войдут в этот сон, тем горше будет пробуждение. Кто-то старался проснуться, но у них ничего не получалось, и они страдали еще больше. В одну из прогулок я встретил Орсона:
– Как дела? – спросил он меня
– Твой цветок завял… – ответил я, будто ничего важней не было. Но он спокойно ответил:
– А ты бы его меньше всякой гадостью поливал… Тут сказать мне было нечего. Иногда, чтобы не ходить на кухню, я обдавал чашку водой и выливал остатки в горшок. Мы разошлись – я оделся и вышел на улицу. Было довольно холодно, но об этом я узнал только ночью, когда оказалось, что я обморозил лицо. Я прислонился спиной к стене как раз под окнами учительской. Смотрел я на запад – туда, где должно было сесть солнце. Ноя считаю важным направление – просто куда-то мне надо было смотреть… Весь день солнца не было, и только вечером, садясь, он выскользнуло из-за туч и ударило и скользящим, не горячим лучом. Но мне этого хватило – как вампир упивается кровью, я выпил его и понял, что это все всерьез. Что я жив, что покамест меня что-то или кто-то бережет. Мне было плевать – кто. Я хотел знать —ЗАЧЕМ? Когда стало темно я побрел назад – прошел мимо учительской. Лист висел на месте. Промелькнула мысль сорвать его и порвать, будто никогда его не было. Я поднялся к себе на этаж и пошел в свою комнату. Кроме Сайда, там был Орсон и Громан. Последний принес новость. Она звучала так:
– Только что сдался Даль…
– Почему? – спросил я. Граф пожал плечами. Но Громан врал – он знал ответ, равно как и я. Ежедневная борьба наполняла нашу жизнь. Бежать по лезвию стало привычным и даже необходимым. Теперь этого не было.
Затем небо пришло в движение. В колодце Стены мы видели, как тучи гоняются друг за другом, будто ведьмы в шабаш. Порой они сплетались будто ленты, кипели как змеиный узел. Небесный купол то подымался вверх, то опускался так низко, что почти смыкался с туманом Стены. Весна наступала – как наступает одно войско на другое. Может, то был лишь авангард и до кордебаталии было далеко. Снег только почернел., и мы выбирались на улицу и грелись будто сонные мухи. Наверное, за Стеной дул холодный ветер, но он был по-весеннему прямолинеен и у нас было тихо. Казалось Сайд почувствовал все раньше и острее нас. Он выглядел довольным и подтянутым:
– Ветер… Хороший ветер, как он хорошо пахнет – скоро он станет попутным и я уйду. – сказал он мне в такой день. В ответ я закрыл глаза – тепло будто волнами омывало лицо. Мне не хотелось двигаться – тем более куда-то идти. Еще через несколько дней резко потеплело. Оживился Орсон. Оказалось, что еще зимой из остатков дров соорудил ящики, которые теперь ночами таскал на крышу – когда мне не спалось, я помогал ему. Он тайком долбил еще мерзлую землю в холщовую сумку. Земля была тяжелой как камень и стоило ей немного побыть в тепле, превращалась в жижу. Однажды, отдыхая после очередного подъема, я спросил его, почему он занялся растениями:
– Что наша жизнь? Человеку свойственно о чем-то заботиться. Не было бы цветов, придумал бы еще что-то. Мужчина вообще – существо… Нежное что ли… Я хохотнул. Орсон обиделся:
– Да ты не смейся… Я что хочу сказать… Многие мужчины хотят быть нежными, равно как женщины – желают, чтобы с ними нежно обращались. Но многие думают, что проявление нежности – это признак слабости. Потому и женятся, чтобы скрыть сей постыдный недостаток в семье. Говорят, мужчинам надо только одно. Не знаю, может так оно и есть – не суть как это называть… Но было бы женщинам легче, если бы мужчинам требовалось две, три вещи…
– Все мужчины одинаковы?…
– Самое оригинальное суждение, что я слышал! Но покажи мне настоящую женщину? Я пожал плечами:
– Тебе ответят: «Покажи мне настоящего мужчину»? Орсон кивнул:
– Согласен… Измельчал народец. Где глаз орла, сила тигра, мудрость змеи?…
– И кто виноват?
– Вообще-то сперва надо спросить: «Что делать?». Но ответа на него я сам не знаю, посему отвечу на твой: виновата война… Наверное, я слишком долго молчал, что Орсон еще раз повторил свою фразу, смакуя будто глоток вина, каждое слово:
– Виновата война… – потом продолжил быстрей: Мужчины имеют свойство оттуда не возвращаться, и женщины стали слишком доступны…
А утром исчез Сайд. Верней, утром я заметил, что его нет. Перед этим спать я лег поздно, вернувшись когда все огни уже погасили. Я не стал зажигать свет, разделся в темноте и заснул. А утром увидел, что кровать Сайда пуста. На ней не было матраса, все его вещи тоже пропали. Казалось невероятным, но за ночь на досках вырос слой пыли
– будто его здесь не было никогда. Самое странное началось потом – никто ничего не мог мне сказать. Сайд ни с кем не общался, и никто ничего мне не сказал. Все пожимали плечами, хмурили лбы, будто пытаясь его вспомнить… И не вспоминали! Я пошел к учительской, собираясь спросить о нем у кого-то из стражи. Но когда я проходил мимо доски объявлений, взглянул на список дежурств. Напротив моей комнаты стояло только одно имя. Мое. Бумага была та же, что и вчера, что и неделю назад – мятая, с оторванным краем. Только одно имя исчезло. Его не зачеркнули – его не было, будто никогда и не существовало. Ветер, – почему-то подумалось мне, – сегодня ночью был сильный ветер. Хороший ветер!
Весна катилась красным колесом, набирая обороты Сперва в одну ночь зацвели все деревья в саду. Сад был маленьким – деревьев двадцать. Они помещались на заднем дворе как раз между правым крылом и коротким левым. Когда мы проснулись, голые вчера ветви, были в белом пуху. Все это ровно гудело – здесь, почти посреди города пчелы пытались собрать себе немного меда. Некоторые ловили пчел: кто-то давил из них пчелиный яд, были такие, кто привязывал к ним цветные нитки, тончайшие полоски бумаги, исписанные посланиями. Эти сообщения должны были известить мир о нашем существовании. Не знаю, дошло ли хоть одно – если и дошло, то ничего оно не изменило. Потом в белизну начала вкрадываться зелень, и, наконец, по саду закружила теплая вьюга. Пахло там невероятно хорошо и свободное время я часто валялся под деревом. Все переживали весну по разному, но мне почему-то постоянно хотелось спать. Почти всеми овладела жажда деятельности – Громан сидел как на иголках, порой по нескольку раз пакуя и распаковывая свой вещевой мешок. Орсон вместо самогона попытался сварить пиво – получилось неважное, к тому же охладить его так и не удалось. Пришлось обменять его уже не помню на какую мелочь. Он пытался расшевелить меня, но я всегда отвечал одинаково:
– Отстань… Не видишь, болею.
– Чем?
– Хандрой
– Не самая плохая болезнь. – соглашался он…
И действительно: хандра – не самая плохая болезнь. Гораздо лучше, чем дизентерия или проказа. Пожалуй, хандра – это моя фамильная болезнь. Давным-давно мой дед, чтобы разогнать тоску, ушел на войну. Просто так – в один день одел саблю, оседлал коня и пустился в путь. Потом он говорил, что именно среди смерти и боли он полюбил жизнь. Не будучи кадровым военным, тем не менее он довольно быстро сделал карьеру и когда заключили мир, ушел на пенсию. Из его пяти детей только один избрал военную стезю, унаследовав кроме сабли еще и приступы жесточайшей хандры. Я имею ввиду своего отца. Помню, как он иногда часами мог стоять у окна, глядя как растут сосульки или павший лист застилает землю. Моя мать была совсем не похожа на отца – она легко возвращала его к жизни. Она подходила к нему, что-то шептал и несколькими минутами позже они уже мчались аллеями парка круша тишину грохотом копыт своих лошадей. Иногда мне кажется, что отец женился именно для того, чтобы хоть иногда не быть одиноким. Мать умела радоваться жизни. Она не любила военных, но любила отца, и как ни странно, она не стала возражать когда отец решил отдать меня в кадетский корпус. Может, среди прочего, они считали, что военная служба имеет свойство развеивать хандру. И действительно – скучать не приходилось. Но армия научила меня и другому – быстро расслабляться, пить в одиночку, нестись вместе со всеми но быть наедине с собой. Я узнал, что приказы не обсуждаются, но иметь свое мнение можно и нужно. Я научился любить стены – они отлично прикрывали спину. Но когда кавалерия останавливалась, что-то не успокаивалось во мне. Я не мог заткнуть глотку собственным мыслям. И хотя вопросы не менялись никогда, я не мог найти на них ответы. Если вы знаете, что такое хандра – вы знаете и эти вопросы, а если нет… Тогда вы меня никогда не поймете. Может, это к лучшему…
А потом весна добралась и до меня. Я говорю о той вещи, которую многие склонны называть влиянием весны. Свежего воздуха было так много, что он проникал всюду, одурманивал меня – я ходил будто пьяный. На вопросы отвечал невпопад, мазал ложкой мимо тарелки, пытался подняться выше на одну ступеньку, нежели было на лестнице. В былые времена это стоило бы мне жизни – в Школе нельзя было расслабляться. Но к тому времени выживать уже стало на уровне инстинкта. Я мог драться на дуэли и вспоминать, как цветут яблони. Боя, правда, я потом не помнил – но так ли это было важно. Громан стал будто моей нянькой – он будил меня, следил, чтобы я не забыл о еде. Но мое состояние его не устраивало – он постоянно пытался растолкать меня. Вернуть к тому, что творилось вокруг. Однажды за обедом он спросил меня:
– Если бы здесь можно было бы в кого-то влюбиться, Дже, я бы подумал, что ты потерял голову… Но что нам можно любить – родину, которая нас предала? Деньги, которых у нас нет? Оружие нам не дают, еда просто ужасная, я уже месяц не напивался… Да чем, скажи мне на милость, здесь можно быть довольным? А у тебя лицо как у кретина или влюбленного. О чем ты мечтаешь? Кажется, в моей голове до его вопроса вилось с полдюжины мыслей, но когда граф задал свой вопрос я с трудом поймал за хвост хоть одну:
– О радуге. Чтобы один конец лег здесь, а другой – за Стеной. Я бы перешел по ней туда – был бы на свободе. Потом раскопал бы горшок с золотом… Леприконам положено закапывать золото у основания радуги.
– Такой большой, а в сказки веришь. Откуда у леприконов золото. И если оно у них есть, чего ради они должны его закапывать?
– А я почем знаю. Положено – и все тут! Может от сборщиков податей прячут
– по войне они злей волков…
– Да не бывает радуги в городах!?!
– Ну разве что так… А жаль…
– А ты о чем задумался? Пожалуй, самым разговорчивым из наше кампании был Орсон, который иногда даже размышлял вслух. Но в тот день он молчал. Даже когда его спросили, он остался немногословен. Он сказал:
– Смотрите… Орсон повертел скорлупку меж руками, потом медленно развел их. Скорлупа осталась висеть в воздухе меж ладонями.
– Опять фокусы? – спросил я.
– Да нет, магия… Они что-то напортачили, и иногда Сила возвращается. Когда-то я подымал ядра баллист и швырял дальше, чем видел. Теперь мне с трудом дается и скорлупа. Он убрал руки и скорлупа упала на стол, расколовшись на две половинки. Хочу… – пронеслось в моем уме. Я поймал мысль и подумал ее еще раз. Хочу… – продолжение удивило меня. Хочу осколков… Хочу расколоть вдребезги стену, разрушить до фундамента Школу. Срыть город, чтобы здесь шумело озеро, море. Расколоть страны до такой степени, чтобы ни у кого не возникло другой мысли, кроме соединиться… Я взглянул на небо и осекся: небо я бы оставил едины. Я бы поднялся в него, и никого бы не пускал. Пусть оно огромно, но делить я его не с кем не собирался. В ту ночь, я кажется, впервые подумал о побеге…
Эх, давно это было! Да и было ли вовсе… Жил такой магик – некто Прациус. На старости лет тот сотворил телепортационный туннель без малого на три тысячи верст почти точно с севера на юг. В южный портал загружались всевозможные цветы, а в северный – дабы свести потери магической силы к минимуму – глыбы льда. Фунт льда за фунт цветов. Маги-современники обзывали Прациуса ренегатом, который расходовал высокую магию неизвестно на что. Купцы же одобрительно цокали языками – на севере цветы стоили дорого, да и крепко замороженный лед в хозяйстве вещь не последняя. Через полвека после кончины Прациуса его возвели в святые и в покровители влюбленных. Все же цветы – это не морская капуста: красиво, романтично. К тому же на севере стало чуть поменьше льда. А на самом деле Прациус был банальным шпионом: отправляется груз кремовых роз – ввели новую подушную подать, гвоздики – оружейники получили заказ на пики. Когда истек срок секретности, говорят, разведчики хотели его разоблачить. Но не стали – среди них тоже оказались сентиментальные ребята, не пожелавшие разрушать легенду. К чему я это вспомнил? Ума не приложу…
Что нам осталось? Не так уж и много. Грубо говоря: ничего. После отмены еженедельных умерщвлений как-то на нет сошли и лекции. На них стало ходить все меньше и меньше пленных и их тихонько прекратили. Многие продолжали учиться то ли по привычке то ли из безделья – брали в библиотеке книги, учили трактаты… Но никто не потолстел – на арене продолжали драться, иногда до крови, хотя смертельных исходов стало меньше. Нужда драться была, ибо ничто не греет сердце так, как холодная сталь. Спорили, дрались, но как только первая кровь проливалась на песок, бой прекращали – максимализм свойственен молодости. Умение прощать приходит с возрастом Не знаю – были ли молодыми по-настоящему. Вряд ли из жизни тех, кто находился тогда в Школе по крупицам можно было сложить то целое, что называется детством. Когда мы росли – мир менялся очень быстро и мы менялись вместе с ним. Ничего другого не оставалось… Пошли слухи, что где-то далеко идет новая война и скоро школа заполнится новыми пленными. Это надолго стало главной темой – обсуждали положение «стариков» среди возможных «новичков». Потом разговоры прекратились, наверное потому что от них просто устали. Я так и не узнал, откуда пошли эти слухи, ибо, как потом оказалось, они не имели под собой никакого основания. Думаю, придумали их сами пленные, дабы хоть немного развеять скуку. Меня больше всего интересует другое – с весны сдачу принимали у всех, кто того хотел, не вдаваясь в причины. Тем не менее большинство решило не сдаваться И я не пойму – на что надеялись мы в своем упорстве? А еще больше непонятно на что надеялись они – почему нас не уничтожили в конце весны, летом или в начале осени.
К лету нас осталось чуть меньше полусотни, когда начали зреть яблоки – стало ровно два десятка. До того как отправили Орсона нас была ровно дюжина…
Еще бы немного и я бы его не застал. В те времена я много спал. Собственно, сон стал моим единственным развлечением. Кажется, тогда я отоспался за все бессонные ночи, что были и за некоторые из тех, что предстояли. Разумеется это было не так – выспаться вперед, равно как и наесться впрок не стоит и стараться. Но спать я полюбил. И терпеть не мог, когда кто-то будил, и тем более прерывал то, что мне сниться. В одно утро, я ворочался в кровати, стараясь опять забыться и досмотреть, чем закончится битва, что разворачивалась в моем уме. Но кто-то толкнул мою кровать и сон разлетелся вдребезги:
– Вставай! Ты проспишь даже утро своей казни… Голос походил на графа Громана, и я ответил, поворачиваясь на другой бок:
– Гебер, пошел вон…
– Орсона уводят! Подымайся, кому сказано… Я вскочил – у кровати стоял Риальди. Спросонья я все спутал…
– Где?
– Во дворе… Я выбежал из комнаты, на ходу застегивая рубашку. Когда я выбежал на двор, конвой был уже в седлах. Орсон тоже был в седле – его руки были замкнуты в кандалы-перчатки. На секунду я подумал, что они узнали про его успехи с Силой. Но потом решил, что это не так – было бы иначе, они бы уже перетрушивали все, дабы нарыть причину. Орсон увидел меня и крикнул:
– Дже, проследи за моими цветами! Я кивнул, отлично понимая, что вряд ли им чем-то смогу помочь. Стояла середина лета. Но у Смотрителя Печей что-то не ладилось – забился ли дымоход, не было ли тяги, но вчерашний казненный горел плохо, пепел вылетал из трубы и оседал на нас, на деревьях, на дорогах… Орсон был спокоен и, кажется, весел. Он кивнул вперед и бросил:
– Меня позвала пепельная дама… Позже я понял, что он говорит о дороге.
– Счастливого пути! – успел крикнуть я. Стена задрожала, конвой медленно тронулся… Я желаю вам… – крикнул он, оборачиваясь через плечо, – я желаю вам всем… дорогу!..
Зеркало, зеркало на стене… Странно – лужа стекла плоская как картина, но вид меняется от того, где ты стоишь. В зеркале мы видим то, что видит нас. Еще не зайдя в комнату, я понял: что-то не то. В осколке зеркала, висящего на стене была видна кровать Громана. Обычно, еще не переступив порог, я знал, на месте ли он. Кровать была пуста. Не просто пуста, а совершенно пуста – белье убрано, матрац скатан. Я понял – нас станет меньше. Гебер Громан замыслил сдачу… Я нашел его на заднем дворе. Он сидел на коряге и смотрел на муравьев. Наверное, муравейник делился, и сейчас поперек тропинки лежала муравьиная дорожка. Она была широкой – почти в два шага шириной и будто кипела от бегущих по ней насекомых. Иногда кто-то проходил по тропинке и давил муравьев дюжинами, но не раздавленные не обращали на это никакого внимания и продолжали бежать по своим делам. Муравьи не обращали внимания на людей, а люди на муравьев. Такие дела… Я молча присел рядом. Гебер не повернул голову, но угадал, что это я. Хотя кому еще быть…
– Смотри, Дже, – наконец проговорил граф, – предположим блохи… Блохи – это не люди. Блохи чтят границы. Еще никто не слышал о блошиных войнах. Скажем собачья блоха не живет на человеке, а человеческая – никогда не опускается, чтобы грызть, скажем кошку.
– Это не блохи, это муравьи. У них тоже бывают войны. Но он пропустил мои слова.
– Знаешь, Дже, я устал…
– А что ты сегодня делал?
– Ничего…
– Тогда почему устал?
– Я от жизни устал…
– Что-то произошло?
– В том-то все и дело, что ничего не происходит…
– И потому уходишь?
– Я ухожу потому, что хочу идти хоть куда-то. Мы не стали говорить о направлениях и о движении в Зазеркалье. И он и я знали, что можно сказать, и что можно было ответить. Стоять-бежать, аркан судьбы и прочее. Будто извиняясь он сказал:
– Война закончена, и не все ли равно, под какой барабан маршировать…
– Никогда не любил маршировать… Мы замолчали. Я думал о том, что отныне нет «мы» – есть только «я» и «он». Стало тоскливо и одиноко. Опять одиноко. Громан, наверное, думал, что я мысленно его обвиняю – он был готов к этому и даже постарался помочь мне высказаться:
– Что ты мне скажешь? – спросил он.
– А что я тебе могу сказать? Он повернулся и посмотрел мне в глаза. Кажется в глаза – я смотрел на живую дорожку.
– Если хочешь, пошли со мной…
– Не хочу. Я остаюсь.
– А смысл?
– Никакого, – согласился я.
– Тогда почему? Мне вспомнился Лесоруб. Но я ответил по другому:
– Может мне удастся застрять у них в горле… Это была старая история про войну мышей с кошкой – одна мышь кусала кошку за хвост, когда вторая пыталась застрять в горле. Нам было не смешно – может быть шутка приелась…
– Ну что же. Каждый отныне идет своим путем, – сказал кто-то из нас. Я поднялся и ушел. Когда я шел по двору, листопад увязался за мной будто бездомный щенок. Я обернулся на звук – ветер мгновенно затих и листья рухнули на землю…
Где-то с конца зимы, стало принято за столами не шуметь. Разговоры велись шепотом, но все больше за время трапезы обедающие молчали. В тот день к обычной тишине была подмешена тяжесть – все думали об одном и том же. Такого состояния не было, кажется со дня казни Герзигана и Набиоллы. Я чувствовал, что многие украдкой смотрят на меня – кажется, они ожидали обвинительного вердикта в моем исполнении. Было принято клеймить предателей. Но я нарушил традицию. Вставая я тихо сказал:
– Если сломался Гебер, вряд ли я смогу обвинить кого-то, что он не выдержал… Больше комментариев не было. На следующее утро я опять вышел на задний двор. Муравьев не было. Графа Гебера Громана тоже…
Отвар, что я сварил, оказался слишком крепким. Чтобы заглушить горечь, я добавил сиропа, но жидкость вязала язык и не утоляла жажду. Мне стоило бы разбавить его водой, но кипятка не было, а сырая вода просто бы все испортила. Сперва я пытался убедить себя. что сердце не ноет. Я встал со стула и прошелся по комнате. Вышел в коридор. Мне не хватало воздуха. В школе было тихо, как бывает или ночью или в полдень. И я сделал то, чего никогда не делал днем – я поднялся на крышу. Я присел на вытяжную тумбу – что-то в этом было не то. Казалось, что сердце стало таким большим, что не помещалось в груди. Я опять поднялся на ноги. Дул свежий ветер – мне действительно стало легче. У Орсона был повод веселиться – хоть и плохое, но другое. Дорога развеяла бы скуку и так ли важно, что было в конце. Вряд ли хуже, чем в школе – плаха бы нашлась и здесь. Наверное, у федератов появились относительно Орсона новые планы. Но могло статься, что у него появились планы на федератов. Он знал – система дала сбой, стало быть она не совершенна… И тогда я понял, что произошло. В магии Орсон был дилетантом вроде меня. Везение здесь было ни причем – сам того не зная, он раскачал именно здесь на, крыше. Антимагическое вещество было в школьной еде – Орсон ел овощи со своих грядок, стало быть этой дряни у него было меньше. От открытия я вздрогнул – все было так просто. И так сложно. Мне следовало использовать свое открытие быстрей. Могло статься, что Орсон догадается о своей победе, и с этого мгновения я начинал с ним заочную гонку – кто раньше сумеет вырваться из плена. Я думал только о побеге – на мятеж сил у меня бы не хватило.
Я стал даже более фанатичным садовником, чем Орсон. Я сколотил еще четыре ящика, натаскал туда земли и каждую ночь носил наверх бесконечные ведра с водой. Я рыхлил землю, выдергивал сорную траву – уже не знаю, как она там появлялась. Кое-что из насаждений Орсона я раскорчевал – все цветы и большую часть из тог, что не могло дать скорый урожай. И первый результат появился через неделю – я сотворил магический огонек. От него я зажег свечу и крепко задумался. У меня ничего не получалось. Огонек – это дрянь. Базарные фокусники и то могут показать больше. Для побега мне нужна была Сила, вся мощь, какая только возможно. Но мой огород не давал нужного количества еды. Я продолжал столоваться со всеми. Если бы я жил впроголодь, то ослабел бы, и все равно у меня ничего не получилось. Надо было что-то придумать. И я вернулся на школьную еду, но стал делать запасы. Не очень сложная выдумка, но я пришел к ней после дня раздумий. Было очевидно, что во все подряд они заправить свою отраву не могли. Скажем ее могли намешать в котлету, но вряд ли в цельный кусок мяса. И когда повеяло старухой-осенью, я скопил достаточно провианта, чтобы рискнуть. Отсчет начался…
Для меня было бы проще не рассказывать об этом. Если я промолчал бы – это не было бы ложью. Но это было бы не всей моей историей. Это был день, когда, я чуть не рухнул, день когда меня собирались убить. Сейчас, когда рассказывают, как кто-то выдержал пытку каленым железом, я молчу, я знаю, что есть вещи и подейственней. Ибо самую страшную пытку мы носим в себе. Патруль нашел меня в моей комнате – от нечего делать я раскладывал пасьянс. Эти карты когда-то принадлежали Громану (карты генерального штаба – шутил он…). Бывало, мы чертили пулю – сперва вчетвером… Потом, четвертого находить стало трудней и мы стали играть на троих. После отослали Орсона – пришлось играть вдвоем. Когда граф ушел, карты перешли ко мне – не пойму зачем, ведь играть мне было не с кем. Дежурный офицер стал за моей спиной и, только убедившись, что пасьянс у меня не сходится, тронул за плечо. Вставай. Тебя ожидают в комнате допросов… Я поднялся – с ним было еще четыре солдата, если бы я отказался, они бы хорошо отлупили меня, а потом бы оттащили в пыточную. Я не доставил им такого удовольствия – встал и пошел сам. Они меня довели до порога, один даже открыл дверь, но через порог я перешел один. В тот день весь пыточный инструментарий был спрятан по своим местам. Его развесили по стенам или спрятали в ящики. Может, чтобы его вид не действовал на нервы, а может для того, чтобы он не пылился, все прикрыли сукном. Следов не было – пол подмели, стены вымыли и если бы не память, я бы даже не сказал, что это за комната. Проклятая память… Был только стол – за ним стояло два стула. Один был для меня, второй занимала Равира Прода – гауптман, магичка, наконец женщина. Существо настолько странное для нас, что я просто стал забывать, что такие существуют. Я присел, не дожидаясь приглашения. Она долго смотрела на меня, и, наконец, сказала:








