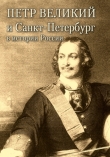Текст книги "Пётр Первый - проклятый император"
Автор книги: Андрей Буровский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Глава 4
ИЗМЕНЕНИЯ В СТРОЕ ОБЩЕСТВА
Куда летишь ты, птица–тройка?!
Н.В. Гоголь
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЫСК
Трудно назвать политический сыск нововведением Петра, но что при нем это зловещее явление невероятно активизировалось ― это факт. Вообще есть четкая закономерность: чем сильнее сомневается государь в своем праве на престол, а правительство в своей законности и в правомочности своих действий, тем сильнее политический сыск и тем жестче режим. А самые уверенные в себе, самые законные цари и самые легитимные режимы ― как раз самые спокойные и добрые. Есть и обратная закономерность ― по уровню политического сыска можно определить степень легитимности режима и уверенность в себе монарха…
С 1695 года все дела по «Слову и делу государеву» направлялись в Преображенский приказ, возглавляемый Ф.Ю. Ромодановским, по–собачьи преданным царю Петру. С 1702 года вообще весь политический сыск сосредоточился в Преображенском приказе. «Собою монстра, пьян во все дни» ― так характеризовал Ромодановского князь Куракин.
«Отличался исключительной жестокостью во время ведения следствия»,
― отмечает авторитетный советский справочник, и это тот редкий случай, когда с его оценками Петра и его приближенных вполне можно согласиться. Фёдор Юрьевич Ромодановский был исключительно, неправдоподобно жесток, даже по тем жестоким временам. Он умел добиться показаний, нужных или приятных Петру. Например, по тому же «делу стрельцов»…
Из книги в книгу, из сочинения в сочинения перекочевывает байка, будто стрельцы, пока Пётр был за границей, «взбунтовались». Сложнее оказывается с конкретными обстоятельствами: с лозунгами бунта, с перечнем взятых стрельцами городов, мест сражений с правительственными войсками… Потому что всего этого нет. «Стрелецкий бунт» от начала до конца выдуман Петром, а потом уже историки, начиная от современников, Татищева и Прокоповича, до Соловьёва и Ключевского, пересказывали сказочку про бунт. Только у С.Г. Пушкарева есть уточнение ― мол, не бунт все–таки, а неповиновение приказу… А это, по словам юристов, «совсем другая статья».
Стрельцы бежали из мест, куда их выслали из Москвы. Стрельцам было голодно, и не очень понятно, в чем дело ― в обычной для Петра «бережливости», или нелюбимых им стрельцов сознательно морили голодом. Семьи у них оставались в стрелецких слободах, в Москве, и стрельцы хотели вернуться домой. Они отказались подчиняться приказу, и солдаты Гордона легко рассеяли их картечью: повторяю, стрельцы вовсе не бунтовали, практически не сопротивлялись правительственным войскам.
Ромодановский провел следствие с обычной для него жестокостью, но никакого бунта не нашел, и стрельцы были наказаны легко: слетело 56 голов, остальные разосланы обратно по месту службы.
Но тут приехал из–за границы Пётр…
У ранее цитированного нами Р. Мэсси есть утверждение ― мол, Пётр вовсе не был по своей природе жесток, он пытал и убивал
«для практических нужд государства».
На мой взгляд, такую бесстрастную жестокость скорее можно приписать как раз Ромодановскому. У Петра была и такая, совершенно безличная жестокость, никак не относившаяся к личности пытаемого или обреченного на гибель. Из огромной машины государства выпадает своевольный винтик, или этот подлый винтик злоумышляет против машины… И Пётр поступает с «винтиком» соответственно, не очень задумываясь о его собственных, этого «винтика», представлениях, желаниях и чувствах. Об этом свидетельствует хотя бы подробнейший, досконально разработанный Петром лично «Обряд, как обвиняемый пытается». По правде говоря, мне просто не хочется приводить этот страшный и отвратительный документ. Желающие могут прочитать его в книге Бушкова (Бушков А.А. Россия, которой не было. М., 1997. С. 373―375).
По данным И. Бунича, на некоторых следственных документах времен Петра есть его собственноручная резолюция: «Смертию не казнить. Передать докторам для опытов». Выполнялась ли резолюция и кто конкретно из докторов проводил опыты на живых людях, мы не знаем, но эксперименты на людях очень в духе того механического видения жизни, которое так свойственно Петру, его чудовищного безразличия к человеку.
Но вот в случае со стрельцами все было не совсем так… Потому что Пётр, кроме беспристрастной жестокости «великого государственного деятеля», очень даже знал вполне пристрастную жестокость и к людям, и к группам населения, и к целым родам войск. К стрельцам, убившим на его глазах Матвеева, Пётр был исключительно пристрастен. Не успел он вернуться в Москву, как уже законченное, сданное в архив следствие завертелось по новой. Петру мало было неподчинения приказу, голодного похода на Москву. Нет! Ему нужен был БУНТ и ЗАГОВОР, попытка свержения и покушения!
Стрельцов стали возвращать из мест, куда их выслали, страшно пытали, и Пётр собственноручно пытал стрельцов. Роберт Мэсси пытается изо всех сил представить жестокость следствия при Петре как некое знамение эпохи. Мол, везде было одинаково ужасно, во всех странах Европы пытали так же, если не страшнее… Однако «почему–то» Пётр изо всех сил пытался скрывать от европейцев и масштаб, и методы следствия.
Сотрудники датского посольства проявили любопытство не по разуму, проникли в Преображенское, чтобы подсмотреть, что же там делается? Насколько правдивы почти невероятные слухи (видимо, для них все–таки пытки не были такой уж повседневностью)?
Датчане осмотрели несколько пустых изб, где нашли лужи крови на полу и в сенях и заляпанные кровью орудия пыток, когда
«крики, раздирательнее прежних, и необыкновенно болезненные стоны возбудили в них желание взглянуть на ужасы, совершающиеся в четвертой избе. Но лишь вошли туда, в страхе поспешили вон»,
потому что застали Петра с приближенными, который стоял возле голого человека, вздернутого на дыбу.
«Царь обернулся к вошедшим, всем видом показывая свое недовольство, что его застали за таким занятием».
Иноземцы выскочили прочь, но князь Нарышкин побежал за ними, спрашивая, кто они такие, откуда взялись и зачем пришли? Датчане молчали, и Лев Кириллович им объявил, что они должны немедленно идти в дом князя Ромодановского.
Чиновники посольства, осознавая свою неприкосновенность,
«пренебрегли этим довольно наглым приказанием. Однако в погоню за ними пустился офицер, намереваясь обскакать и остановить их лошадь».
Датчан было много, Меншиков один, и датчане все–таки убежали. Интересно, как бы сложилась их судьба, окажись датчане послушными и пойди в дом Ромодановского?
Как нетрудно понять, в личном участии царя и его ближайших подручных в пытках никакой «практической государственной нужды» не было. Неудивительно, что Петру хотелось это скрыть от европейцев, как скрывают постыдную страсть. Петру попросту ХОТЕЛОСЬ пытать ненавистных стрельцов.
Так же и во время массовой казни стрельцов, объявленных бунтовщиками: ну какая государственная необходимость была в том, чтобы любоваться всем процессом ― как везут, как отрывают от жен и детей, как волокут на плаху? В этот страшный день убили 799 стрельцов; сохранилась легенда, что один из первых в истории Орловых, Степан Орел, откатил ногой уже отрубленную голову, чтобы пройти. И что этот жест до такой степени понравился царю, что он тут же, на залитой кровью площади, велел Степану Орлу явиться в Преображенский приказ и стать одним из его гвардейцев. По другой легенде, некий стрелец оттолкнул царя:
«Отойди, государь, тут мое место!»
По другой версии, стрелец Петра не толкал и сказал иначе:
«Отойди, я тут лягу!»
Во всяком случае, Пётр присутствовал на площади от начала до конца и приказал боярам самим, лично участвовать в казнях. Непривычные к палаческим должностям, бояре и не умели толком убить человека, и испытывали более чем понятные нравственные затруднения (которых было тем больше, чем больше было сомнений в виновности стрельцов). В результате одни бояре убивали стрельца, и потом их уводили с площади под руки и укладывали в постель. А Долгорукий ударил «своего» стрельца посередине спины и перерубил его почти пополам. Стрелец претерпел бы ужасные муки, но тут оказался Меншиков, он быстро и ловко отрубил голову стрельцу.
Историки спорят, чем объясняются поступки Петра, что это: действия не вполне вменяемого человека или действия самодура, которому все равно никто возразить не посмеет? Видимо, правы и те, и те. Это действия не вполне вменяемого самодура, на развитие болезни которого огромное воздействие оказала сама его безнаказанность.
И еще одно… Вспомним, как Пётр сердился на пирах, когда кто–нибудь не разделял его вкусов. Как он заставлял выпивать бутылки оливкового масла и уксуса. Вот и здесь так же: ненавидя стрельцов, Пётр деспотически потребовал, чтобы все московское боярство разделяло бы его эмоции.
Когда в пытошные избы пришел патриарх, просить пощады для стрельцов, Пётр буквально выбросил его вон. Нескольких священников казнили только за то, что они молились за несчастных. Жена мелкого чиновника, проходя мимо трупов стрельцов, повешенных на стенах Кремля, бросила: «Кто знает, виноваты ли вы?» и перекрестилась. На несчастную донесли, и её и ее мужа пытали; вина их в чем бы то ни было не доказана, но обоих выслали из Москвы.
Пётр хотел, чтобы стрельцы дали показания против Софьи, чтобы побег из голодной Астрахани выглядел попыткой государственного переворота. Конечно же, вскоре Ромодановский принес необходимые «доказательства»: мол, переписывались стрельцы с царевной Софьей! Тогда взялись за людей, близких к царице, в том числе и за ее сенных девушек. Пётр выступил прямо–таки как гуманист ― велел не сечь кнутом одну из них, находившуюся на последних стадиях беременности. Правда, повесили потом обеих, в том числе и беременную. За что? Непонятно… связь Софьи со стрельцами не доказана, в «бунте» девицы никак не могли участвовать….
Что характерно, никогда и ни одно письмо от стрельцов к Софье и наоборот в руки следствия не попало. Классическая история: мол, Пётр велел повесить трех самых злых стрельцов под окном у Софьи, чтобы она все время видела своих повешенных «сторонников». А к рукам стрельцов он велел привязать ее, Софьи, письма… Все это правда, и именно так все изображено на картине Репина. Только вот одна деталь не соответствует истине: не было собственноручного письма. К рукам стрельцов прикрутили вовсе не письмо Софьи, а листы бумаги с их показаниями насчет того, что было такое письмо…
Так же пристрастно жесток был Пётр и по отношению к своей любовнице Анне Монс. Правда, её не пытали, не били кнутом и не погнали в Сибирь или на плаху. Но стоило Петру отдалиться от неё, и он вовсе не ограничился супружескими «разборками» или хотя бы кулуарным мордобоем.
Анну Монс обвинили в связи с прусским посланником Кейзерлингом ― до сих пор непонятно, справедливо обвинили или облыжно. Есть разные версии, вплоть до того, что, уже «отставленная» царем, Анна пыталась выйти за Кайзерлинга замуж. Если учесть, что в октябре 1705 года, когда развернулись события, Екатерина Скавронская имела уже двоих детей от Петра, версия эта весьма реальна.
Впрочем, если бы Анна и «изменила» царю ― состава государственного преступления в том нет. Но «Монсиха» подверглась опале вместе со своей сестрой, с 1704 года в замужестве Балк, и долгое время находилась под домашним арестом. Ей даже одно время запрещали ездить в кирху. В Преображенском приказе до 30 человек сидел по «делу Монсихи» и рано или поздно давали показания о том, как Анна Монс злоупотребляла доверием царя. Это не единственный пример, когда частные интересы Пётр непринужденно распространял на государство ― считал их как бы государственными.
В 1717 году, как помер Ромодановский, пришлось думать о другой организации любимого детища гнезда Петрова, да и тесен стал патриархальный Преображенский приказ. В 1721 ―1726 годах политические дела рассматривались в Тайной канцелярии. После смерти «великого реформатора» дело чуть приглохло, и Тайную канцелярию разогнали. Анна Ивановна очень нуждалась в такого рода учреждении, и с 1731 по 1762–й существовала и работала Канцелярия тайных и розыскных дел
Занимались эти заведения все тем же самым. И с какой жуткой свирепостью и кровожадностью…
27 июня 1721 года в Петербурге праздновали двенадцатую годовщину победы под Полтавой. Некий мужичок, Максим Антонов, долго праздновал эту годовщину. Напраздновавшись, прорвался сквозь строй солдат и стал бить Петру поясные поклоны. Гвардейцы оттащили его, и Антонов заехал в ухо одному из оттаскивавших.
Антонова арестовали, пытали до ноября 1721–го, раздробив ему в тисках кости рук, и приговорили
«крестьянина Максима Антонова за то, что подходил к высокой особе Его Императорского Величества необычно, послать в Сибирь и быть ему там при работах государевых до его смерти неотлучно».
(Бушков А.А. Россия, которой не было. М., 1997. С. 373)
В Конотапе некий солдат предложил украинцу тост за здоровье «государя императора». Украинец ещё не знал, что Пётр принял титул императора, и ответил вполне верноподданно:
«Чёрт его знает, что это за император такой, я, кроме государя, и знать никого не хочу».
В кандалах отвезли в Петербург и, хотя виноват не был ни в чем, даже в самой малой малости, били батогами перед тем, как выпустить. За что?!
В числе жертв Тайной канцелярии некий монах не захотел кричать «многия лета» новой царице Екатерине; дьячок Троицкой церкви в Петербурге видел кикимору и кричал ставшее классическим: «Быть Петербургу пусту!»; швед в Петербурге предсказывал время жизни людей и, среди прочего, предсказал Петру всего 3 года жизни (кстати, предсказание сбылось, Пётр и правда помер через 3 года!).
Впрочем, примеры можно продолжать до бесконечности; все они, при колоссальном разнообразии деталей, окажутся до отвращения похожи друг на друга в главном. Общее число политических репрессированных за 36 (фактически ― 29) лет правления Петра составило более 60 тысяч человек. В этой толпе старообрядцев, стрельцов, просто неосторожных людей почти незаметны колдуны. А ведь Пётр сжег колдунов в десятки раз больше, чем его отец!
«…с каких побуждений, для каких целей инквизиторы вдавались в самые мелочные, совершенно ребяческие расследования. Расследования эти касались такого дела, которое людям мало–мальски толковым, а Пётр Андреевич Толстой и Андрей Иванович Ушаков были далеко не глупы, с первого же раза должны были представиться в настоящем своем ничтожестве. А между тем эти от природы умные люди… бьются и хлопочут, по–видимому, Бог знает из чего. Да, но это только по–видимому: все эти распоряжения, старательно исполняемые, клонились к одному: являть перед недоверчивым и подозрительным императором Петром как можно больше усердия и преданности его особе. Отличия, земли, крестьянские души были щедрыми воздаяниями за скромные и посильные труды верных холопей».
(Семевский М.М. Тайная служба Петра I. Минск, 1993. С. 284)
Что ж! Каков государь, таковы и холопи!
За 26 лет правления Алексея Михайловича репрессировали за «поносные слова» или за колдовство не более нескольких сотен человек. Его правление можно оценивать как угодно, но число репрессированных даже меньше, чем во многих германских княжествах, и, уж конечно, несравненно меньше, чем в современной ему Британии времен гражданской войны 1649 года. При нем политический сыск не был исключительно важной частью политической системы.
А при Петре ― несомненно был.
ЗАБОТЫ ПЕТРА О ПРОСВЕЩЕНИИ. РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯС просвещением при Петре та же история, что и с флотом. На первый взгляд, все верно, он создал целую систему доступных школ, целую сеть учебных заведений. В 1701 году заведена Навигацкая школа, а если полностью: Школа математических и навигацких наук. Располагалась она не где–нибудь, а в здании Сухаревой башни, и на верхнем этаже была самая настоящая обсерватория с телескопом. Руководили школой такие крупные ученые, как Л.Ф. Магницкий, автор первого московитского учебника по математике, и А.Д. Форварсон, выписанный из Шотландии.
Обучение велось «в три класса», два младшие из них ― математические, старший ― навигаторский. Правда, в каждом из классов сидели обычно по нескольку лет, и учились не три года, а чаще всего 7 или 8.
В 1703 году в Навигацкой школе училось 300 подростков, в 1711–м ― уже 500.
На базе Навигацкой школы, её кадров создавались новые специализированные школы ― Инженерная, Артиллерийская, Адмиралтейская. Учеников и выпускников Навигацкой школы ставили учителями в цифирные школы.
В 1715 году старшие Навигацкие классы переведены в Петербург, где на их основе сделана Академия морской гвардии (Морская академия). А младшие классы были закрыты только в 1752 году, при Елизавете.
В общем, идиллия, да и только, если бы не два обстоятельства.
1. Во все школы, созданные Петром, учеников определяли не по собственному желанию и не по желанию их родителей. В самом лучшем положении оказывались дети купцов или богатых, лично свободных посадских людей ― они–то могли выбирать учение и свободно выходить из него. А для детей дворян речь шла не о свободном выражении воли, нет! Речь шла о своего рода «учебной повинности», когда никакой воли у будущего ученика не было и в помине.
Учение было СЛУЖБОЙ. Жили ученики (даже москвичи) в казарме, а в классной комнате постоянно сидел солдат с палкой или пучком розог. Этот солдат вовсе не выполнял распоряжения учителей, а сам, по своему усмотрению, мог наказывать учеников.
2. Как это часто бывало с затеями Петра, работа школ не имела никакого экономического фундамента.
В 1711 году дошло до того, что ученики Навигацкой школы разбежались, чтобы не помереть от голода. Ловили их с солдатами, но поймали не всех; кое–кто потом «выплыл» ― в купцах, в рядах служилого люда, а кое–кто из сбежавших тогда, в 1711 году, так и пропал «безвестно». Невольно напрашивается нехорошая мысль ― или ребята погибли от голода (помяни, Господи…), или прибились к разбойникам (тоже погибли, только социально).
В 1714 году опять писались слезные челобитные, что ученики, пять месяцев не получая ни копейки,
«не только кафтаны проели, но и босиком ходят, просят милостыню у окон».
Генерал–адмиралу Апраксину, лицу, так сказать, кровно заинтересованному в Навигацкой школе, доносилось:
«Ежели школе быть, то потребны на содержание её деньги, а буде деньги давать не будут, то лучше распустить, понеже от нищенства и глада являются от школяров многие плутости».
В Академии морской гвардии ― в Морской академии (в Петербурге! Под самым что ни на есть государевым оком!)
«сорок два гвардейца не ходили на учение затем, что стали наги и босы».
Уже в 1724 году Пётр устроил личную ревизию академии ― приехал на занятия. Выяснилось, что 85 учеников уже 5 месяцев не ходят на занятия «за босотою и неимением дневного пропитания», многие и явившиеся одеты буквально в лохмотья, а некоторые пропали уже давно. Начальство и товарищи думали, что они ушли побираться…
Эти ушедшие побираться, кстати говоря, всерьез рисковали жизнью. Да, жизнью! Побег с учебной службы карался смертной казнью, а ПРОСЬБА об увольнении от этой службы ― каторжными работами. Тут имеет смысл напомнить, что речь идет о подростках, многие ― совсем дети, от 10 до 15 лет.
В каторжные работы ссылались и родители, которые вздумали бы просить об отчислении из школы своего ребенка.
Первые школы создавались еще на рубеже XVII и XVIII веков, но только указами от 20 и 28 февраля 1714 года все окончательно встало на круги своя: в Московии вводилась учебная служба для дворян с 10 до 15 лет. Недоросли должны были обучаться «цифири и геометрии», а «штраф будет такой, что не вольно будет жениться, пока сего не выучит». Велено было во всех губерниях в архиерейских домах и в монастырях завести школы, а учителями посылать туда учеников математических школ из Москвы, заведенных в 1703 году. На каждую губернию полагалось по два учителя из учеников математической школы.
Не будем говорить, что два учителя на губернию ― это само по себе нищенски мало. Но выполнить даже этот указ оказалось непросто: архиерейские школы до 1723 года были «определены» только в Новгороде, а цифирные школы сидели без учеников, кроме ярославской, где послано было в школу 26 человек из детей церковников. В остальных цифирных школах ― в Пскове, Новгороде, Москве и Вологде (всего их в 1723 году было 42) ― учителя сидели без дела и только проедали жалованье.
После смерти Петра цифирные школы, введенные в порядке учебной повинности, стали сливаться с архиерейскими, гарнизонными, горнозаводскими школами и постепенно исчезли.
Дворяне же считали цифирную школу страшным бременем и пытались от нее укрыться, елико возможно. Был случай, когда целая толпа дворян, не желая идти в цифирную школу, записалась в духовное Заиконоспасское училище. Характерна реакция царя: велел взять всех записавшихся в морскую школу в Петербурге и сразу по приезде заставил их бить сваи на Мойке.
Генерал–адмирал Апраксин выразил свой протест в своеобразной форме. Явился на Мойку, при виде царя снял адмиральский мундир с андреевской лентой и стал усердно вколачивать сваи вместе со всеми.
– Как, Фёдор Матвееевич, будучи генерал–адмиралом и кавалером, да сам вколачиваешь сваи?!
– Здесь, государь, бьют сваи все мои племянники да внучата, а я что за человек, какое имею в роде преимущество?!
Не думаю, что сопротивление цифирным школам было сопротивлением просвещению как таковому. Дворяне старались уклониться от казармы, где у дверей сидит солдат с палкой и где учатся насильно. Не любит человек насилия, что тут поделать…
Служебный характер дворянской науки очевиден из указа от 17 октября 1723 года, по которому держать недорослей в школах после 15 лет не велено,
«хотя б они и сами желали, дабы под именем той науки от смотров и определения в службу не укрывались».
По существу, это новый вид службы, но для детей.
Впрочем, служебный характер науки виден и из классических историй, послуживших сюжетом для «Табачно го капитана» и многих других произведений. Известен совершенно подлинный случай, когда Пётр по возвращении из–за границы разжаловал в рядовые матросы дворянина, который плохо учился во Франции, а его слугу возвел в дворянство, дал ему офицерский чин и отдал поместья дворянина его вчерашнему крепостному. Несомненно, это очень назидательная история, но из нее предельно четко следует, чем была всякая «наука» для Петра ― видом службы, за несение которой награждают, за не успехи в которой карают, как и во всякой другой службе.
Не менее оригинально и создание Академии наук. Во многих государствах возникали сообщества ученых, и не очень важно, назывались ли они громким словом «академия». В Британии возникло «Королевское научное общество», объединившее примерно 300 ученых джентльменов, а толку от этого общества было столько, что отчёты о его заседаниях до сих пор читаются как увлекательнейшие романы.
В XVII веке стали создаваться Академии наук и в других странах. Например, во Франции в 1648 году возникла Королевская академия живописи, в 1671 году ― Королевская архитектурная академия.
Но и в Британии, и во Франции, и в германских княже ствах все «академии» были добровольными общественными объединениями. Академии не были местом работы, нельзя было трудиться «при Академии наук». Ученый был самостоятельным обеспеченным джентльменом, у которого был свой капиталец и который жил на него, а занимался наукой просто потому, что ему это нравилось.
Или ученый был чиновником, врачом, учителем гимна зии, а лучше всего ― сотрудником университета. Вершиной карьеры ученого становилось звание профессора, а вовсе не академика. В академии принимали самых активных и одаренных ученых, членство в академиях было делом престижным и почетным, но денег не давало совершенно.
А вот в Российской империи было не так. Указ Петра от 28 января 1724 года создавал новое ВЕДОМСТВО, имеющее свой штат чиновников. Чиновником академии можно было стать, получив соответствующее образование и имея ученую степень… Но в Российской империи нигде нельзя было выучиться «на ученого» и тем более получить ученую степень. Весь российский опыт интеллектуальной жизни ― и Славяно–греко–российская академия, и книги ученых монахов, и Киево–Могилянская академия ― все это высочайше объявлялось ничего не стоящим мусором.
Раз в Российской империи не было ученых ― чиновников нового ведомства, их надлежало ввезти из стран Европы. Они и стали сотрудниками Академии наук, которая фактически открылась только в конце 1725 года, уже после смерти Петра. В числе приехавших в Россию иноземцев не так мало было прекрасных специалистов; как представитель ученого сословия, возникшего в России после Петра, я могу только сказать «спасибо» за материальную поддержку таких гигантов, как Л. Эйлер или Д. Бернулли. Но, конечно же, если радеть о самой русской науке, несравненно больший эффект сыграло бы открытие хотя бы одного университета. Вряд ли усилиями русских монахов и мирян можно было создать университет более чем с одним факультетом ― теологическим. Кто мешал создать такой университет (с одного факультета начинали и Болонья, и Сорбонна…), а потом постепенно вырастить другие факультеты, как это и было в Европе? Но Пётр выбрал другой путь.
Предполагалось, конечно, что иностранные ученые постепенно вырастят себе русскую смену. Для этого при академии создали университет и гимназию, и академия стала плохой копией, чуть ли не пародией на европейские учебные заведения.
Мало того что задача «готовить кадры» изначально понималась как второсортная и второстепенная. Иноземные мэтры, получив в России пенсион, были совершенно счастливы. Ну кто и когда еще оплачивал бы им не преподавание, не практически полезную деятельность, а саму научную работу?! Они и использовали на всю катушку такую прекрасную возможность! А в академической гимназии и университете тем временем царили такие же нравы, как и в Навигацкой школе. Разве что вот солдат с палкой исчез ― стал не нужен, потому что преемники Петра не хотели уже вбивать силой познания, а стали к наукам просто убийственно равнодушны.
Сохранилась потрясающая история про то, как Михайло Ломоносов вернулся из Германии и впервые вышел на работу в Академическую гимназию. В помпезном нетопленом зале на триста слушателей сидел один–единственный скрючившийся от холода гимназист. И великий ученый не стал читать лекцию. Он подозвал к себе оборванного мальчика и спросил его: «Сегодня ел?» Гимназист помотал головой, и тогда Михайло Васильевич повел его к себе обедать…
И для меня они навсегда останутся символом всего, что сделал Пётр для просвещения в России: и Ломоносов, вынужденный учиться в Германии ― ведь не было в России университетов, что поделать… И голодный мальчик, поджимающий озябшие ноги к бурчащему животу, ― посреди мраморного торжественного зала, украшенного античными бюстами.