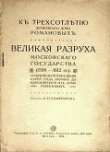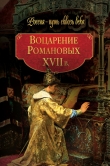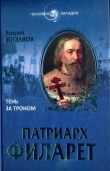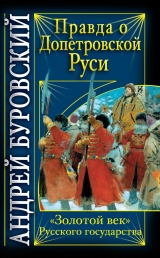
Текст книги "Правда о допетровской Руси. «Золотой век» Русского государства"
Автор книги: Андрей Буровский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
, Даже утро короля и королевы так же расписывалось по минутам: ровно в 12 часов пополудни человек, одетый в шелк и в бархат, возглашал собравшейся толпе придворных, что король «уже не почивает» (при этом не имело ни малейшего значения, что на самом деле делает король; придворные все равно к королю не лезли, продолжая общаться между собой). Известно было, сколько придворных и с какими титулами должны приносить королю утренний шоколад, и упаси Боже, если поднос с шоколадом нес не граф, а всего-навсего виконт! Так же хорошо все знали, кто из придворных, с каким придворным чином и с каким наследственным титулом должен передать другому, с титулом более высоким, каждую деталь королевского туалета, чтобы эта деталь – рубашка, шляпа или чулок – пропутешествовала по рукам нескольких человек и наконец была бы надета на короля. Считалось чудовищным безобразием и нарушением приличий, если нарушался ритуал.
Даже выносить ночной горшок короля должны были трое человек, одетые в бархат и вооруженные шпагами. Зачем им шпаги?! – воскликнете вы… Скажу откровенно, не знаю: ведь очень маловероятно, чтобы какие-то злоумышленники хотели отбить королевский горшок и скрыться с его содержимым в неизвестном направлении. Впрочем, в той же степени сомнительно, что помогать одеться королю обязательно должны были пятьдесят или шестьдесят людей. Скорее всего, не было необходимости больше чем в одном, от силы в двух камердинерах, и совершенно непонятно, обязательно ли они должны быть графами или герцогами.
Так же построены были и обеды, и приемы, и вообще вся жизнь французского королевского двора; этот ритуал считался исключительно важным для жизни Франции, нарушение его квалифицировалось как государственная измена, и нельзя отказать королям и их придворным в логике – ритуал символизировал могущество государства, общность королей и дворянства, нерушимость феодальной иерархии и много чего еще.
А самое главное – в XVII–XVIII веках в мире лидировала Франция: французские мелодии, французские моды и французские обычаи считались самыми совершенными и «передовыми», и вся Европа охотно обезьянничала у Франции. Версальский придворный ритуал копировали даже в Британии, традиционно настроенной антифранцузски, а уж тем более – при дворах немецких и итальянских князьков.
Почему нужно исключать такую возможность, что Алексей Михайлович, хотя и очень своеобразно, пытался обезьянничать с Версаля?
Но было тут прямое влияние или нет, а Алексей Михайлович охотно посвящал свою жизнь ритуалу. В этом смысле он – царь, который царствовал «со вкусом», которому нравилась торжественность царских выходов, нарочитая таинственность дьяков Тайного приказа, который получал удовольствие от самого процесса – быть царем.
Но если быть царем, всю жизнь играть роль царя, то почему обязательно роль царя злого, жестокого, которого все боятся? Гораздо приятнее играть роль царя справедливого и доброго; феодала, который будет вершить праведный суд, давать разумные законы, с которым рады будут общаться подданные и которому многие будут благодарны.
При монархии, тем более при неограниченной монархии, очень многое зависит от личных качеств царя. Я бы сказал, что личные качества царствующей особы даже гипертрофируются, усиливаются чрезвычайно – уже от того, что эта «особа» имеет особые, исключительные возможности культивировать эти самые качества.
Так вот, Алексей Михайлович как раз был царем, который вполне способен сыграть роль такого государя, каким ему, наверное, хотелось быть. Потому что если монарх не свободен от низких, примитивных страстей, то на них он, естественно, и потратит силы и время. А вот если страсти царя посложнее, потоньше, подуховнее, то ведь тогда и появляется возможность сделать что-то значительное, важное, интересное за годы правления.
Алексей Михайлович не был таким уж любителем так называемых «радостей жизни» – венчанным женам он сохранял верность, к вину был почти равнодушен, в еде очень умерен.
Соблюдал все посты, а в году было 200 постных дней! Четыре дня постной недели – вторник, четверг, субботу, воскресенье – ел один раз, и вся царская пища состояла из капусты, рыжиков и ягод. В понедельник, среду и пятницу царь не ел вообще ничего.
Из плотских радостей очень любил разве что охоту, но это как раз тот случай, для него малотипичный, когда страсть Алексея Михайловича оказалась гипертрофированной, крайней, и на нее он тратил много времени и сил. А так он любил жизнь, радовался жизни от души, но ничего в ней не выделял и не любил чрезмерно, до безумия. И вся жизнь царя подчинялась сложному, театрализованному обряду, даже его любимая соколиная охота.
А кроме того, Алексей Михайлович был хорошо образован. Во-первых, «он прошел полный курс древнерусского образования, или словесного учения». На шестом году начали его учить грамоте; патриарший дьяк по указу дедушки Филарета составил букварь, учил же мальчика дьяк одного из московских приказов. «Через год перешли от азбуки к чтению часовника, месяцев через пять к Псалтирю, еще через три принялись изучать Деяния апостолов, через полгода стали учить писать, на девятом году певчий дьяк, то есть регент дворцового хора, начали разучивать Охтой (Охтоих), нотную богослужебную книгу, от которой месяцев через восемь перешли к изучению „страшного пения“, т. е. церковных песнопений страстной Седьмицы, особенно трудных по своему напеву – и лет десяти царевич был готов – прошел весь курс древнерусского гимназического образования».
Но дядька царевича, боярин Борис Иванович Морозов, не ограничился этим: убежденный западник, он считал необходимым показать Алексею, что западные страны таят интереснейшие соблазны и что у Европы необходимо учиться. В какой-то степени это западничество было очень поверхностным: дядька одел царевича Алексея в немецкий кафтан, завел ему игрушечные латы, сделанные специально для Алексея немцем Петром Шальтом, и «потеху» – игрушечного коня немецкой работы, на котором можно было сидеть и «ездить». Кроме того, дядька ввел принцип наглядного обучения с помощью немецких «карт» – гравированных картинок, купленных за 3 алтына 4 деньги в овощном ряду.
Невелико оно, освоение европейской премудрости?
Но, во-первых, очень часто (и не только в истории России) многое начиналось именно с технических игрушек, с каких-то мелочей, заставляющих задавать простенькие вопросы: да почему же у нас самих так не получается?! И право же, не очень важно, что это за штука – винтовка, попавшая в руки новозеландскому вождю с потерпевшего крушения китобойца, или гравированные картинки, которые почему-то умеют делать немцы и не умеют делать русские.
И у отца Алексея, у Михаила Федоровича, были часы и оригинально сделанная игрушка: орган, музыка в котором соединялась с пением вмонтированных в него механических игрушек – соловья и кукушки. Царь очень любил смотреть на эти вещи, почти что играл ими, как мальчик. Но ведь и раздумывал о чем-то, и оценивал что-то, забавляясь с этими пол у игрушками. Наверное, часы и орган тоже сыграли свою роль в тех решениях, которые он принимал уже в очень важных делах.
А в доме Бориса Ивановича Алексей видел и картины, и зеркала, и книги, изданные в Германии и в Польше, и не мог не задумываться: почему на святой Руси всего этого нет, а у поганых латинцев есть?! Учитывая, что был Морозов исключительно умным человеком, не исключаю – это и было его целью.
А во-вторых, Борис Иванович последовательно приучал царевича читать, думать, интересоваться самыми различными предметами. Он вел с ним долгие беседы, обсуждал виденное, и показ всяких интересных «диковин» тоже оказывался важен для того, чтобы развить ум царственного ученика. Если это предположение верно, то план Бориса Ивановича удался на славу: он научил Алексея Михайловича учиться, сделал для него интересным окружающий мир, а на этом пути не бывает дороги назад.
Уже лет в 11–12 Алексей обладал небольшой библиотекой в 13 томов, в основном подарки отца, дедушки Филарета, дядьки, родственников. Кроме богослужебных книг, были там грамматика и космография, изданные в Западной Руси, в пределах Речи Посполитой.
Позже эта библиотека только пополнялась, и Алексей Михайлович довольно много читал и всю свою жизнь активно интересовался окружающим. Я уже упоминал, что с путешественниками, бывалыми людьми, царь вел многочасовые беседы, узнавая какие-то детали, совершенно ненужные для управления страной, но интересные в познавательном плане. Такие же беседы он мог вести и с образованными священниками, с «немецкими и персидскими людьми» или с культурными приказными, проникшими в секреты управления людьми и в житейские тайны.
Путешествовал Алексей Михайлович немного, в основном за счет того, что водил армии против Польши, но его записки о виденном и испытанном в походах показывают и незаурядный ум, и способность к тонким, интересным наблюдениям.
Если образование – это чтение, путешествие и общение с другими людьми, то царь использовал все три способа, и использовал всю жизнь, не останавливаясь.
Всю жизнь Алексей Михайлович много писал, и даже в его ругани, обрушенной на отца казначея, чувствуется не просто желание «явить гнев», а некоторая утонченность, усложненность, характерная для брани хорошо образованных людей. Ему нравилось описывать историю своих походов, и жаль, стройной истории походов не получилось, возможно, из-за отсутствия времени для серьезного литературного труда. Есть и предположение, что царь не захотел завершать описания неудачных походов, еще раз огорчаться из-за военных неудач.
Стихи Алексея Михайловича ужасны; это даже не стихи, а скорее стихоподобия… впрочем, приведем пример! Вот какие советы подает царь князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому:
Рабе Божий дерзай о имени Божий
И уповай всем сердцем подаст Бог победу
И любовьи совет великой имей с Брюховецким
А себя и людей Божиих и наших береги крепко.
От всяких обманов и льстивых дел и свой разум
Крепко в твердости держи и рассматривай
Ратные дела виеликою осторожностью
Чтоб писари Хзахарки с товарищи чего не учинили
Также как Юраско над боярином нашим
И воеводою над Васильем Шереметевым также и над боярином
Нашим и воеводою князь Иваном Хованским. Огинской князь
Учинил и имай крепко спасение и Аргусовы очи по всяк час
Беспрестанно в осторожности пребывай и смотри на все
Четыре страны и в сердце своем великое пред Богом
смирение и низость имей
А не возношение как нехто ваш брат говаривал не родился де такой
Промышленник кому бы ево одолеть с войском и Бог за
превозношение его совсем предал в плен
Стихи ли это вообще? Судите сами. Тогдашние нормы русского языка не позволяли даже того, что веком позже делал Тредиаковский. Первые стихи, которые мы с вами сочли бы стихами без оговорок, написали Сумароков и Ломоносов в середине XVIII века. Может быть, дело не в бесталанности царя, просто не пришло время писать по-русски лучшие стихи?
Больше всего проявил себя царь в письмах различным людям. Известно больше сотни его писем разным лицам, и в этих письмах трудно не заметить тонкого понимания ежедневных людских отношений, меткой оценки многих людей, простодушия, веселости, иронии, порой задушевной грусти.
В целом этого умного, доброго и справедливого человека трудно не уважать, при всей его несдержанности и вспыльчивости. При том, что его панический страх перед колдунами у современного человека вызывает улыбку, а истовая религиозность кажется несколько чрезмерной. Неудивительно, что историки весьма благоволят Алексею Михайловичу, и лишь одна, но «зато» самая основная черта его характера вызывает у них сложные чувства: его устойчивая склонность к гармонии, порядку, определенности.
«По природе своей, слишком мягкой, Алексей Михайлович не мог не уступить большого влияния окружающим его людям; он был вспыльчив, но не выдержлив. Излишняя доверчивость к людям недостойным, власть, им уступленная, протекали от слабости характера, а не от недостатка понимания людей. Так, например, он хорошо видел, кто такой был тесть его, Милославский, и в минуту вспышки не щадил его, но наложить на него опалу – значило огорчить самое близкое к себе существо, жену, которую он так любил, а это было уже выше сил царя Алексея. Так было и в отношении к другим лицам, тесно связанным между собою, крепко держащихся друг за друга: наложить опалу на одного – и столько явится вдруг недовольных, печальных лиц, а лица эти, по обычаю, с утра до вечера толпятся во дворце, избавиться от них нельзя… и Алексей Михайлович уступает», – так оценивает поведение Алексея Михайловича С. М. Соловьев.
Сергей Михайлович Соловьев почему-то ставит царю в вину то, что он не опалился на своего тестя… А что, были причины подвергать его опале? Царь отлично знал цену ничтожному тестю и последовательно не допускал его ни до каких серьезных дел, несмотря на прямые просьбы родственников и самой царицы. Если бы допустил – тогда, скорее всего, и правда пришлось бы казнить старое ничтожество или уж, по крайней мере, «опаляться» на него, выгонять, удалять от дворца. Алексей Михайлович ограничился тем, что надавал тестю пинков и прогнал его с заседания Думы; наверное, это тоже огорчило царицу, но, несомненно, было куда лучше казни жалкого, но любимого царицей папочки. Царица огорчалась неуважению мужа к отцу, но уступи ей царь, и ему пришлось бы огорчить жену несравненно больше.
И кроме того, царь должен был думать ведь не только о своей семье. Дай он войско, дай он серьезное поручение Милославскому, и страшно подумать, к каким последствиям это могло привести и для государственных дел, и для всех подчиненных Милославского!
Приходится признать, что царь проводит как раз железную линию, и государственную, и семейную. При несомненной любви к Марии Ильиничне он никак не оказывается в убогой роли подкаблучника, и при всей своей любви к гармонии не поддается на провокации окружения.
Еще круче высказывается Ключевский: Алексей Михайлович, «…очевидно, человек порядка, а не идеи и увлечения, готового расстроить порядок во имя идеи. Он готов был увлекаться всем хорошим, но ничем исключительно, чтобы ни в себе, ни вокруг не разрушить спокойного равновесия».
Владимир Осипович решительно заявляет, что готов считать Алексея Михайловича исключительно приятным человеком, «…но только не на престоле. Это был довольно пассивный характер… При нравственной чуткости царю Алексею недоставало нравственной энергии… он был малоспособен и мало расположен что-либо отстаивать и проводить, как и с чем-либо долго бороться… В царе Алексее не было ничего боевого; менее всего имел он охоты и способности двигать вперед, понукать и направлять людей» (10, С. 429–430).
И далее: «Он был не прочь срывать цветки иноземной культуры, но не хотел марать рук в черной работе ее посева на русской почве».
Мнения эти глубоко несправедливы, во-первых, потому, что при необходимости Алексей Михайлович умел быть и крут, и жесток. Во время польской войны он показал себя воеводой, бестрепетно подвергающим риску и себя, и всю армию. Когда это было нужно, он отлучал от своего двора, прогонял и наказывал людей.
Слова австрийского посла Мейерберга о том, что царь при беспредельной своей власти над народом, привыкшим к рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь, не совсем точны. Алексей Михайлович никогда не «посягал» на честь, имущество и жизнь невинных людей, это точно. Можно уверенно сказать, что при всей его вспыльчивости он не любил ни на что «посягать», и всякий раз, когда вставала такая необходимость, не испытывал удовольствия. Ему не нравилось гневаться, опаляться, ругать, казнить. Он хотел бы оставаться добрым монархом, несущим в себе гармонию, которого все любят и с которым всем хорошо.
Но он тем не менее очень даже «посягнул» на жизнь и имущество примерно двух десятков приказных людей и дворян, которые в годы его царствования были казнены за разного рода безобразия.
Патриарх Никон был удален от двора так же жестко и теми же средствами, какими действовал сам патриарх. Чтобы низложить патриарха, надо было пригласить в Москву вселенских патриархов: константинопольского, антиохийского, александрийского. Что и было сделано, а Никон расстрижен, и на соборе было приговорено, что «именоваться ему простым монахом Никоном, а не патриархом Московским…».
И уж конечно, царь очень даже «посягнул» на жизни Плещеева и Траханиотова, чтобы спасти Морозова, и проявил недюжинное коварство, чтобы убили не его любимца.
Во время восстания 1662 года, знаменитого «медного бунта», когда огромная толпа бунтовщиков приближалась к Коломенскому, царь спрятал тестя, Милославского, в покоях царицы, а сам вышел к толпе и одновременно послал за стрельцами. «Те люди говорили царю и держали его за платье, за пуговицы: „Чему де верить?“, и царь обещался им Богом и дал им на своем слове руку, и один человек и с тех людей с царем бил по рукам, и пошли к Москве все».
Нелишне вспомнить, что для московитов того времени царь был почти что живым Богом и, уж во всяком случае, чем-то вроде живой иконы. До чего же должны были дойти люди, чтобы хватать «почти божество» за грудки и бить с ним по рукам!
Отходя к Москве, по дороге толпа столкнулась с другими повстанцами, которые до того громили дворы бояр и дьяков; эти тоже хотели поговорить с царем, и в конце концов вся толпа повернула опять на Коломенское. Разговор возобновился и пошел на еще более повышенных тонах. «А пришед к царю на двор… почали у царя просить для убийства бояр, и царь отговаривался, что он для сыску того дела едет к Москве сам; и они учали царю говорить сердито и невежливо, з угрозами: „будет он добром им тех бояр не отдаст, и они у него учнут имать сами, по своему обычаю“».
Но тут подошли стрелецкие полки, и им велено было «тех людей бити и рубити до смерти». Безоружную толпу погнали, потеснили к берегу Москвы-реки, «и потопилося их в реке болши 100 человек, а пересечено и переловлено больши 7000 человек, а иные разбежались». По приказу царя повесили 150 самых «злых» бунтовщиков, многих били кнутом и, выжигая раскаленным железом букву «Б» на руке («бунтовщик»), ссылали на далекие окраины.
Что сказать об этом эпизоде? Алексей Михайлович совершил поступок человека хитрого, даже коварного; проявил себя гибким, равно способным и договариваться с восставшими, и бросать солдат на повстанцев. И уж во всяком случае, он, «оказывается», превосходнейшим образом в одночасье «посягнул» на жизнь по крайней мере 250 человек, а на имущество и честь 7000.
Причина приписывать ему «слабость» и недостаточно твердый характер, по существу, только одна: историки почему-то всерьез вообразили, что московской Руси в этот период необходим грозный, крутой, даже свирепый реформатор. По существу, не реформатор, а диктатор, поднимающий на дыбы страну и народ, убивающий множество людей, ломающий вековой уклад, оскверняющий святыни и так далее.
Очень понятно, и кто становится образцом такого «реформатора» – ну, конечно же, Петр I! На фоне его «славных» деяний любые поступки отца кажутся бледными, хотя по смыслу и по результатам они несравненно полезнее петровских.
Россию-Московию необходимо европеизировать – это историки императорского периода знали твердо. А поскольку Петр – образец того, кто руководит этим процессом, его реформы – образец того, «как надо», то любые действия другого монарха и другого правительства сравниваются с образцами, и по сравнению выносится заключение: столько-то процентов «того, что надо» и столько-то процентов «отступления» от «правильного» способа действовать, на столько-то процентов недотягивает монарх.
Конечно же, после Петра такой мягкий, добрый царь никак не годится в великие реформаторы, в преобразователи, во вздыбливатели. Вывод, который не в пользу не столько Алексею Михайловичу, сколько самим историкам. У них получается, что хороший, приличный человек в великие люди никак не годится именно потому, что он добр, мягок и умен. Разве такие великие бывают?!
Действительно, Алексей Михайлович совершал жесткие и жестокие поступки не по душевной склонности, а только по государственной необходимости. А от совершаемых по необходимости кровопролитий не испытывал удовольствия и не любовался тем, что по его приказу делалось: не ходил в застенки, не был зрителем отрубания голов и массового развешивания людей на виселицах.
Во время войн, кстати, бывал он в таком кровяном месиве, что нелюбовь царя к зрелищам страданий и смерти никак не объясняется слабостью духа или страхом перед видом крови. Но страдания и смерть и зрелище страданий и смерти ему не нравились, это совершенно определенно. Петру I, скорее всего, нравились, быть может, не из садистских соображений, а просто от желания почувствовать свою власть, свою царственную силу. Царь Алексей гораздо сильнее чувствовал себя царем во время торжественного выхода и когда он кормил, миловал и ободрял.
Алексей Михайлович никогда не преследовал тех, кто «крутил ему пуговицы», или посадского, который бил с ним по рукам. Тем более тех, у кого он выпрашивал жизнь Морозова, кланяясь и плача на площади. При всем горделивом чувстве ответственности за врученную ему Богом страну он вовсе не считал для себя зазорным говорить со своим народом, кланяться ему или договариваться с ним. Ни у самого Алексея Михайловича, ни у его окружения, включая самую что ни на есть спесивую придворную аристократию, не было идеологии отделения себя от остального народа и не было идеи «прогресса». Была не «народная масса», которую еще предстоит превратить в «нормальных людей», а был народ, к которому принадлежали и бояре, и сам царь.
Царь возглавлял народ и просто обязан был расправиться с тем, кто посягает на его власть, но ведь и саму власть он получал от народа, через волю Земского собора. «Земля» посадила династию царя на престол, и это делало царя чем-то вроде наследственного и пожизненного президента. Перед «землей» он отвечал за свои действия, и ни у кого не возникало сомнения в теснейшей связи царя и народа. Почему же царь должен был считать оскорбительным для своего достоинства беседовать, делиться своими бедами или просить о чем-то у народа или его представителей?
Эта позиция, конечно же, есть отступление от позиции земного божества, занимаемой и активно пропагандируемой Иваном IV, но она очень похожа на ту, что свойственна королям Европы (включая Польшу), императорам Китая и микадо Японии. Та позиция, которая заставила включить в конституцию Японии статью, согласно которой «император является символом нации», а в странах Европы привела в исторической перспективе к законодательному ограничению власти монархов. Отмечу, что Алексей Михайлович самим отношением к своей власти сделал шаг в сторону Европы, и гораздо более значительный, чем это кажется на первый взгляд.
Интересное все же явление – господство стереотипов над сознанием вроде бы очень неглупых людей! Историки всерьез считают, что если Алексей Михайлович не похож на своего страшного сына, то и европеизировать Московию не ему. А он, по существу, все годы своего правления только и делал, что ее европеизировал, хотя очень часто и не своими руками.
Один неглупый человек, Отто Бисмарк, высказался как-то в том духе, что одна из привилегий монарха – не быть выдающимся человеком: монарху достаточно уметь привлекать к совместной работе выдающихся людей… В конкретных условиях Московии XVII века это можно перевести так: царю необязательно самому быть западником. Вполне достаточно окружить себя западниками, и дело само пойдет в нужную сторону.
А царь Алексей Михайлович окружал себя западниками, что тут поделать!
Борис Иванович Морозов был только первым из русских западников, с которыми сталкивался царь в своей жизни (если не считать его собственного отца). В XVII столетии многие русские аристократы вешали в домах картины и зеркала, покупали часы и «хитрую механику», читали книги на иностранных языках и составляли библиотеки. Долгорукие и Голицыны среди аристократических домов только лидировали в этом показном, немного поверхностном западничестве, и царь всю свою жизнь наблюдал это западничество и был в нем воспитан.
Но в том то и дело, что ближайшими соратниками царя стали вовсе не знатнейшие князья и бояре! Круг самых его близких подчиненных за тридцать один год правления составили люди из самых средних слоев служилого сословия.
Впрочем, о нескольких из этих людей необходимо рассказать особо.
Борис Иванович МОРОЗОВ (1590–1661)
Дядька Алексея Михайловича до 1648 года руководил приказом Большой казны, Стрелецким, Аптекарским, Новой Четью. Он был настолько убежденным западником, что, когда царь женился на Милославской, а Морозов стал царским свояком, боярство охватил нешуточный страх: а что, если вот прямо сейчас начнутся крутые перемены в жизни?! Например, что при дворе будут приняты новые, иностранные обычаи? Страхи не оправдались: Алексей Михайлович был слишком умен, чтобы устраивать совершенно ненужную бучу из-за формы кафтанов или ношения бород.
Трудно сказать, продолжал ли он и после 1648 года поддерживать отношения с Морозовым только из-за сентиментальных воспоминаний или все-таки Морозов и правда умел дать вовремя нужный совет? Во всяком случае, он хоть и был в тени, но оставался человеком очень влиятельным и старался приобрести как можно более широкую популярность; про него ходила слава, что он помогает всем, кто к нему обращается.
Помогать Борису Ивановичу было не очень сложно: этот богатейший человек владел 55 тысячами крестьянских дворов, железоделательными, кирпичными, поташными заводами, мельницами и винокурнями. Его хозяйство – пример сочетания феодального землевладения с торгово-промышленной деятельностью, а он сам – очень характерный пример «западника», самого первого из поколений русских «западников», своими глазами видевших Смутное время и сделавших совершенно определенные выводы.
Федор Михайлович РТИЩЕВ (1625–1673)
Постельничий царя, всего четырьмя годами его старше, Ртищев вырос вместе с Алексеем и стал воспитателем старшего царевича, Алексея, который должен был наследовать престол, но умер. Очень характерно для Ртищева, что он отказался от чина боярина, который ему давал Алексей Михайлович за воспитание сына.
В Федоре Михайловиче поражало совершеннейшее отсутствие честолюбия. Этот человек совершенно искренно не понимал обиды и мести, злобы и ненависти, говорил правду без обиды, никому не колол глаза личным превосходством, совершенно был чужд родословного и чиновничьего тщеславия. Смиренномудрым называли его священники; «евангельский человек», – говорили миряне.
«Соединение таких свойств производило впечатление редкого благоразумия и нравственной твердости». По словам австрийского посла Мейерберга, Ртищев, не имея еще и 40 лет от роду, благоразумием превосходил многих стариков. Ордин-Нащокин считал Ртищева самым нравственно крепким человеком из всех придворных царя Алексея Михайловича.
Даже казаки за правдивость и обходительность желали иметь его «князем малоросским», то есть царским наместником.
Для жизни этого человека характерна такая история. Некий Иван Озеров, которого Ртищев облагодетельствовал – дал выучиться в Киевской академии, стал потом страшным врагом Ртищева. Ртищев был его начальником, но пользоваться своей властью не хотел и кротко приходил к Ивану, тихо стучал в его дверь, получал отказ и уходил. Доведенный до приступа ярости такой досадливой и навязчивой кротостью, Иван впускал Федора Михайловича, орал на него, бранился и выгонял. Ртищев молча уходил, ни разу не ответив на брань и обвинения, и опять приходил с дружелюбными словами привета, как будто ничего раньше и не было. Так продолжалось до самой смерти Ивана Озерова, которого Ртищев и похоронил как лучшего друга.
Федор Михайлович всю свою жизнь оставался одним из самых влиятельных людей… в смысле в числе тех, кто мог оказывать на царя наибольшее влияние. Причем «своим влиянием царского любимца Ртищев пользовался, чтобы быть миротворцем при, дворе, устранять вражды и столкновения, сдерживать сильных и заносчивых или неуступчивых людей вроде боярина Морозова, протопопа Аввакума или самого Никона».
Миролюбивый и доброжелательный, он не выносил вражды и злобы и ухитрялся ладить абсолютно со всеми, самыми противоположными по характеру людьми – Ордин-Нащокиным, С. Полоцким, Аввакумом, Хованским. В своей наивности доброго человека он старался изо всех сил удержать староверов и никонианцев в рамках богословских споров, не допустить раскола; именно в его доме шли прения Аввакума с Симоном Полоцким, когда Аввакум бранился буквально до изнеможения, до рвоты.
Помимо собственно дворцового управления Ртищев участвовал в самых разнообразных мероприятиях, управлял приказами, в 1655 году исполнил дипломатическое поручение. Чуть где появлялась возможность что-то улучшить, исправить, усовершенствовать, Ртищев всегда был тут как тут! Сочувствие, ходатайство, совет шел навстречу всякой обновительной потребности.
По некоторым данным, сама идея медных денег подсказана именно им, но что характерно – никто из восставших не связывал эту ненавистную идею с именем Ртищева! Как всегда, Федор Михайлович подсказал, помог организовать и тихо отошел в сторонку.
В Москве Ртищев велел собирать по улицам валяющихся пьяниц и больных и содержать в особом приюте до их вытрезвления или излечения. Для неизлечимо больных, престарелых и убогих содержал на свой счет богадельню. Интересно, что эта идея богаделен и бесплатных больниц не умерла вместе с ним, а использовалась и расширялась при Федоре Алексеевиче и при Софье. Только при Петре начинание было совершенно похерено.
Ртищев помогал иностранным пленникам, жившим в России, узникам, сидевшим в тюрьме за долги, тратил большие деньги на выкуп русских пленных у татар.
Жителям Арзамаса он подарил свою пригородную землю, которую горожане хотели, но не могли купить, хотя у Ртищева был частный покупатель, предлагавший 14 тысяч рублей.
В 1671 году, прослышав о голоде в Вологде, Ртишев отправил туда обоз с хлебом.
Перед смертью Федор Михайлович отпустил на волю всех своих дворовых людей, а дочери и зятю завещал за помин его души обращаться с крестьянами как можно лучше, потому что они «нам суть братья».
Трудно сказать, как относились служилые люди к рассуждениям Ртищева о крестьянах, но моральный авторитет его был громаден. И можно представить себе, как важно было для всего преобразовательного движения, для авторитета самой идеи европеизации Московии иметь на своей стороне Ртищева! А этот человек, имевший огромный духовный авторитет, всей душой находился на стороне преобразовательного движения.