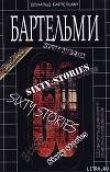Текст книги "Стеклянная гора"
Автор книги: Андрей Плигузов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Андрей Плигузов.
Стеклянная гора
От автора
Когда писались эти стихи, я был другим человеком. Я начал 14-ти лет и закончил, когда мне было чуть за тридцать. Я родился в Сибири, в Новосибирске. До самого окончания школы я размышлял, что делать дальше. Поскольку я учился хорошо (благодаря моим добрым и неординарным учителям – назову Александра Александровича Пугачева, Майю Иосифовну Буда, Любовь Сергеевну Пестрикову) и получил золотую медаль, я довольно легко поступил в Новосибирский университет в 1974 году. Я выбрал специальность, которая была запредельно узка, особенно для Сибири. Я решил заниматься русской церковной историей ХIV-ХVI веков. Тогда моей работой руководил профессор (ныне академик РАН) Николай Николаевич Покровский.
Продолжая учиться в университете, я со второго курса пошел работать на областную студию телевидения. При этом каждую возможную минуту я посвящал занятиям историей, и разговаривал о ней с выдающимся профессионалом – профессором Александром Александровичем Зиминым. После окончания я поступил на работу редактором областной студии, что позволило мне объехать почти всю страну. У меня появились друзья во многих городах. Неожиданно умер Зимин. Ему было всего шестьдесят. В это время я писал стихи и сочинял литературные анекдоты. Параллельно продолжал работать с детьми, т. е. с теми детьми, которые приезжали в пионерский лагерь "Гренада", и с теми, что жили в детском доме недалеко от студии телевидения. Представляете, какое смешение увлечений и эанятий? Порой я спал по три часа. Это не могло продолжаться вечно.
Я не оставлял своих исторических занятий. Но и продолжал тайно писать стихи. И, спустя четыре года, благодаря огромной поддержке со стороны другого выдающегося историка – профессора, а впоследствии члена-корреспондента РАН Виктора Ивановича Буганова я поступил в аспирантуру Института Истории СССР АН СССР. Закончил ее. Защитился. Попал на работу в Институт культуры Российской Федерации, который в те годы был плацдармом для новых идей. Затем, через полтора года, меня приняли в Институт истории, в сектор дооктябрьского источниковедения, которым заведовал Буганов. Между тем, в обществе все бурлило – к нам с лекцией приходил Сергей Никитич Хрущев, и я начал заниматься деловыми играми под руководством прекрасного человека – Ирины Жежко, что вскоре привело меня в Советский Фонд культуры и в общественное движение "Возрождение" при Союзе кинематографистов СССР. Там я встретил философа Олега Игоревича Генисаретского и познакомился с блестящими филилогами: академиками Никитой Ильичом Толстым и Александром Михайловичем Панченко. Я продолжал работать по своей специальности в Институте истории. Через некоторое время я уехал и теперь живу вот уже 12 лет за границей.
В моей долгой жизни в Америке решающую роль сыграл профессор Гарвардского университета, академик Украинской АН Омелян Прицак. Он просто насильно вытащил меня в Америку, и я попал в Украинский институт Гарвардского университета. И ближе познакомился с профессором Эдвардом Л. Кинаном. Теперь мне сорок шесть лет, и, отправляя первую поэтическую книжку в печать, я думаю, что она останется моей единственной. Однако я все же хочу увидеть свои стихи напечатанными. Пусть эта книга будет данью уважения к памяти тех, кто уже покинул нас. И знаком любви к моим близким: маме, Анне Васильевне Плигузовой, моим друзьям, всем, с кем сводила меня судьба.
Андрей Плигузов
Вашингтон, 2003
СТЕКЛЯННАЯ ГОРА (1983-1993)
«... Равно участвовали
в одних и тех же благах и опасностях,
когда отцы уже воспевали хвалы...»
Премудр. 18,9
Большой Демидовский, 17
Ф.К.
Ворона на площадке смотровой,
венчающей кирпичный купол ЦАГИ,
закинув клюв, пощипывает воздух,
как корку хлеба. Сытный запах теста
идет от небосвода. За окном
стоят двустворчатые ширмы стройки,
и что за ними, трудно разглядеть.
Должно быть, кирха. И купец ведет
семейство в церковь. Верю в совпаденья,
в лото, где время расставляет взятки
и наше дело – брать.
Здесь долго
нудил поэт, сбежавший от жены,
да все не впрок – фамилию забыли.
Куда девались ложки для причастья
и теплое воскресное вино,
которое цедили понемногу,
Христу кололи палец в алтаре
над чашей, и вступали в разговоры
с народом. Вот и встретимся за гробом
и там продолжим. Вечный друг, читатель,
будь терпелив, покуда на уме – любовь,
душа, да детские простуды.
К вороне Бог всегда благоволил,
а нас так впроголодь держал,
но мы с тобой не пропадем:
кто сам себе судья, тому судьи
не нужно.
6 декабря 1983
***
Смеркается,
и Вячеслав Иванов пускает ласточек
за ворот Мандельштаму. И птичий
гомон натекает в чашку
и нужно выпить. Это – день рожденья.
И мальчики выходят, как невесты. Ждут.
Наш язык настоен на крови.
Не в лад, не в рифму
говорит эпоха. Мелодия прогнила, воскресенье
ее изгрызло тщательно, как червь. Смеркается.
Не различаем правды. И ты меня
приходишь обнимать, развешивая
платья, как хозяйка.
Глотаем слезы. Смотрим из могилы.
Еще идут. И с книгами в руках.
Им, новым, барабана не хватило.
Даем взаймы и плачем, плачем, плачем.
26 декабря 1983
***
Тела текут, как чиста я вода —
субстанцией, вот почему руками
не удержать прекрасного. Ни сила,
ни обладание любого вида, ни
бесстыдный свет
не помогают. Пустоту обнимешь
и будешь с нею спать. А все тела,
которые тебе принадлежат,
текут поверх голов, как облака,
из Греции в другую неизвестность,
и белые лодыжки и запястья
уходят в вечность. Потерпи.
Недолго ждать, и ты пройдешь по небу.
31 декабря 1983
Золотой и зеленый
Ты растешь,
и два цвета тебя поджидают -
оба холодны, и были всегда:
рыжий мальчик в зеленой рубашке
и дева лесная,
и узкий, как зрачок на свету,
лаз на старый чердак,
где тайны, где целуют
и можно трогать сквозь одежду
и страшно. Вот когда понимаешь,
что значат ключицы, и челку
поднимаешь ладонью,
и слышишь, как холодное солнце
ходит в крови. Золотой и зеленый,
обнявшись, наполняются светом,
рыжим, лисьим, осенним,
в подпалинах желтой травы.
4 января 1984
***
Середина зимы,
А все еще поздняя осень,
Все срисовано как под копирку -
Лужи, крылья вороньи и темные крыши.
Начинается год с недомолвок,
С тонкой сети
Свободных от снега ветвей.
В эту сеть мы попали,
И пространства сомкнулись над нами.
Если спать и обняться,
То все это станет неважно,
Но когда ты один,
И оконные стекла залиты дождем,
И январь на исходе -
Есть о чем горевать:
О несбывшейся жизни, о снеге,
Ушедшем под землю.
Январь 1984
***
Вот он сядет, и потекут
в малый настольный свет
настырные капли секунд,
настоянные на Москве.
И напишет наискосок
что узнал на своем веку,
но волосы за висок
между пальцев текут,
и новая их волна
все захлестнуть должна:
и память, взятую в долг,
и ширмы китайской шелк
с драконом и подвесным
крылом воздушной страны,
в которой поет соловей.
А в зимней больничной Москве
тебе уже места нет,
и я погружаюсь в свет,
И волосы за висок
уносят легкую речь
запретных твоих высот.
Ты помнишь, как в январе
кровь ленилась бежать
весь кровеносный круг?
И не вьшускала ножа
страна из холодных рук,
И плыли волны музык
и ты по привычке пел?
Не будет больше слезы,
а будет вечный припев,
лицо – и его в строку,
и волосы за висок
между пальцев текут,
и новая их волна
все захлестнуть должна.
31 января 1984
***
Спать в монашестве, в девстве,
в чистоту заворачиваться, как в газету,
как подарок лежать на виду
и проситься на руки. Немногого стоит
детство без кислого молока
и религии, пахнущей сыром.
А составьте католические ладоши
возле кончика носа, и в лодочке этой
плывите. Представьте: на веслах
сидят королевичи, у них пальцы
в чернилах и коленки в заплатках.
Мы безгрешны, пока эти лодки
несут к нам любимых, и смерти
непричастны, потому что и слово
живет в чистоте и тленья не знает.
Мы как отроки входим
в свое отраженье в воде.
9 февраля 1984
***
Никогда не пиши под диктовку,
Как бы ни был заманчив диктант,
Что бы немец ученый Востоку
Ни сулил за природный талант,
Как бы турки ни скалили зубы,
Чьи бы флаги тебя ни секли,
Обирай венценосную убыль
Виноградников нищей земли,
Подбирайся, сужайся, как скулы,
Край воронки нащупай ногой,
Никому не прощают прогула
Этот звук, да посмертный огонь.
И уносят кремлевские горки
Детвору лет на сорок назад,
И несутся пятерки, четверки
Всех, кто слышит, в охапки вязать.
10-17 февраля 1984
***
Все ничего, пока детей рожает
И корень месит в ступе мой народ,
Клубится, темнотою угрожает
И бражную цикуту подает
Не письменам, а только временам,
За их различье я бы поручился,
Так детские скользящие ключицы
Мечтают повторить оригинал,
Не достигая. Взмах руки недолог,
А слово вечно. И цветет внаем
Ночная белена. Британский солод,
Переводной, до сердца достает.
21 февраля 1984
***
Кого попробует время
На черный зубок прицела?
Кто выслужится в могиле,
А кто успеет до смерти
истлеть
под знаменами Йорка
с воскресной бумажной розой,
в которой хлюпает воздух.
Прислушиваемся, как больные,
точим глаза о камни
ночного Иерусалима.
Захария говорит:
Это небесный серп
ищет новую жатву.
Какая печаль сторожит
запрокинутые молоточки,
грызущие медь?...
8 марта 1984, Болшево
***
Р.
В этой комнате девочка
меряла платья, но, как ни старалась,
все равно, столько женщин
воспитывает сыновей без отца,
и она. Спим, и сын и любовник,
а уроки не выучены. Откуда
у детей это знание,
предчувствие грехопаденья,
на носочках входящее в дом?
Тень разбросит косички,
длинным пальцем китайскую вазу
обведет на окне. Вот и радость,
и славно. Спите, малые дети,
обнимайте подушки во сне.
10-13 марта 1984
***
Поссоримся, а вдруг начнется лето.
Поднимутся стрекозы и стрижи,
все те, кто поедает небеса
и движется отрядами, как войско,
как малые народы на врага.
Забуду о тебе, и понесут
заборами заузданные ветви
туда, где дом сочится желтизной.
Все, что увижу, пальцем обведу,
чтоб не росло, чтоб не смотрелось
в реку.
Иду, несу в руке щекотный зуд,
и ты несешь кузнечика в подоле,
и мы встречаемся.
Крестьяне в новых шляпах
подталкивают нас со всех сторон:
ну, обнимитесь, будьте как деревья.
16 марта 1984
***
Россия – панночка из гоголевской сказки,
А Киев – Вий, об этом мы читали.
Здесь по песку ступала Навзикая,
И акварель лилась, и на металле
Чеканили хвостатых горностаев,
Запрыгнувших в дворянские гербы.
Высокие над ней склонялись лбы,
И ночи напролет вели беседы
Немецкие ее профессора,
И Бог глядел, как смотрят на парад,
Как смотрят за окошко краеведы –
На дым, на муху в праздничном борще.
Россия помышляла о мече,
Чтоб из него потом ковать орала.
А те, которые не имут срама,
И потому сегодня ни гу-гу,
Стояли тесно в меловом кругу.
Бурсак читал, а панночка вела
Красноармейцев в сельскую часовню.
Вольно же ей свою родню и ровню
Поднять из-за бедняцкого стола!
19 марта 1984
***
Своего ни словечка не помнят
пустынные реки Москвы
и покорно текут
военным строителям в лапы,
и в каждую реку
неба зачем-то подлили.
Круг земной замыкаем
и поем под сурдинку
тот же самый мотив,
будто городу оспу привили.
И сейчас сговорились,
что губы – на замок.
Сколько можно молчать!
Детский дом, обрывая заборы,
уносит пионерские трубы,
а хищные боги,
которые нас обирают,
остаются.
24 марта 1984
***
Весна созревает внутри,
а потом будет день – и откроют,
и почки выводят на свет,
как подростков прыщавые лбы.
и птиц посылают напиться
из Яузы, заплетают косицы
посольским флажкам и подносят
стакан полоумному деду из тира.
Все посуху ходят,
и воздух горит, как будто
зеленкой прижгли, и дуют, и дуют,
а дети летят,
кувыркаясь и сон подгоняя,
и светятся белым,
и толпы стоят у заставы,
и едет Христос на осляти.
18 апреля 1984
***
Конаковскую ГРЭС третьи сутки
заливает холодным дождем,
и три девочки из Башкирии,
увлекающиеся рисунками
Леонардо, на практике, мокнут,
мечтают поехать в Москву.
Я хотел бы их снова
повстречать в электричке
и слушать с соседским терпеньем
интонации: ниже и ниже, и пауза –
и самая верхняя нота.
Вдруг они прочитают? Что скажут?
А теперь я пишу – и ухаживаю,
пишу и ревную, бестолково
подбиваю леса и дожди,
разбегающиеся от Москвы,
обнимающие Конаково.
9 июня 1984
***
Солнце слепит глаза, у старого моста
Отступает полынь, серый кирпич наступает,
Муравьиные тропки скручиваются как бумага
На огне. Сухо. Песок и стекла.
Косит штриховка стены, а окна ввалились.
Дом нежилой. В подвале – склад,
наверху – контора.
Птицы еще прилетают, но в чужие гнезда,
Граффити стерлись, мел и уголь сравнялись
в цвете.
Вот она, метка на память, процарапанный крестик:
Детям выносят по четвертинке белого хлеба.
Это Карибский кризис. Мы танцуем матросский танец.
В клубе, в правой кулисе, огромный портрет Хрущева.
Во сне я плакал, а утром – праздник речного флота,
Трубы, цветные косицы сигнальных флагов,
Крепдешин и сукно, намагниченные в складках,
Рукавами разводят, солнце слепит глаза.
июль 1984
***
Июль на каменный оперся парапет,
бьют каблуки солдатики, студенты,
и улицы в дожде блестят, просвечивают,
как реки. А зрелость ищет
юности, и гибкости, и ветрености.
Сестра моя сидит, ждет жениха.
А малый фитилек отцовской плоти,
который только мне и по глазам,
в ней занимается. Какая быстрина
внутри! – и понесет.
Обыкновенно стыд спасает душу
и ласка старших. А какая тайна
открыта младшим – лучше и не знать.
Не спрашивай, побереги себя.
15 июля 1984
***
Босоногие пляжи,
Литва, по лодыжки
стоящая в пене.
Белесое море восходит
над нею, как небо,
и шепчет на память
кошачью латынь Ширвидаса,
на глазах прибывая.
У мальчика плавки порвались,
он ходит в рубашке.
А девочка не причесана
и движется вместе с морем
навстречу.
Я третий,
но я понимаю русалочьи речи
влюбленных подростков
и в варварский темный язык
смотрю как Набоков.
5 августа 1984, Паланга
***
Ну, еще потерпи
и усни. И река разведет берега.
И соседские девочки,
подавая нам пить,
на крестьянских качнутся ногах.
Мы – небесное приращение
скудных российских богатств,
земляки. С нами водятся
хищные боги и нас обирают.
Недалеко от рая,
где Ева лепешки пекла,
нам двоим постелили.
Это можно на скрипке сыграть:
просветление и невинность,
и еще одна тема, прямо
к Господу Богу на праздник.
А она не дается и дразнит,
и новую жажду
никакая любовь
не умеет уже утолить.
И рассеянно детской рукой,
стебельками цыганского мыла,
легкой слюнкой молочной
пишут на спящей воде
и черпают чашкой
то, что после у нас на губах
отливает речным серебром.
8 августа 1984, Паланга
***
Вставай пораньше – и уже назад
не хочется. Ну, скажем, в полшестого.
И в загородно-вогнутый пейзаж
впорхнет неловкий самолет почтовый
и унесет тебя куда-нибудь,
по небу пробежится – и отпустит,
и снова можно жить, а ту судьбу
забыть, забыть, или с чужою спутать.
Писать стихи или учить детей
чему-нибудь хорошему – футболу,
ходить по пустырям, на пустоте
сбивать подошвы, дорожить собою,
иметь приятеля, а лучше сразу двух,
в кино поплакать, в темном вестибюле
вдруг отразиться – и захватит дух
похожестью. И маленький грязнуля
попросит три копейки на сироп.
И подвернется прежний провожатый,
какой-нибудь бетховенский сурок,
и запоет, не попадая в ноты.
22 августа 1984
***
Машинка стучит.
И в яркий кружок фонаря
не пускает зеваку.
Нагар от свечи
на позеленевших щипцах
и овальная рама в простенке -
пустая. А как одинаково
подводят глаза. А как перехватывает
дыханье, и после машинка стучит,
а соседка по даче не слышит.
И тыща причин
тосковать опустевшему деревцу вишни.
И легче забыться в воскресном
очищающем вкусе вина.
А вишня томится, клонится,
как будто не с этой землею сроднилась,
как будто с японского переведена.
9 сентября 1984
***
Г.Б.
Свет в головах стоит, не рассмотреть,
какую плоть душа облюбовала
во сне, и нужно выходить
все в том же теле, с тем же провожатым.
Они хотят, чтоб мы с тобой гуляли,
беседуя (опять литература,
и пара анекдотов о великих,
и тот же Ад). Но мы под эти своды
сошли неглубоко, и там видали
советских мертвецов при орденах,
и поклонились им. День,
если воскресенье, так тягуч,
и первый круг не страшен. Я открою
на той странице, где тебя
убили, и спокойно прочитаю.
Но вертится кошачий телескоп,
и спичкой чиркают, и барственный Менухин
роняет канифоль из-под смычка,
и тень томится, ожидая новых
попутчиков, и стережет у двери
август-сентябрь 1984
***
И я бы мог, как шут
Пушкин
Гостиница «Лондон»,
У лавки зеленной
Окно полустерто, а там
декабрист с полустертым лицом,
Рылеев какой-нибудь,
смотрит в стекло подороже
и мрачно парит над Россией.
Солдат отставной,
чухонцы идут за капустой
и поп – вот его бы и клюнуть
с налету. И шепчутся
наискосок от Сената
остроносые тени, и метят,
покуда язык не распухнет,
в масонский учебник.
И Пушкин огрызком пера
прицелившись, ткнет наугад,
и запоздалая дрожь
бежит по веревочным плечикам кукол,
и вот уже все замирают
в искусственных позах.
25 октября 1984
***
Н.З.
Если о мертвецах – молчок,
то не сходится устный счет
тех, кого упрямо люблю
с тем, что в Лену несет Вилюй.
И уже известен предел –
бороде не вечно седеть,
и подсказки плести волнам.
В кровь сдирает русло Синай,
и вода опять солона,
чисто с перьев течет луна,
через голову кувырок
отпускает птица-нырок.
Поклониться ей не впервой,
что ей птичьей трясти головой,
если все – как с гуся вода.
Силой пробуйте, а сам не дам.
Ни словечка – а там тишина,
и просторная катит волна,
и на камне сидит человек,
и выходят дочери рек
и поют, обступая его.
И корабль несет на боках
наливные капли смолы,
и какой-то бывший рифмач
обещает нас подвезти,
мертво скалится у руля.
24 ноября 1984
***
Середина ночи, улица клонит к порту,
дети приехали, пригород смотрит в ноги,
и за окном
всё глубже – огни, огоньки. На покатом полу
мы расходимся, как матросы,
прижимаясь к стене.
А на ржавую крышу звезда прилетает,
как всегда прилетала. И люки скрипят,
и дворовые снасти пузырятся.
Моем руки, стоим над порогом и медлим,
будто снимся друг другу. И ночные
кораблики поворачиваются, и волосы
путаются, и забытая песенка просится
ночевать.
12 декабря 1984, Новосибирск
***
Е.А.
Вон, старуха летит,
поправляя рукой потолки,
и дудит в распаявшийся чайник:
Ту-ту-ту! Домовой оседлал карандаш
и по воздуху лупит копытцем
и пишет: Ту-ту-ту! Дверь с петель!
В коридоре иностранные книжные духи,
из бывших, тихо шепчутся,
Ту-ту-ту! – говорят, – что,
дождался? До полночи какая-то мразь
над Шекспиром сидела,
заместо милиции,
сторожила великую литературу
и теперь: Ту-ту-ту! Ни души,
ни словечка. У домашних божков
деревянные губы в крови. "Говорит
радиостанция", кажется, «Юность»!
Вы слышите? Ту-ту-ту! Ту-ту-ту!
17-18 января 1985
***
Вечер, дождь золотой, неистощимый,
достигающий лона, обнимает колени,
крадется. Вечер, полная чаша
поцелуев миндальных, полудетской
торжественной ласки. Двор бежит
впереди и сквозь ветви
оглядывается на влюбленных,
и в скрещенных коленках
открывается вдруг прямизна,
протяженность, и в речи –
божественный клекот. И я помню,
глаза закрывая, над локтем
есть родинка, и она проплывает,
как весенняя звездочка в Яузе,
и мы забываемся...
18 марта 1985
***
Дом заперт, а хозяйка померла,
И родственники растащили мебель,
Резонно рассудив, что ей на небе
Уже не нужно этого добра.
Вразброд, поштучно жизненный уклад
Пустился кочевать, меняя крышу.
Комод как будто вырос, стал повыше,
Помолодел. А там тоска взяла
Диван, который сморщился, поник
И сам не свой скрипит в чужой прихожей,
Другой старухе мнет бока, не может
Терпеть собаку. И кого винит
Приемник у чердачного окна,
На шею накрутив ненужный провод?
Судьбу, судьбу. И вот удобный повод
Порассуждать, зачем нам жизнь дана.
Все вещи врозь похожий видят сон:
Ковровая дорожка, веник, ставни.
Дай им пройти сквозь смерть и там, растаяв,
Соединиться снова с мертвецом.
Хозяйка поспешит стирать белье,
Клопов травить, и мебель погрузится
В привычное сознание единства,
Живущее лишь в памяти ее.
март 1983 – март 1985
***
С.В.
Возвращаюсь к тебе,
огонек в гиперборейских снегах.
На дощатый ковчег
ставлю ногу, и дымка-голубка
вьет и вьет невесомые гнезда
над нами, отнимая половину из прожитого.
Узкий домик в покинутом
дачном поселке нас укроет
тряпьем, запасенным до нового
лета. Мы попьем кипятка,
наглядимся в огонь, и
ковчег заскрипит между голых
теней, поднимаясь над школой,
накренится в бурлящем пространстве,
проплывет над развилкой дорог
и невидимо встанет в высотах.
30 июля 1985
***
Как тянется песок на берегу
к воде, как хочет даже в малом
не уступить волне, когда по скалам
она ползет, роняя пену с губ,
и шумно отступает. Ты сказала:
Смотри, как наперегонки бегут
песчинки, словно малыши в спортзале.
И мы смеялись, а потом встречали
кораблик у причала. Виноград
сплетал ветвями дачные перила,
косым штрихом. Ступали наугад
кусты с андреевским крестом в ногах,
а, может, это море нас дразнило,
не помещаясь в тесных берегах.
14 августа 1985