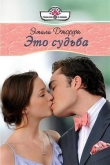Текст книги "Слово дворянина"
Автор книги: Андрей Ильин
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Рука наливалась жгучей, пульсирующей болью, которая огнем растекалась по телу...
В двери возник неясный шум, и в залу ввалился кто-то большой в кожаной тужурке с огромным «маузером» в руке и еще одним на боку.
– Ага!.. Вон где вы спрятались! – зарокотал знакомый бас Валериана Христофоровича. – Вот вы тут, милостивый государь, прохлаждаетесь, а я меж тем собственноручно злодеев словил! Сашку-матроса и Макара тоже. Тех самых, что драгоценности на спирт меняли!..
Глава XXV
Звали девочку Дуняшей.
Жила она, горя не зная, хошь не богато, да весело – были у нее тятенька с маменькой да братья с сестрицами. Были хороводы, игры да забавы. Как соберутся они с подружками да пойдут за луга заливные, по грибы-ягоды, али купаться нареку, али зимой на санках с горы кататься – визг стоит такой радостный, что за три версты слыхать!
Так дожила она до шестнадцати годков да успела отгулять еще пол-лета, как случилась большая беда – напали на их деревню татары крымские, что из южных степей пришли. Хоть усмирены они были, хоть воле государыни-императрицы покорны, а все ж таки случались с их стороны набеги.
Так и в тот раз было...
Пришла шайка разбойная ночью, копыта коней тряпками обмотав, дабы не стучали они о землю. Сторожа-инвалида, двадцать пять годков отслужившего, что теперь с колотушкой по деревне ходил, за порядком приглядывая, словили арканом да тут же зарезали, горло ему кинжалом перехватив. А уж после по улицам пошли.
Как собаки забрехали, хозяев своих будя, – уж поздно было. Татары по дворам разбрелись да в хаты вломились. Мужики спросонья кто за топоры, кто за ножи схватились да на незваных гостей, как есть в исподнем, кинулись, да только их татары усмирили скоро, саблями изрубив.
Пошел по селу крик да плач!
Кто половчей, тот в окошки выпрыгивал, бычьи пузыри, что стекла заменяли, разрывая. Но только их там уж ждали. Мужиков, тех, покуда они на ноги не встали, били, а девок арканами волосяными ловили и ноги им вязали.
И к Дуняше в хату тоже пришли.
Тятенька, брех собачий услыхав, привстал с лавки да к окошку приник, чтоб увидать, чего там происходит. Сквозь окошко-то его и вдарили, копьецом коротким в глаз ткнув.
Охнул тятенька да пал мертв, а из лица его копьецо торчит и кровь брызжет.
Заголосила матушка.
А тут как раз татары в дверь полезли. Братья, что постарше были, проснулись, с печи попрыгав. Один из них исхитрился – ножик в первого татарина кинул, да попал! Тот захрипел, забулькал, на колени упал, ножик из горла дернул да тут же и помер. Остальные татары, сильно на то осерчав, на брата Дуняши бросились и стали его саблями со всех сторон колоть. Кровь во все стороны полилась, и брат Дуни богу душу отдал.
Другой браг, все это видя, вскочил на печку, а с нее на чердак, да через солому, коей крыша крыта была, раскидав ее, наверх выскользнул, а уж оттуда на землю спрыгнул, в огород шмыгнул в лопухи высокие и был таков!
А других всех братьев и матушку татары зарезали, никого не пощадив. Девок же, связав вместе, на двор погнали. А другие пока дом и сараюшки грабили, добро хозяйское таща да скотину из хлевов выгоняя.
И по всей-то деревне страшный вой людской стоял да крики смертные, отчего волосы на голове, будто живые, шевелились!
Всех, кто жив остался, татары вместе согнали, одной длинной веревкой связали да повели в степь. Последние пленники срубленное дерево за собой волокли, дабы листьями с ветками следы заметать, по которым погоня пойти могла.
Так ночь прошла.
Татары – те на конях скакали, а пленники пешком брели, погоняемые, будто бараны. Кто отставал али задыхался, из сил выбиваясь, того кнутами по спине охаживали, но не сильно, не до крови. Одну девку, что ногу подвернула да дале идти не могла, татары ножами зарезали, бросив на съедение волкам. Отчего другие резвее пошли.
– Куда ведут-то нас? – шептались тревожно меж собой пленницы.
– В неволю, в землю басурманскую.
Да друг с дружкой слухами страшными делились:
– Говорят, там, за морем-океяном, чудища страшные водятся, коих девами молодыми кормят.
Но коли чудищам их скармливать, отчего тогда их не бьют, отчего жалеют?
Почему девок не до крови били, после ясно стало, как они на место пришли. Да только нескоро – через месяц только. За то время много пленниц от питания скудного и лишений перемерло, а иных сами татары прибили.
Как пришли – пленницам роздых дали, покормили досыта, на реку искупаться свели. Уж думали они, что на том их мученьям конец пришел, а вышло, что это лишь самое начало их!
Рано утром, еще до солнышка, вывели пленниц на площадь базарную, на специальное место огороженное, подле которого лошадей да верблюдов стреноженных продавали. Сами татары наземь сели, ноги крест-накрест сложив, да замерли так, будто неживые.
А как солнце взошло, на площадь народ сходиться стал, все боле персы, турки и иные иноверцы. Все они поодаль от пленниц толклись, на них глазея, языками цокая и пальцами указывая. Татары близко к ним покуда никого не допускали. А как набралось народу, что протолкнуться нельзя стало, один татарин вперед выступил да что-то громко не по-русски выкликнул.
Да подойдя, ближайшую девку за платье схватил, разодрав его надвое от ворота до самого низа. Разодрал и лохмотья в пыль бросил. Остальным тоже велено было все с себя скидать. Кто заупрямился, тех кнутами да вицами по ногам стегали.
Делать нечего – подчинились девки, сбросили сарафаны и юбки исподние, оставшись в чем есть, кое-как грудь и срам ладошками прикрыв. Стояли так, от холода утреннего зубами стуча да кожей гусиной покрываясь.
Тут и торг начался!
Покупатели на товар, что им приглянулся, пальцем указывали, свою цену выкликая. Кто боле других давал, к тому девку подводили, дабы он ее оглядеть и ощупать мог. Покупатели пленниц мяли и тыкали, иные рот заставляли раскрывать и пальцами туда лазили, зубы на крепость проверяя, качая их, стуча по ним и скребя ногтем. А то всяко бывает – бывает, берешь девку справную, при зубах, а после оказывается, что они фальшивые али в дырах все, да мелом толченым подкрашенные.
Ныне девки все справные да молодые были – двенадцати-осьмнадцати лет отроду. Старых, кривобоких да рябых татары, как водится, на месте режут. Остальных за собой уводят на базары, что от Крыма до Персии рабами торгуют.
Девки – товар добрый, за них, коли кожа белая да гладкая, купцы платят не скупясь. Тех, что повидней, разбирают скоро, а те, что поплоше, не один день на солнцепеке выстаивают, судьбу свою кляня. Их, коли никто не купит, татары к себе сведут на черные работы. Или бросят за ненадобностью. Ато, бывало, выведут в степь подале и задушат, чтобы боле с ними не возиться, да тут же в новый набег поскачут на Русь, за новым товаром. Чего-чего, а девок в России хватит!
Дуняшу, ту первую увели, уж больно она была собой хороша. Купил ее купец-турок всего за несколько золотых монет, а как в караван-сарай привел, вновь оглядывать да щупать стал. А как щупал да тискал, руки у него и щеки тряслись – уж так она ему приглянулась. Но более он ничего себе не позволил, дабы товар не попортить, ибо в гаремы султанские только девственниц берут.
Несколько дней он так с ней забавлялся, глаза закатывая да причмокивая, а после, хоть и жаль было, в сторону турецкую отвез да другому купцу продал. Уж втридорога. Тот повез Дуняшу к морю Каспию. Да уж не пешком, а на лошадях, да рук с ногами не вязал, дабы нежной кожи девичьей не испортить. Как к морю пришли, на лодку-фелюгу сели и три дня плыли, средь волн бурных, отчего Дуняша сильно тошнотой страдала. Дале с караваном пошли.
На невольничьем рынке, куда купец ее доставил, много девок продавали из Руси, из Булгарского царства, из самой Европы даже. Все они были у родных своих отобраны да в Персию свезены. Купцы товар свой показывали, на все лады расхваливая, поворачивая то так то сяк.
Тут как раз мимо проезжал визирь Аббас Абу-Али да девок увидел, а средь них – Дуняшу. Остановился.
Он на Дуню перстом указал – подвели ее.
Поглядел он на нее, грудь пощупал да живот.
Спросил:
– Цел ли товар или попорчен?
– Как есть цел! – ответил, почтительно кланяясь купец. – Старухи ее глядели – все при ней, все как надобно, все на месте, берите – будете довольны.
Визирь кошель вынул да, не глядя, купцу бросил.
Дуняшу во дворец к нему свели, где долго в водах с лепестками цветочными мыли-полоскали, волоски на теле выщипывали, благовониями обливали да масла разные в кожу втирали! После на голове четыре косички заплели, в ноздри золотые кольца с драгоценными камнями вдели, а на грудь, шею и на лоб навесили жемчуга. Да одели в исподнее платье, что из узкого кафтана и рубахи без вышивки состояло и все было дымами ароматными пропитано.
Призвал ее к себе визирь, оглядел да сам лично на персты кольца с камнями самоцветными надевал, дабы вместе с ними шаху подарить.
Шаха-то Дуняша не увидела. Во дворце ее евнух осмотрел, дабы удостовериться в ее чистоте. А как внутрь гарема ввел, велел повторить по-персиянски:
– Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет – пророк его.
И шнурок шелковый вынул, дабы, если она откажется, тут же ее удавить.
Сказала Дуняша, да в тот же миг веру православную утратила и имя свое, что батюшка с матушкой ей дали, став Зариной!
Но и тогда ее к шаху не свели, а приставили к главной рабыне, что должна была ее учить игре на музыкальных инструментах, танцам, но более всего премудростям обольщения.
Рабыня была стара да злюща, отчего Дуня боялась ее пуще ведьмы. Заставляла она Дуню принимать сладострастные позы, шептать слова ласковые да обжигающе ласкать. А коли ученица надлежащего усердия не выказывала, стегала ее ремешком кожаным.
– Должна ты быть, дабы взор господина своего радовать, ростом как бамбук среди растений, лицом кругла, будто полная луна, волосы темнее ночи, щеки белые и розовые, с родинкой, подобной капле амбры на алебастровой плите, глаза черные да открыты широко, как у дикой лани, веки сонные и тяжелые, уста небольшие, с зубами, подобными жемчужинам, оправленным в коралл, груди, подобно яблокам граната, бедра широкие, а пальцы узкие, с ногтями, покрашенными ярко-красной хной.
Да учила, как господина своего ласкать, дабы разжечь в нем желание:
– Коснись устами своими ног его, легко, будто мотылек на них сел, да бедрами в стороны легко поводя, целуй ему пальчики, всякий раздельно, кончиком языка их гладя и щекоча, а как целуешь, очей своих не смыкай и в сторону не отводи, а гляди на него покорно и сладостно, будто не ноги ты ласкаешь, а меды сладкие в рот льешь, ибо, получая с того радость, ты в нем страсть рождаешь...
Ох и трудна наука любовная, отчего не всякой наложнице с первого раза дается. На то рабыня к ним и приставлена, что знает всякую прихоть своего господина, знает, как ласкать его, чтобы до истомы сладкой довести или усыпить, будто ребенка.
– Плавься под взглядом господина своего, как свеча на солнце, коли желает он видеть в тебе покорность; будь свежа и игрива, подобно горному ручью, когда будет у него веселый нрав, а коли не угадаешь, что ему надобно, боле он тебя к себе не призовет!
Через год лишь, как смогла Дуняша выучить язык персиянский, танцы освоить, игру на зурне и иных инструментах да преуспела в утехах любовных, познав, как доставить господину своему неземное наслаждение, допустили ее в гарем.
Гарем тот – дворец отдельный, с фонтанами, садами, бассейнами и банями, где принимают наложницы омовения, да с комнатами, что без счета, хоть и нет меж них дверей.
Идет Дуняша по дворцу да диву дается.
Кругом золото да ковры! На коврах наложницы возлежат, все красоты неописуемой, а иные в гарем и не попадают! Кто в неге пребывает, кто маслами себя умащивает да тело растирает, кто ласкается друг с дружкой, забавляясь. Иные из коробочек рубиновых али сапфировых что-то белое достают да сыпят в кальяны, что курят, нюхают или языками лижут.
– Что это? – спросила Дуняша.
– Сладкий порошок-опиум, – восторженно вздохнула главная рабыня. – С ним жить легко да весело.
Остановились.
– Здесь место твое будет, – показала рабыня. Стала Дуняша в гареме жить да вокруг глядеть.
Чудно там...
Без малого тысяча наложниц кругом, все молоды, все прекрасны, все в любви искусны и все-то господину своему назначены, а боле никому! И всякая об одном только мечтает – чтоб ее господин заметил!
Как появится шах на женской половине, поднимается там великая суматоха, все невольницы, где в ни были, принимают сладострастные позы, стремясь попасться ему на глаза, кто танцует, стан зазывно выгибая, кто поет, слух его нежными звуками лаская, кто на зурне играет, иные меж собой играют да ластятся, дабы возбудить в господине своем любопытство и страсть... Тут уж все способы хороши.
Обратит на тебя господин взор, скажет:
– Как зовут ту, что с краю стоит?
И тут же, на зависть всем, получает та наложница титул «гэздэ», что значит – «удостоившаяся взгляда». Любимая жена султана дает ей знак приблизиться и, оказывая великую милость, разрешает поцеловать край дивана, на котором господин сидит, или носок туфли его!
Как обжилась Дуняша, много чего узнала.
– Господин наш добр да милостив, – шептали ей новые ее подружки. – Если понравишься ему – жемчугами осыпет. А станешь любимой наложницей, получишь за то подарки да комнату отдельную, с прислугой!
– А если не угодишь или провинишься чем? – тихо спрашивает Дуняша.
– Тогда, милость яви в, прикажет он казнить тебя без крови, удавив шелковым шнурком...
Что же это за милость такая, коли жизни лишают?!
– А коли не явит милость?
– Тогда сунут тебя в мешок кожаный, ядовитыми гадами набитый, или толкнут в кувшин с крысами и кошками разъяренными да крышкой запечатают! – пугают шепотом наложницы.
Страх-то какой! Так и хочется перекреститься – да нельзя, иной у Дуняши теперь бог, что Аллахом зовется. Креститься станешь – увидит кто, евнуху донесет, и уж тогда сварят тебя в масле кипящем!
Как вечер настанет, Дуня на подушки мягкие возляжет, покрывалом с головой накроется, сторонушку родную вспомнив, да батюшку с матушкой, коих злые татары убили, всю-то ночь напролет горючими слезами плачет! Да не громко, а тихонько, чтоб ее не услышали! Не увидеть ей, видно, боле Русь, не потрогать снежка холодного! Ой-ой!
В другой раз, как шах в гарем пришел да все навстречу ему бросились, Дуня в сторонку встала, да сама все шептала, чтоб он ее не заметил!
Шах на диван возлег, на подушках мягких развалившись, кальян раскурил да, глаза полуприкрыв, на тысячу наложниц своих глядит, что пред ним, в покровах прозрачных, сладостно станы изгибают. У каждой на щиколотках браслеты золотые гремят, отчего идет по зале звон дивный, переливчатый. И всякая тонка, как тростинка, гибка, как лань и горяча, будто огонь, – на господина своего призывно глядят, а во взорах тех нега с поволокой, и губки – будто бутоны алых роз распускаются...
Но никто шаху не нравится.
Зевает шах, скучая, – счас уснет!..
Но увидел вдруг за полунагими телами новую, кою раньше не видал, наложницу, что взор его привлекла. Да не тем, что лицом прекрасна – все здесь красавицы, коих в целом свете не сыскать, и не телом – у всех наложниц тела тонкие да гладкие, а кожа атласная... а тем, что стан свой не изгибает да не танцует, а будто, напротив, прячется от господина своего.
– Кто это? – указал перстом шах.
– Наложница новая, что Зариной зовется, – ответила старшая жена.
– Пусть подойдет.
Расступились все, разбежались в стороны, дорогу давая. Ни жива ни мертва Дуняша, ступить не может, будто ноги ее к коврам персидским приросли.
Толкают ее в бок да глядят с завистью.
Подвели Дуняшу к господину да вновь в бок толкают. Встала она на коленки, проползла три шага, коснулась губами покрывала.
Шах смотрит на нее с любопытством да ногу свою вперед отставляет, на коей туфля надета, золотом шитая, с носком, вверх загнутым.
Обмерли все! Виданое ли дело, чтоб милость такую господин явил, что не покрывало только, но и туфлю свою дать поцеловать! Счастливица Зарина!..
Подползла Дуняша да коснулась устами своими самого кончика туфли. А как коснулась, задрожала вся со страху! Да только не так ее поняли!..
Хмыкнул шах да на нее указал.
– Пусть ко мне придет!
Ахнула Дуняша. Да почуяла взгляды ненавистные, что со всех сторон на нее обратились!
Тут же ее в баню свели – мыли да парили в цветочных водах, тотчас меняя их, как лепестки от тепла увядали, да ноги с руками и тело все растирали, благовониями умащивали, в кожу их втирая...
А после к евнуху главному привели, что прозывался Джафар-Сефи.
Тот осмотрел ее, обнюхал всю да спросил, как она господина своего ублажать станет.
Сказала Дуняша.
Евнух послушал да повелел ласки, шаху предназначенные, на себе показать! Обомлела Дуня... Слышала она, будто во всем свете не сыскать более опытного знатока утех любовных, чем евнух шахский!
Встала Дуняша на колени да стала евнуху ноги ласкать и целовать, как учили ее. А нога вся толстая, гладкая, жиром заплывшая. Сидит евнух, глаза за веки забрав, будто чего слушает.
Морщится недовольно да говорит непонятно, как все на Востоке.
– Кто спешит, тот дороги любовной не осилит, ибо не тот поспевает, кто первый цели достигает, а кто приходит вовремя! Подымайся к вершинам страсти медленно, да верно, да первая сама получай от пути того радость!
Поняла ли Зарина?
Кивнула Дуняша, хоть не поняла.
Покачал головой главный евнух. Коли будет шах недоволен, – его вина в том первая, а уж невольницы – вторая.
Вздохнул да велел ей на ложе возлечь.
А как возлегла она, стал он ласкать ее руками и губами. Сперва страшно Дуне было да щекотно только, а после обо всем она позабыла, лишь тело свое слушая, все потаенные уголки его, с удивлением и страхом ощущая, как разгорается в ней незнакомое чувство, что зовется любовный жар!
А евнух знай себе дальше старается, любовную дорогу опытной рукой торя, да говорит вслух, что с ней делает, дабы знала она, как ей господину своему радость доставить. И чувствует Дуняша, что евнух тоже от страсти дрожит, и пальцы его, и язык, и весь-то он сам, и от тряски той нежной уж вовсе она обо всем позабыла!
Лишь дивится – как так быть может, что евнух – ничего-то, что у мужиков быть должно, не имея, столь искусен в делах любовных, что может такую радость невозможную доставить!
А после, на самую вершину страсти взойдя да от того закричав и заплакав, вовсе чувств лишилась. Да не одна она, а и евнух тоже, ибо учил он, что нельзя истинного счастья в любви доставить, коли самому от того наслаждения не иметь!
Видно, правы были наложницы, шепчась меж собой, будто слаще того нет, как на ложе евнуха шахского попасть! Так и есть!..
Как пришла Дуняша в себя, спросил ее евнух:
– Поняла ли, Зарина, теперь?
– Поняла! – прошептала Дуня.
– Тогда иди, – сказал евнух да погладил ее ласково. Тут ее, вновь распарив да благовониями умастив, в опочивальню шаха доставили. Да как тот на ложе лег, дверь отворили. Дуняша на коленки встала да, в коврах персидских чуть не по пояс утопая, к господину своему поползла, выказывая ему тем свою покорность. А как подпозла, одежды свои прозрачные сбросила...
Чего она дале делала, Дуня уж и сама не понимала, а лишь, евнуха шахского вспоминая, ласки его повторяла, дорогу любовную в первый раз осиливая. И от воспоминаний тех сладких и от ласк своих страстью зажигалась все более и более, уж не покоряясь, а ведя господина своего к самым вершинам блаженства. Да только не его она в тот момент представляла, а евнуха его, который пламя в ее сердце и чреслах игрой искусной разжег, прежде чем на ложе шахское возвести!..
Утром шах ей подарки дорогие прислал – перстни, бусы жемчужные, колье с камнями самоцветными и иные, да повелел другой ночью опять ее в опочивальню свою доставить!..
Месяца не прошло, как стала Дуняша уж не наложницей Надир Кули Хана, но женой его, что вера магометанская позволяла, ибо не куплена была она, а подарена шаху визирем, отчего считалась выше, чем просто рабыня.
Не было в гареме дотоле, чтоб скоро так из наложницы – женой шахской стать, да не одной средь многих, а любимой, ибо ночи не проходило, чтобы шах избранницу новую к себе не призывал!
Да только не радовало то Дуняшу, ибо хоть и нет более желанной доли для наложницы, чем стать женой господина своего, но более горькой тоже нет!..
Глава XXVI
Сашка-матрос верно – был матросом, в лихо заломленной бескозырке, непомерной ширины клешах и в ушитом по последней флотской моде черном бушлате, распахнутом от ворота до пупа, дабы виден был полосатый тельник. В ухе его болталась серьга, коя полагалась лишь нижним флотским чинам, бывавшим в дальних океанских походах и огибавшим мыс Горн.
– Человек есть свободная, не подлежащая угнетению обществом личность, – вещал Сашка-матрос. – Птаха щебечет где хочет, и никто ей не хозяин, и нет на нее управы...
– А как же коршун? – тихо спросил Мишель.
– Коршун тоже есть свободная по природе своей личность, – ничуть не смутился Сашка-матрос. – И человек должен быть аки птица – летать где вздумается и петь, что душе его угодно. К чему мне ваши глупые законы, коли я выше них, коли я – сам по себе! Захочу – счас поеду в далекий город Сингапур, где крейсер наш стоял, где рай земной, али подамся в Соединенные Американские Штаты! А то – никуда не поеду – влезу на печь и спать стану, как будет у меня такое желание! И никто мне не указ! Душа моя широка, как море-океан, оттого никто не смеет мне поперек вставать!
– А ежели, к примеру, выпить захочется? – не без умысла спросил Валериан Христофорович.
– Тогда – пить стану! – уверил его анархист. – Захочу – самую малость, а нет – так допьяна, чтоб хоть с ног долой!
– Спирт? – уточнил Валериан Христофорович.
– А хошь бы и спирт! – хвастливо заявил Сашка-матрос. – Я ромы ямайские хлебал с глинтвейнами, я, может, ноги в шампанском полоскал, но ежели душа попросит, то и спиртягу могу – такой я человек!
– И третьего дня пил?
– Пил! И что с того? Коли хочу – пью, коли нет – не пью!
– А спирт где взял? Не иначе как на драгоценности сменял?
– Что мне ваши побрякушки – пыль под ногами! – совсем распоясался, найдя в лице Мишеля и Валериана Христофоровича благодарных слушателей, Сашка-матрос. – Мы жемчугами дороги мостить станем, а из золота червонного сортиры делать! Свободной личности не нужны деньги – деньги есть цепи, коими сковывают народы. Мы отменим деньги и границы, дабы дать всем и каждому свободу, сколь он взять способен.
– То есть всяк может творить, что ему заблагорассудится, пусть даже это иным не по нутру придется? – уточнил Валериан Христофорович. – А как же-с тогда закон?
– Закон – пережиток прошлого, призванный угнетать свободную личность! – уверенно заявил Сашка-матрос. – Вместо всех законов довольно будет одного.
– И какого же?
– Закона, отменяющего всякие законы!
– И делай чего хочешь?
– Ага!
– А ежели мне, положим, вздумается теперь вас жизни лишить? – смиренно поинтересовался Валериан Христофорович.
– Как это? – не понял Сашка-матрос.
– Атак!.. Счас выведу вас во двор, к стенке прислоню да и стрельну. Имею я на то, как свободная личность, право?
Это право Сашке-матросу почему-то не понравилось.
– За что это вдруг?! – задиристо спросил он.
– Например, за спекуляцию спиртом, за что, по законам военного времени, менее чем расстрел не полагается. О чем на всех заборах декреты развешены. Али не читал?.. А коли того мало – еще за хищение ювелирных изделий, принадлежащих государству, – перечислил Валериан Христофорович.
Сашка-матрос был довольно смышлен, отчего тут же сообразил, что дело ни в каком не в спирте.
– Какие такие драгоценности?.. Не знаю я ничего! Тут-то и пригодились показания хитрованского фартового, у коего колье и другие ценности были изъяты и который на Сашку-матроса с Макаром указал.
– Откуда у вас драгоценности? – строго спросил Мишель.
– С экспроприации! – нехотя ответил анархист.
– Грабь награбленное? – усмехнулся Валериан Христофорович.
– Ну, – согласно кивнул Сашка-матрос. – Угнетенный народ имеет право вернуть присвоенные мировой буржуазией ценности!
Народ? А при чем здесь в таком случае анархисты?
– Ну хорошо, положим, – согласился Мишель. – А как тогда быть с этим? – вытащил он колье с памятной ему вмятиной. – Это украшение никак не буржуйское, оно государству принадлежит. Мы это верно знаем! Его вам кто передал?
Сашка-матрос, насупясь, молчал. И Макар тоже. Валериан Христофорович, тяжко вздохнув, высунул голову за дверь.
– Эй, товарищ, – окликнул он одного из пробегавших мимо латышских стрелков. – Выкликни, товарищ, добровольцев – надобно теперь двух контриков в расход пустить.
На что солдат лишь отмахнулся да побежал себе дальше, не желая признавать в Валериане Христофоровиче командира. Что того нимало не смутило.
– Мы их счас выведем, – не моргнув глазом, продолжал распоряжаться он, обращаясь в пустоту коридора. – А вы покуда патроны получите да во дворе стенку какую подходящую сыщите. Двое их будет, так что надолго вы не задержитесь!
– Чего это вы? Чего?.. – забеспокоился Сашка-матрос, напряженно прислушиваясь к разговору.
Но Валериан Христофорович ему даже не удосужился ответить. Скорчив угрожающую гримасу, он откинул крышку, потянул из деревянной кобуры устрашающего вида «маузер» и стал многозначительно вертеть тот в руках.
– Давай-ка не задерживай, выходь! – скомандовал он. – Именем пролетарской революции!..
Мишель только диву давался, сколь быстро старорежимный сыщик освоил новые приемы ведения следствия и обороты речи.
– Никуда мы не пойдем! – запротестовали анархисты, цепляясь за спинки стульев. – Не по закону то!
– Закон есть пережиток прошлого! – напомнил Валериан Христофорович недавние Сашкины слова, нетерпеливо теребя «маузер». – Так что выходьте, граждане, не томите караул, коему теперь отдыхать положено! Счас мы вас по-быстрому стрельнем да пойдем себе спать – чай на дворе утро уже...
И демонстративно, во весь рот, зевнул.
Слова Валериана Христофоровича, но пуще его внушительный вид и браво отданные приказы возымели нужное действие.
– А ежели мы скажем, у кого те побрякушки взяты? – быстро спросил Сашка-матрос, беспокойно заглядывая в лица Мишеля и Валериана Христофоровича.
– Тогда мы с этим делом погодим, – для порядку малость посомневавшись, посулил ему Валериан Христофорович. – Как скажешь, товарищ Фирфанцев, – погодим?
– Погодим, – согласно кивнул Мишель. – Отчего не погодить.
– Ну, давай говори, – вновь оборотился Валериан Христофорович к анархистам.
– Про что говорить-то?
– Про все, чего знаешь! В первую голову – откель это, с вмятиной, колье? Кто его тебе дал? Да гляди – не ври мне! Ну!
– Комиссар ваш, – с неохотой ответил Сашка-матрос. – По фамилии Сиверцев. Тот, что в Чрезсовэкспорте работает. Он ране тоже анархистом был, да после к вам, к большевикам, переметнулся.
Сиверцев?.. А ведь и верно – ему самому ценности, что у Федьки Сыча изъяты, были переданы по описи, на ответственное хранение! А он их, выходит, вместо того чтобы пуще ока беречь, тут же бывшим приятелям своим анархистам снес, а те их на спирт сменяли! Или не все сменяли?
– Сколь тех драгоценностей было? – спросил Валериан Христофорович.
– Много – мешок, а может, поболе. Счас разве упомнить.
– Хороша мера весов – мешок или два! Бриллиантов!.. Революционная мера...
– У него такого добра сколь хошь – полна комната, – простодушно ответил Сашка-матрос.
– А вам он их зачем дал?
– На борьбу! – гордо заявил Сашка-матрос.
– За что?
– За свободу личности!
– Он – дал, а вы куда подевали?
– Пропили, – мрачно сообщил Сашка-матрос.
– Неужто все? – усомнился Мишель.
– Нет – какие отличившимся анархистам роздали, а иные продали.
– Кому продали?
– Частью иностранцу одному – Хаммеру. Частью в скупку снесли.
В скупку?.. Какие ныне скупки, коли они все до одной советской властью закрыты? А не врет ли он часом?
– Адреса скупок назвать можешь?
– Отчего не назвать – могу, – пожал плечами Сашка-матрос. – Про них все знают – на Хитровке две, на Пятницкой еще, на Трубной да в Китайгороде.
Там золото с бриллиантами, украшения и меха берут. И картины тоже! Хошь днем, хошь ночью...
Выходит, в Москве действует целая сеть скупок, через которую широким потоком идет неучтенное и ворованное золото, и никто о том не знает?! Вот и след сыскался, да еще какой!.. Да не один, а сразу несколько!
Мишель почувствовал, как все существо его охватывает азарт сродни охотничьему. А ну как прямо теперь, пока молва о разгроме анархистов по городу не разошлась, по адресам тем нагрянуть, да всех, кто там есть, с поличным взять?! Иностранца – Хаммера того – вряд ли теперь сыскать, а вот скупки накрыть надобно бы!
Мишель быстро глянул на Валериана Христофоровича – тот удивленно воззрился на него. Мишель кивком пригласил его в сторонку пошептаться.
– А что, Валериан Христофорович, не желаете ночную прогулку совершить?
– Куда это? – насторожился старый сыщик.
– А туда, куда сии молодцы ценности ворованные снесли.
– В скупку-с?! – ахнул Валериан Христофорович.
– Точно так, – кивнул Мишель. – Ежели не теперь, то после, как все узнают про анархистов, будет поздно! Или теперь или уж никогда!
– Да-да, – согласно закивал Валериан Христофорович. – Как они узнают, что анархистов арестовали, гак сразу торговлю свою бросят да по хитрованским щелям попрячутся. Теперь бы их в самый раз брать! Да только не мало ли нас для сей авантюры-с?
Сил верно у них было немного – сам Мишель, преклонных лет отставной полицейский да, может быть, еще Паша-кочегар, который, впрочем, один десятка стоит. Можно еще в подмогу пару солдат поклянчить, только навряд ли теперь, после боя, их дадут.
– Не знаю, не знаю, милостивый государь, – чесал в затылке Валериан Христофорович. – Втроем облавы не учинить-с!
– А мы не числом, мы умением! – бодро заявил Мишель. – Да и что толку в числе, коли в саму-то скупку нам с вами на пару идти – более никого с собой не возьмешь. Ежели боле – то они насторожатся да ничего не станут у нас брать.
– Так вы не с пустыми руками идти желаете? – оживился старый сыщик. – Дабы их с поличным взять, как они краденую вещь у нас купят? А коли купят – так уж им не отпереться!..
– Точно так! – кивнул Мишель. – Мы войдем да вещицу им предложим, а как они ее купят, всех, кто там есть, арестуем. А Паша, тот под дверью караулить станет, на случай, ежели кто побежать удумает.
– Ай молодца, господин-товарищ Фирфанцев! – восторженно воскликнул Валериан Христофорович. – Прямо Кутузов Михаил Илларионович, хоть и при двух очах! Вам бы сыском российским командовать!..
На том, хоть и была опаска упустить злодеев, и порешили.
Валериан Христофорович пошел к арестованным анархистам.