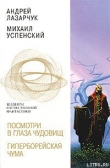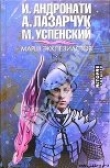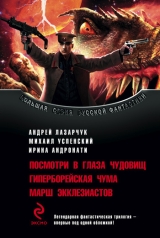
Текст книги "Посмотри в глаза чудовищ. Гиперборейская чума. Марш экклезиастов"
Автор книги: Андрей Лазарчук
Соавторы: Михаил Успенский,Ирина Андронати
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 82 страниц) [доступный отрывок для чтения: 30 страниц]
– Это я теперь в деревне вроде как самый главный, а приехал-то позже всех.
Тогда, из болот, я уходил последним – и то ли свечку задел, то ли земля так неудачно повернулась: Очутился я опять же в болоте. Но как бы и в бане в то же время. Кое-как выбрался – на третий день…
Вот представь: болото. Тростник какой-то, осока, прочая гадость. Лягушки вот такие – тебе по пояс, пожалуй. И все время кто-то кого-то жрет, и думаешь только: слава Богу, не меня. А делаешь шаг – и вот-те нате, хрен в томате: автострада, бензоколонка, машины едут. Ну, вылез я… руки, понятно, вверх: война же была, чужаков так и так в полицию сдавали; а в Америке этой человека в полицию сдать не западло, а гражданский долг. Долго со мной разбирались, но видно был по мне: из германского плена мэн. Пока переводчика нашли, я кое-что смикитить сумел и легенду выстроил. Будто бы сидел во Франции, бежал через Испанию на панамском шипе. А панамцы эти долбанные меня нашли и за борт выбросили: И так я в это поверил, что панамцев до сих пор не люблю. И что ты думаешь: скушали мою брехню за милую душу: доверчивые были, это потом мы им ума-разума вложили. Переводчик, бывший таксист парижский, Москаленко, так хорошо переводил, что мне только «да» и «нет» отвечать оставалось. Много я из его переводов о Франции да Испании узнал…
А потом – повезли меня в город Вашингтон к послу Майскому. По дороге Москаленко мой мне и говорит: ты, мол, лучше бы в посольство не ходил, поскольку там советская власть, а где советская власть, там и тюрьма неподалеку. Я бы, говорю, и сам рад не ходить, тем более что и командир велел: пока Сталин живой, домой не ворочаться. Да только что я могу сделать в чужой– то стране? Москаленко обещал помозговать, но уж очень все быстро произошло.
Я даже мявкнуть не успел…
Встречу нашу с послом даже для кино снимали. А назвался я, кстати, именем Пети Брагина, последнего нашего в бою павшего, он у нас из детдомовских, и рыла у нас с ним схожие: были. Да. И газетчиков всяких тьма, в блокноты строчат, на аппараты снимают. Рассказал им, как деревни жгут, как баб с детишками за то, что пленным еду приносят, убивают. Американцам, чтобы воевать, себя взвинтить нужно. Ну, взвинтил. Кино уехало, посол ручкой сделал, убрались журналисты – явилися чекисты. И – берут меня в оборот: как я в плен сдаться посмел и за сколько родину продал? Морду еще не бьют, но примериваются. Там у них в посольстве своя Лубяночка махонькая: подвал двухэтажный. И вот держат меня там, не выпускают. Допросы снимают. И чувствуя я, что завираться начинаю. Это вам не ФБР, переводчиков с русского им не требуется. В конце концов, понимаю я, что пришел мне форменный карачун: приперли к стенке в прямом и переносном. Получаюсь я по всем статьям предатель и шпион, и возразить нечего: И вдруг: приводят меня не в допросную, что в подвале же, а в кабинет начальника чекистского, тот, не моргнув глазом, конвоиров отсылает, дверь запирает и мне говорит: что ж ты, сукин сын Филипп Антонович Пансков, в запирашки со мной играешь? Тебе же Героя за гималайскую операцию присвоили! И тут, веришь ли, растерялся я.
Всего ждал, только не этого. Верно говорят: не повезет, так даже на родной сестре триппер поймаешь. А он, гад, на меня смотрит. И все понимает. И я уже все понимаю…
Не повезут меня ни в какую Россию, а пристрелят тут же и тут же зароют в подвале, как и не было никогда…
Встаю. Руки по швам. Служу Советскому Союзу!..
В общем, не успел он.
Запихнул я его в шкаф, в том же шкафу костюмчик понаряднее нашел, рубашечку, галстук, который завязывать не надо, штиблеты по ноге, макинтош, шляпу на глаза надвинул, сигару в зубы – я видел, начальник так ходил, – бумажник не забыл спионерить: и в коридор. Охранники меня, понимаешь ли, слишком близко подпускали…
Вышел на площадь, с полицейскими раскланялся, такси остановил и поехал на вокзал. Слова некоторые я уже понимал…
Нью-Йорк тогда был тогда самый большой город в мире, и искать им меня пришлось бы очень долго.
Вышел из вагона, опять же в такси, говорю: синагога. Какая, спрашивает таксист.
Говорю: эни. Любая, мол. Ну, он разворачивает машину и останавливается на другой стороне улицы…
С евреями договориться оказалось не так уж легко, но и не слишком трудно.
Много, говорю, я вашего брата спас, выручайте теперь и вы меня. В общем, был я через месяц эмигрантом из-под Варшавы по имени Беня Блашкович. А потом еще чуть-чуть – и принял меня Военно-морской флот в свои объятия.
Чтоб в морской пехоте служить, язык в тонкостях знать необязательно. Райт, лефт, стенд стил, йес, сэр! – ну и еще пара слов. Главное, слова короткие. Не то что у нас: «Побатальонноперваяротанаместеостальныенаправомарш!»
Подготовочка моя сказалась: определили в особое диверсионно– разведывательное подразделение «Шадоуз». Про него даже сейчас не пишут.
Готовили нас ни больше ни меньше, как для захвата в плен Муссолини, Гитлера и Сталина. Правда, в натуре ставили перед нами задачи попроще и помельче калибром. Да и Скорцени нас опередил в одном эпизоде. Встречались мы тут с ним лет пятнадцать назад, старый стал, обрюзг, форму не держит. Ну, посидели, выпили хорошо: что мне теперь-то с ним делить? Вот. Но золотой запас Германии наши ребята прихватили, не дали вывезти…
А у меня тоже приключение было. Переподчинили меня на срок генералу Доновану. Ему запонадобилось у джерри одну штуку выкрасть, а его ребята слабоваты для этого дела оказались. Меня и сбросили в Тирольских горах. Во– от. А тюк с оборудованием в озеро упал и утоп. И оказался я с одним пистолетиком да с двумя обоймами патронов: Замок у немцев там был переоборудованный, черный эсэс его себе облюбовал. В замке эта хренотень и хранилась. Так я и не знаю, чего они так за эту железку бились: Сколько я доберманов одних перестрелял да перерезал – до сих пор перед собаками стыдно. Однако же – добыл, отвез Доновану, обменял на «медаль Конгресса».
Но все хорошее когда-нибудь кончается. Кончилась и война – и уволили меня в запас в начале октября сорок пятого. Мог я по закону о солдатских правах даже высшее образование получить бесплатно, да как-то неудобно: и возраст не тот, и слов я мало нужных для колледжа знаю: Короче, осел я в Майами и стал в доках работать. Грузчиком. Как в самом коротком анекдоте. И даже чуть не женился, да как-то пронесло. Полгода прошло, и что ты думаешь: затосковал я по службе.
Но, видно, бабка мне в детстве как надо подгадала, потому что стали как раз вербовать у нас резервистов для полярной эскпедиции на юг. По-дурному Земля устроена: Я успел записаться. Старый знакомый мой, сержант Грейнджерфорд, как меня узрел, так и заорал на адмирала: каким трюмным матросом?! В штурмовую группу! С выслугой, надбавками и хрен знает чем еще. Я еще себе думаю: зачем попу гармонь? Что будет делать в Антарктиде штурмовая группа?
Пингвинов жучить? Но молчу, жру усиленный паек и гоняю на тренировках тех, кто повоевать не успел. Тяжело, говорю, в учении – легко в гробу…
Крейсер наш назывался «Оклахома-сити». Адмирал Бирд, Ричард Ивлинович, держал на нем свой флаг. Мужик он был простой, доступный, в кубрик наш спускался и байки свои травил. И, между прочим, носил такую же, как у меня, «медаль Конгресса». Для американцев он и по сю пору кто-то вроде Водопьянова или Отто Юльевича Шмидта. Первым долетел до Северного полюса, потом через Атлантику – вторым после Линдберга: И вот он знакомится с личным составом, собирает ветеранов и под топ-секретом сообщает: экспедиция наша не просто научная, а военно-научная, и даже больше военная, потому что, по сведениям разведки, нацисты оборудовали в Антарктиде тайную базу, где продолжают создавать свое супероружие и где, есть такая информация, скрывается настоящий Гитлер. Которого, вроде бы, простая пуля не берет – и именно так его можно отличить от ненастоящего: И очень мне это напомнило десятилетней давности напутствие товарища Агранова, так напомнило, что захотелось прыгнуть за борт да и плыть своим ходом до теплого города-курорта Майами: Но только были мы уже в ревущих сороковых – и даже не годах, а широтах.
Очень мне не нравилось и то, что кораблей в нашей экспедиции было тринадцать. Но потом догнал нас «Генерал Грант», старый эсминец, переделанный в научное судно. Сразу камень с сердца упал. Следуем двумя колоннами в виду побережья, легкие суда к берегу шастают, разведку ведут. С авианосца каждый день «корсар» взлетает: Наука! Но вот в один день пришвартовывается к нам катер с «Гранта», и я начинаю думать, что жизнь – это сплошной роман «Десять лет спустя». Потому что поднимается на борт с катера мой партизанский командир Николай Степанович…
9В той извращенной действительности, что окружала его, любые отклонения от нормы казались нормальными поправками.
Джозеф Хеллер
Подземелье острова Шаннон совсем не похоже было на то, которое Николай Степанович имел удовольствие исследовать в Антарктиде. Здесь были не переходы и залы, по-немецки строгие и функциональные, а низкая, но чрезвычайно обширная пещера, свод которой опирался на толстые, в беспорядке разбросанные каменные колонны. Но при этом оставалось странное ощущение одинаковости в чем-то главном: как будто очень талантливый художник написал картину, в которой изо всех сил старался манерой не походить на себя самого. Все – другое. Но рука та же…
И – было очень холодно. Стыло. Трудно сказать, сколько градусов, но лицо уже одеревенело, и немели пальцы в меховых перчатках.
Луч фонаря дробился на каменных гранях.
Вот она, черная дверь…
Гусар опустил голову и коротко проворчал что-то.
– Да, – сказал Николай Степанович. – Можно сказать: пришли.
Он снял с плеч рюкзак, Достал, освобождая каждую от оплетки, шесть бутылок с «тьмой египетской». Связал их по три скотч-лентой. Треск ленты казался оглушительным.
– Скорее всего, там пусто, – сказал он Гусару. – Рыцарь Поликарп явно открывал эту дверь, а значит – ящеры за ней начали оживать. И ожили они в непроглядную тьму: Что же касается стражей: посмотрим. Так ли уж они непобедимы. Но на всякий случай: сам понимаешь.
Он присел и обнял пса. Пес прижался к нему головой и лизнул смущенно в щеку.
Потом высвободился из объятий, взял зубами одну связку бутылок и подошел к двери.
Николай Степанович достал портсигар, открыл. Потом наклонился и взял в руки вторую связку бутылок.
Когда он выпрямился, двери перед ними уже не было.
Она не поднималась медленно, как та, в Антарктиде. Она просто исчезла.
Распалась тут же погасшими искрами.
За дверью был сумрак – примерно как в белую ночь. Бесконечно высокий свод светился зеленовато-сиренево. Ровный пол из матового камня лежал под ногами, и по нему от двери расходились чуть заметные темные линии – как лучи нарисованного черного солнца.
У самой двери, слева, лежал ничком мертвый ящер.
Он был тонкокостный, с маленьким хвостом и узким торсом. Если бы он стоял, то был бы чуть выше двух метров. Ноги пропорционально были чуть длиннее человеческих, а четырехпалые руки чуть короче. Удлиненная голова венчалась аккуратным костяным гребнем. Лицо производило впечатление почти человеческого – разве что нос коротковатый и приплюснутый, а подбородок – узкий и скошенный назад. Полузакрытые глаза были выпуклы и огромны…
Насрулло в сравнении с ним выглядел гориллой.
Гусар подал голос.
Николай Степанович встал и посмотрел туда, куда смотрел пес. Чуть выделяющееся на общем фоне, желтело продолговатое пятно.
– Посмотрим?
– Ггг: – не разжимая зубов.
– Забрать бутылки?
Гусар покачал головой.
Осколок стекла завизжал под подошвой. Потом – горлышко зазвенело, откатываясь в сторону.
Мертвые ящеры лежали так, будто умерли час назад. Рум. Время идет как-то по– своему.
Желтое пятно приблизилось. Обрело очертания.
На невысокой – по грудь человеку – возвышенности лежал золотой дракон.
Взгляду были доступны только морда и передние лапы, неожиданно напоминающие львиные лапы сфинкса.
С приближением к дракону становилось светлее.
Даже не было страха.
Веки дракона дрогнули. «Да,»– сказал он.
Он не издал ни звука, и в голове Николая Степановича не звучал голос – просто почему-то ясно было, что дракон только что сказал «да».
– Что значит «да»? – спросил Николай Степанович.
Он уже вроде бы не шел вперед, но все равно приближался к дракону все ближе, и ближе, и ближе. Гусар стоял рядом с ним, прижавшись к колену, и дрожал напряженно. «Да – это мой конечный ответ. На череду вопросов, которые ты задашь. Которые есть один-единственный главный вопрос.»
– Тогда скажи мне свое имя. «На самом деле у меня нет имени. Я – золотой дракон Дево, но »Дево« здесь – не имя, а знак принадлежности. Я принадлежу Дево. Которых нет.»
Странно – они уже стояли, упершись в возвышение, на котором лежал дракон, а он все еще продолжал приближаться, будто бы выплывая из темноты…
– Почему же ты жив? «Я не жив. Я золотой дракон. Я просто есть.»
Дракон еще приподнял веки, и в черном зеркале глаз Николай Степанович увидел себя и Гусара, маленьких и изогнутых, как отражения в хрустальном бокале, и тогда он решительно поставил бокал на стол и посмотрел на Фламеля.
– Так удобнее беседовать, – улыбнулся Фламель.
Они сидели в «африканской комнате» и пили стариннейший, двадцать третьего года, «Мартель», завалявшийся в подвалах Фламеля. Две бутылки его, в паутине и пыли, он принес и выставил, улыбаясь. на стол. Гусар, встретивший его настороженно, теперь расслабился и лежал рядом с террариумом, слушая неумолчную возню проглота.
– Я понимаю, что удобнее, – сказал Николай Степанович. – И все-таки я для начала хотел бы уяснить…
– Попробую, – сказал Фламель. – Тысячу лет не пил такого коньяка: Что сказать?
Слуги, домовые и призраки пережили хозяев дома, но продолжают накрывать на стол, прогонять злых духов и пугать мышей: звенеть цепями в сводчатых подвалах: Вы меня понимаете?
– В основном. Собственно, что-то подобное мне мерещилось. Но конкретно…
– После великой войны остались всего две расы. Они условились, что усыпальницы будут находиться на противоположных полюсах планеты, что искусственные существа, которые должны заботиться о целостности усыпальниц, не будут похожи ни на одну из рас – и даже при их необыкновенной способности изменять внешность они не смогут принять вид ни Дево, ни Сора.
Эти существа – мангасы – имеют не только интеллект, сравнимый с интеллектом их Творцов, но и мощнейший инстинкт, программу, которая может при необходимости подчинять себе интеллект, направлять его на исполнение Цели…
Да, это было обусловлено, но и Сор, и Дево в тайне друг от друга заложили в некоторых мангасов, еще в зародыши, в яйца – чтобы невозможно было обнаружить – программы уничтожения усыпальниц противника. Да, война продолжалась. Ледниковый период, вызванный Большой войной, подходил к концу, когда выяснилось, что обе усыпальницы уничтожены. Создатели довели до конца дело своей жизни: Хотите знать, что собой представляла их цивилизация?
– Вы не поверите, – сказал Николай Степанович, – но – совершенно не хочу.
– Хм: Что ж, определенная мудрость в таком подходе есть. Впрочем, если передумаете и решите узнать что-то подробнее – я всегда к вашим услугам. Для непредубежденного ума тот уклад жизни имел свои прелести: Один дуэльный кодекс чего стоил. Дуэль была важнейшим государственным институтом: Да, вы же сказали, что не желаете ничего знать о них.
– Именно так.
– Тогда я возвращаюсь к временам позднейшим. Подходил к концу ледниковый период, мангасы – кто-то в образе змей, кто-то – обезьян, – несли службу: и вдруг удар: Создатели мертвы. Умом мангасы все могли понять, но – инстинкт, но – программа: Это было сильнее. И мангасы, зная о том, что жизнь их отныне бесцельна, продолжали вести себя так, как будто Создатели живы и лишь по каким-то высшим причинам медлят с выходом. Даже себе мангас не мог признаться в том, что Цели Жизни более не существует. При этом все прекрасно зная. Представляете коллизию?
– Очень человеческая коллизия. Наблюдал многократно.
– Так ведь – оттуда и пошло: Думаю, вы способны представить себе, что именно может изобрести изощренный разум, с этой коллизией разбираясь?
– Миллион вариантов.
– И еще тонкость: разум, не знающий лжи.
– М-м…
– Скажем, мать, потерявшая младенца, начинает няньчить куклу: Вы уже догадались?
– Куклу? Скорее уж – щенка, котенка…
– Котенка. Или маленькую обезьянку. Кстати, мысль развить кошачьих была. Но перевести гепардов на смешанное питание не удалось; а разумные хищники – это неперспективно. Поэтому остановились именно на обезьянах.
– А как к этому отнеслась программа?
– Все можно обмануть, было бы желание и время. Перед программой появилось оправдание: создается полуразумный помощник, он же – мясной резерв, он же – игрушка: Отсюда четыре ветви: белые, черные, желтые, красные – по цветам Создателей. Ну, и прочее.
– Так. А потом?
– Вас это не шокировало?
– Нет. В конце концов, все было так давно…
– Беда в том, что эти оправдания перед программой становились со сменой поколений мангасов частью Цели. Понимаете? Деды обманывали как бы сами себя, оберегая от суда какие-то свои незаконные устремления, но перед внуками этот обман вставал как святая истина. Тоже знакомо, не так ли?
– Да. К счастью, лично меня это миновало: но наслышан. Наслышан.
– Кроме того, в каждом поколении появлялись те самые диверсанты, о которых я уже говорил. Они тоже имели особую программу, против которой были бессильны – хотя и знали, что исполнение ее бессмысленно. Тем не менее несчастные усыпальницы хотя бы раз в тысячелетие подвергались очередной атаке – как правило, успешной. Я могу знать не все, но и того, что знаю, достаточно: усыпальница Сора была уничтожена шестнадцать раз, усыпальница Дево – семь.
– Уничтожены? Но я же…
– «Уничтожение» в понятиях Создателей – это почти антоним «разрушению». Может быть, поэтому они были так шокированы оружием Йрта, которое превращало в пыль все, на что было обращено. Конечно, разрушить усыпальницу можно, хотя и очень трудно, чрезвычайно трудно: зато убить Спящих оказалось довольно легко. Последние пятьдесят-шестьдесят тысячелетий диверсии производились руками людей…
– Так, – сказал Николай Степанович.
Почти не чувствуя вкуса, он допил свой коньяк. Фламель смотрел куда-то мимо него.
– Мне очень жаль, – сказал Фламель. – Но мы: мы оказались почти бессильны перед нами самими. И когда стало ясно, что так мы доведем дело до нового ледникового периода, а то и до полной стерилизации планеты…
– Это когда погибла Атлантида?
– Нет, значительно раньше. Когда образовались Сахара, Гоби, Амазонская низменность: там были центры цивилизации: царства Инугаах и Мальбет, вольное сообщество Ке: Кстати, Атлантида не погибла. Она, как бы это сказать: обособилась. Но это было двадцать тысяч лет спустя. А в те времена она была диким островом, населенным людоедами и колдунами. Так вот, тогда и возникла мысль, что мангасы должны что-то противопоставить самим себе. Как вы понимаете, такую крамолу ни один мангас не мог вместить в свое сознание целиком. Но по частям: вы меня понимаете? Я знаю первое слово фразы, вы – второе, кто-то незнакомый – третье…
– Кажется, понимаю.
– Самая страшная конспирация – конспирация перед самим собой. Мелкие и будто бы ни на что не влияющие действия. Незначительные просчеты и ошибки: как бы просчеты и ошибки: Наконец, роли. Войдя в роль, можно позволить себе нечто большее, не так ли? А роли мы себе избирали не просто «кушать подано»: хотя и без этого не обходилось: Человечество возрождалось, и мы при сем скромно присутствовали. Пугая, подсказывая, направляя…
Николай Степанович посмотрел на сидящего перед ним, вспомнил, какова роль Фламеля, и медленно кивнул.
– И в каком же положении мы с вами находимся сегодня?
– В очень сложном. Похоже, создавая противодействие самим себе, мы переусердствовали. Вы знаете, что многие знания мангасов перекочевали к людям, и использовать они их намерены уже друг против друга. Все это пока еще глубокая тайна, но рубеж очень близок: Собственно мангасов сейчас уже очень мало – триста одиннадцать. И две тысячи четыреста яиц. Даже если истребление яиц прекратится, в чем я не уверен…
– Понимаю. Но не могу сказать, что сочувствую.
– Несмотря на то, что само существование человечества – наша заслуга? Что поэзия: подбор звуков и смыслов в резонанс колебаниям мировых линий – тоже наше изобретение? Что…
– У меня случай, аналогичный вашему. Умом все понимаю, но ничего не могу с собой поделать.
Фламель усмехнулся.
– Еще коньяк?
– Да, если не трудно…
– Хочу повторить: нас уже очень мало, чтобы на что-то реально влиять. Но при этом мы буквально начинены всеми знаниями Создателей, и предыдущей цивилизации людей, и атлантов – а это было нечто необычное, поверьте, они во многом сумели превзойти самих Дево, – и множеством тайных умений новейшего времени. У нас есть внутренний запрет на применение всего этого: но у вас-то такого запрета нет…
– Простите? – Николай Степанович поперхнулся коньяком. – Что вы хотите сказать?
– Что вы можете пользоваться ими по вашему собственному усмотрению.
– Не понял: С какой стати?
– В незапамятные времена Верховный мангас Лу потерял – совершенно случайно, как вы понимаете – то, что можно назвать ключом. Или Словом Власти. Или Именем Бога. Как хотите, на выбор. И ключ этот, путешествуя из рук в руки, выбрал почему-то вас…
– Выбрал?..
– Или задержался у вас, если вам так больше нравится.
– Постойте. Зачем это было сделано? Цель?
– Говорю же – совершенно случайно. Выпал из кармана. Мангас Лу был страшно расстроен.
– Похоже, – Николай Степанович достал портсигар, посмотрел на него, – мне, как честному человеку, следует вернуть находку законному владельцу…
– Мангаса Лу нет с нами много лет. Ключ ваш. Можете подойти к двери и открыть ее.
– И что за дверью?
– О, многое. Допустим, вот это. Как пример…
Фламель вынул из внутреннего кармана свернутую трубочкой газету. Из нее выпали какие-то пожелтевшие вырезки. Сама газета была глянцевая, тонкая и шуршащая, цветные заголовки: «Иркутские ведомости», 1990, 4 января. Статья на разворот, и в центре овальная фотография: офицер с удивительно знакомым худым лицом, со «Св. Георгием III степени» на шее: «Забытый юбилей» – название статьи. И ниже, петитом: «Сто лет со дня рождения Павла Москаленко».
Павлуша! С ума сойти…
Забытый юбилей.
«В наше бурное время среди праздников и трудов, забот и сомнений иногда совершенно незамеченными проходят даты, знаменующие события важные, судьбинные, но по причинам то ли конъюнктурным, то ли случайным задвинутые в тень, в темный исторический чулан, а порой и выброшенные как будто бы за ненадобностью из дому. Кто вспомнит сегодня, что ровно сто лет назад в городе Иркутске на улице Знаменской в семье отставного военного врача родился мальчик, которому суждено будет сказать свое веское слово в истории Отечества, но которого за слово это проклянут, оболгут и возненавидят? Более того, приняв слишком близко к сердцу эти проклятия, он всю жизнь свою проживет с каиновым клеймом братоубийцы. Однако давайте попробуем отойти на время от готовых клише, навязанных народу в свое время либеральной прессой, и еще раз присмотреться к этому офицеру, »палачу Петрограда«, »душителю свобод«, »помеси Аракчеева и Бонапарта"…
В раннем детстве потерявший мать и отца, мальчик был выращен дедом, человеком образованным, суровым и сильным. Закончив с золотой медалью гимназию, он решил пойти по его стопам и поступил в учительскую семинарию, по завершении которой уехал в село Култук школьным учителем. Однако страстное увлечение природой и обычаями народов родного края подвигли его на научную стезю, и в тысяча девятьсот тринадцатом году мы уже видим его работником естественно-исторического музея при отделении Географического Общества. Уже был составлен план монголо-бурятской этнографической экспедиции, когда грянули залпы Великой войны.
С первых месяцев вольноопределяющийся Москаленко на фронте. Ранение, школа прапорщиков, первый офицерский чин. В неудачной кампании пятнадцатого года взвод подпоручика Москаленко в течение трех суток удерживает безымянный железнодорожный разъезд, обеспечивая отвод наших войск. За этот подвиг – первый Георгиевский крест и производство по службе. К марту семнадцатого года Павел Москаленко уже штабс-капитан и кавалер ордена Св. Георгия III степени – ордена, который в то время мог быть пожалован самое малое полковнику.
Отречение государя Императора Николая II штабс-капитан Москаленко воспринял крайне болезненно и некоторое время был близок к тому, чтобы, подобно многим офицерам, оставить службу – четыре ранения позволяли ему совершить это без урона чести. Однако солдаты батальона, которым он командовал, не позволили ему сделать этот шаг, могший стать роковым не только в его судьбе, но и в судьбе Отечества нашего.
После неудачного июньского наступления полк, в котором служил Москаленко, был выведен на пополнение и переформирование в район Луги, в лесной лагерь.
По распоряжению генерала Корнилова все четыре батальона были сведены в один, командовать которым назначен был штабс-капитан Москаленко.
Интересно, что это назначение охотно приняли командиры других батальонов, будучи выше чином. Доблесть и воинское умение бывшего сельского учителя тем самым оказались общепризнаны.
Благодаря некоторой удаленности лагеря от населенных мест, а также железной дисциплине, установленной новым командиром вразрез с практиковавшимся в армии губительным своеволием нижних чинов (что было, как ни покажется странным, поддержано батальонным комитетом), общее разложение армии не коснулось батальона. Интенсивно велась учеба: командир поставил перед собой и всеми солдатами и офицерами задачу создать архибоеспособное подразделение, заведомо сильнейшее, чем равное по численности германское. «Мы выбивались из сил, для сна оставались считанные часы, – рассказывал позже майор Корженецкий. – Мало того, что солдатиков необходимо было научить всему военному искусству – их требовалось и оградить от тлетворного влияния многочисленных и наглых от осознания безнаказанности вражеских агентов. Бог знает, каким чудом нам удалось отстоять их умы и сердца:»
После того, как генерал Корнилов, преданный Керенским, «оказался» мятежником и заговорщиком, с Москаленкой произошла некоторая перемена. «Он будто бы увидел что-то впереди, – рассказывает далее Корженецкий, – и отныне был подчинен лишь достижению той невидимой нам цели:»
И когда в октябре к Петрограду были двинуты войска, а затем остановлены приказом командующего округом, Москаленко приказа не выполнил и продолжал движение к столице.
Вечером двадцать четвертого октября сводный батальон вошел в Петроград по Ижорской дороге.
Уже было доказано с цифрами в руках, что мятеж в столице был обречен на неудачу, что против едва десяти тысяч плохо вооруженных боевиков и матросов разложившегося от безделья Балтийского флота было повернуто сто пятьдесят тысяч штыков верных правительству частей, что гарнизон восстание не поддержал и оставался по крайней мере нейтральным, что имевшемуся у мятежников крейсеру негде было развернуться между мостами и набережными, и что нужно было всего лишь дождаться прибытия этих самых частей, чтобы одним моральным давлением заставить мятежников разойтись по домам: Все это, разумеется, так. И все же что-то заставляет все новые и новые поколения историков и публицистов доказывать и доказывать и доказывать это, по их мнению, очевидное.
Батальон по дороге рос, как снежный ком: к нему присоединились две казачьи сотни, шестидюймовая батарея, бронеавтомобильный взвод; кроме того, вооруженные студенты и гимназисты, вышедшие в отставку офицеры и рабочие образовали милиционерскую роту под командованием прапорщика Гринштейна.
Около полуночи произошло первое вооруженное столкновение: группа пьяных матросов попыталась остановить продвижение колонны…
Всю ночь и большую часть дня батальон метался по городу, как рикошетящая пуля, терзая и разя. Но не следует все жертвы этих действительно страшных часов взваливать на печи москаленковцев: и если чудовищный разгром на Миллионной улице и в Смольном – дело рук, безусловно, усмирителей, то побоище на Мойке учинили латышские стрелки и саперы, замаливающие свое участие в мятеже. Разрушения же в городе произведены были по большей части снарядами «Авроры».
Да, наличие крейсера было серьезным козырем в руках мятежников. Но одно дело грозить из жерл неподвижным и беззащитным дворцам – и совсем другое вести борьбу с того же калибра орудиями, бьющими с закрытых позиций. Два часа отряды мятежников, столпившись на Арсенальной набережной, наблюдали из безопасного далека за ходом сражения; наконец малоповоротливое и слабобронированное времен Цусимы чудовище получило четыре попадания кряду, загорелось и врезалось в быки Двоцового моста: В сущности, это был конец мятежу, но еще долгих десять часов свистели пули и лилась кровь.
Позднее хмурое утро двадцать пятого было отмечено исходом из города матросов: на миноносцах и лодках, катерах и ялах они плыли к Кронштадту. Им стреляли вслед, но лениво. А чуть позже разбрелись по домам и боевики– «красногвардейцы». Патрули измученных москаленковцев блуждали по пустому холодному городу. В здании городской Думы для них устроили временную столовую; проглотив по несколько ложек горячей каши и по кружке сладкого кипятка, они шли дальше, на ветер и колючий летящий снег. Поздно вечером к перрону Балтийского вокзала прибыл первый эшелон с фронта…
Вот тогда оказалось, что гарнизон исправно несет свою службу.
Тем временем Москаленко арестовал командующего округом Полковникова и объявил себя «временным диктатором» столицы…
Два дня спустя собравшийся в Народном доме второй Съезд Советов осудил авантюру большевиков и анархистов и призвал временное правительство к скорейшему созыву Учредительного собрания.
А тридцатого октября вернувшийся с войсками Керенский арестовал Москаленко за превышение власти и неподчинение приказам…
Лишь в двадцать втором году он вышел из тюрьмы – последний из арестованных по октябрьским событиям. Уцелевшие в ночь мятежа главари повстанцев либо были спроважены за границу, либо заседали в Думе. Так что амнистией, дарованной Алексеем Николаевичем по случаю принятия Конституции, воспользовался он один.
Два года спустя Павел Григорьевич Москаленко вернулся в родной Иркутск.
Музей принял его и долгие годы был ему надежным пристанищем. Однако жизнь Павел Григорьевич вел уединенную и никаких бесед о прошлом ни с кем не вел.