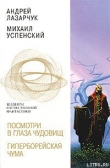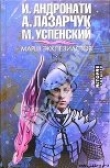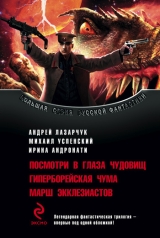
Текст книги "Посмотри в глаза чудовищ. Гиперборейская чума. Марш экклезиастов"
Автор книги: Андрей Лазарчук
Соавторы: Михаил Успенский,Ирина Андронати
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 82 страниц) [доступный отрывок для чтения: 30 страниц]
– Именем Творца, Вечного и Неназываемого, принимаю на душу свою часть ноши тех, чьей мышцей держится свод мироздания, и клянусь никогда, ни по доброй воле, ни по злому умышлению, не слагать с себя взятой тяготы. Клянусь чтить моих Учителей и Наставников, старших братьев и отцов, и повиноваться им во всем. Клянусь уважать равных мне и тех, кто ниже меня, любить их и учить всему, что превзошел сам. Клянусь хранить тайну, доверенную мне, и не разглашать никому и никогда смысл Слов и Знаков, могущих изменить природу Мира. Клянусь гнать и преследовать зло во всех его воплощениях, и прежде всего в себе самом. И когда грянет последний бой, клянусь быть там, куда поставит меня воля Тех, кто старше меня, и быть стойким до конца…
Примерно так я перевел то, что произносил нараспев следом за Учителем Рене.
Позже я переложил эту клятву в стихи и включил в третью книгу «Начала» – в «Послушника».
Испытания перед посвящением, которых так страшились мои младшие братья, я преодолел сравнительно легко. Да и то сказать: человека, пережившего гражданскую войну в Петрограде, тьма, холод и голод ни удивить, ни сломать уже не смогут. А всяческие «искушения святого Антония», насылаемые безжалостными экзекуторами, мне иногда удавалось даже развеивать самостоятельно: уроки Брюса пошли впрок, да и природные способности у меня, как выяснилось, были изрядные. Старшие Учителя, в отличие от незабвенного моего директора гимназии Иннокентия Федоровича, никаких поблажек никому не давали и вообще старались никого не выделять, дабы не возбудить ни в ком зависти, легко могущей вывести новопосвященных на черную тропу.
И вот мы, преодолев за сорок дней символический путь от рождения до смерти, как бы рождались вновь для иной жизни. В пещере не было никаких устрашающих изображений, зловещих факелов, человеческих черепов и прочего излюбленного профанами реквизита. По очереди мы выходили из подземелий предыдущей жизни на крошечную терраску. Напротив, отделенный пустым пространством, стоял вырубленый из белого камня постамент в виде древнего города, обвитого по стенам девятью кольцами тяжелого змеиного тела. На стенах стояли Учителя и гости, все в белых одеждах, освещенные голубым газовым светом. Оставалось последнее, самое трудное для меня испытание: пройти к ним над разверзшейся внизу пустотой (были видны даже далекие звезды) по каменному мостику в две ладони шириной.
Я сотворил молитву Приснодеве и шагнул на мостик. Чего другого, а высоты я боялся всегда – и не упускал случая поиграть с этим страхом. Но здесь была даже не высота, здесь была Бездна… И вдруг – не знаю сам, почему – я внезапно успокоился. Будто подо мной и не бездна вовсе, а теплая неторопливая тропическая река, в которой отражаются южные созвездия…
Учителя свободно переходили с санскрита на латынь, на греческий, на еврейский, а временами обменивались между собой какими-то уже совершенно чуждыми людскому уху фонемами. Вот нас уже было пятеро перед ними, когда за спинами нашими раздались крики ужаса. Нельзя было оборачиваться, но я забыл об этом. Я – обернулся…
На самой середине мостика еще махал руками, все сильнее клонясь, самый пожилой из нашего выпуска – китайский художник Дэн. Вот последний отчаянный взмах, последняя попытка задержаться: Я был уже на мостике, когда его босые ноги расстались с камнем. Меня схватили за руки: кажется, я тоже начал падать.
Крошечная фигурка китайца пропала среди звезд…
Меня держал мертвой хваткой маленький индеец-кри по имени Вспорхнувший Дятел. Ему-то всякая высота была нипочем, недаром его племя нашло себя в многоэтажной Америке, навострившись мыть окна в небоскребах, монтировать мосты и чистить высотные зернохранилища.
Мы посмотрели друг на друга с великой скорбью. Надо же, в последний момент…
Нам предстояло теперь то ли позорное отчисление, то ли прохождение курса сызнова. Более спокойные и уравновешенные наши соученики по-прежнему стояли на коленях, строго глядя перед собой. Они уже чувствовали себя перешедшими в иную категорию, подчинялись иным законам…
Ошиблись и мы, и они. Именно Дятел и я – двое из всего выпуска – были допущены к произнесению клятвы. Спокойных же ожидал выбор между отчислением и новым, несравненно более суровым и опасным, кругом испытаний. Мало кто сумеет пройти этот круг…
– Слава Творцу всего сущего, на этот раз перед нами стоят двое, – сказал Учитель Рене. – Бывали годы, когда вовсе не находилось достойного произнести клятву…
– Учитель, – спросил я, – а что с Дэном? Он погиб?
– Нет, – сказал Рене. – Он уже очнулся в своей любимой опиекурильне, и трубка в его руке все еще сохраняет тепло. Рядом лежит в столь же блаженном забытьи его друг актер, и сизый дымок растекается в воздухе, и пахнет яблоками…
Я никогда не понимал таких вещей и даже не пытался понять. Так было, и все.
– Но отчисленные – они же не дают клятвы молчания…
Учитель Рене тонко улыбнулся.
– При поступлении вы вручали нам не только свою жизнь, но и свою память…
И вот мы стояли перед теми, кто носил белые одежды, и повторяли за Рене:
– …и клянусь нарушить эту клятву, если этого потребуют от меня долг, совесть и милосердие, и быть готовым ответить за свое решение. Да канет Зло. Да славится Творец. Профан воздвигает башню, посвященный складывает мозаику.
И на нас накинули белые одежды.
Потом началось торжество. Надо сказать, что застолье было аскетическое в самом подлинном смысле этого слова. Сравнить его можно было разве что с нашими пирушками в Доме Искусств в девятнадцатом: под черные ломтики с патокой и морковный чай:
В этом обществе, первоначально задуманном как чисто военный орден, более всего ценились прежние заслуги. Мы с Дятлом чувствовали себя двумя кадетами, внезапно попавшими на подписание Тильзитского мира. Или, скажем, на совет Александра Македонского с будущими диадохами. Или в ставку Иисуса Навина перед штурмом Иерихона…
Нас подвели к царю Ашоке, которого держали под руки два дюжих мальгаша из туземной прислуги. Глава Союза Девяти был маленький, щуплый, носатый, темнолицый и черноглазый. Доживи Александр Васильевич Суворов лет до ста сорока, он выглядел бы так же.
Царя посвятили более двух тысяч лет назад и уже в преклонном возрасте.
Омолаживаться же великий миротворец наотрез отказался: станешь молодым, захочется воевать, объяснял он…
– Надеюсь на вашу помощь, юноши, – сказал он глуховатым, но ясным голосом. – Нас по-прежнему девятеро, а смертоубийственных творений человеческого ума с каждым годом становится все больше и больше:
Союз Девяти уважали больше по традиции, но за реальную силу уже не принимали. Заслуги Союза в прошлом были огромны: именно благодаря их деятельности китайцы, открывшие порох и державшие неисчислимый флот, не сумели ни завоевать Европу, ни открыть Америку, ни даже отлить пушек.
Удалось им отсрочить появление парового двигателя и боевых ядовитых газов. А секрет «греческого огня» (простой, как рецепт гречишных блинов) так и не был разгадан: Когда же Михайла Васильевич Ломоносов своим несокрушимым крестьянским умом вплотную подобрался к Мировому Эфиру и готов был вытрясти из него все тайны, Девятеро Неизвестных просто-напросто упразднили в природе само понятие флогистона, и разочарованный Ломоносов ворвался в Академию де Сиянс с криком: «Нет газу теплороду!», по пути прибив до крови парочку заезжих умников…
Но с течением веков могущество и влияние Союза постепенно умалялись, и это не вина его была, а объективная истина. Тайный образ действий, закрепленный семипечатной клятвой непрямого вмешательства, не позволял расширять круг членов Союза – а военных конструкторов становилось все больше и больше. И в Европе, и, тем более, в Новом Свете, практически Союзом не контролируемом.
Им еще удавалось что-то, но чем дальше, тем меньше – и бессистемнее.
Последняя война окончательно выбила стариков из колеи. Давно следовало влить в состав Девяти Неизвестных свежую кровь, однако этому препятствовали традиции: да и трудно спорить с людьми, самый младший из которых родился за два года до Христа.
Потом нас призвал тот, кого мы знали под именем инока Софрония, а русская история под несколькими иными именами, единственный уцелевший из трех зиждителей Пятого Рима, ныне – номинальный глава Ордена. Даже здесь он носил черную рясу и черную скуфейку.
Он протянул руки для благословения. Правую ладонь пересекал тонкий белый шрам. Именно об эту хрупкую длань преломился дамасский клинок нойона Арапши, любимца Бату-хана.
– Служите Господу и миру, – просто сказал он. – Близок наш день.
За годы учения во мне зародилось, а по прошествии лет созрело и укрепилось ощущение, что Орден наш живет и существует по законам затерявшегося в бескрайней степи форпоста. Мы ежедневно чистим ружья и точим клинки, обновляем запасы пороха и солонины, все ждем неприятеля – но когда он появится, откуда, и кто он будет – узнаем только в решающий день. А мы все равно тупо чистим ружья и выполняем полагающиеся артикулы… И по вечерам у котла с кулешом усатые ветераны рассказывают уже поседевшим новобранцам страшные сказки:
И что самое обидное – далекие всадники, время от времени возникающие на горизонте, не обращают на нашу крепость никакого внимания.
3Джейку нередко приходилось видеть фотографии трупов и, хотя ни одну из них он не мог рассматривать с удовольствием, некоторые были вовсе не так уж плохи.
Джон Гришэм
– По-моему, я обоссался, – честно сказал Вовчик потом, уже в машине. – Немного, но все равно обидно. Мы так не договаривались, Николай Степанович… Ну, думал я, что крутой мужик попадется, покруче, может, и евпаторийских – но не до такой же степени: не с хвостом же… Какой-то парк юрского, мать его, периода…
– У меня вместо тела один синяк остался, – хмуро сказал Тигран. – Вовчик, ты Галке подтвердишь, что махаловка была, а не иное что…
– Галка мне с детства не верит, – вздохнул Вовчик.
– Зато теперь вы можете действительно купить танк, – сказал Николай Степанович, открывая кейс.
– Много? – спросил Тигран, отворачиваясь.
– Много.
– Это плохо…
– Почему же?
– Всегда плохо, когда много денег. Раздор начинается. Боюсь.
– Да брось, Тигр, какой раздор, о чем ты? – Вовчик удивился вполне натурально.
– Ты не видел, – сказал Тигран. – А я видел. Один армянин всего-то за пятнадцать косых родному брату голову отрезал и азербам принес. Потом мы его: но уже потом. Командир, может… – он замолчал.
– Я понимаю, ребята, – сказал Николай Степанович. – Маневры кончились, начинается война. Думайте.
– Не понимаю, какие проблемы? – фыркнул Вовчик. – Ну, будут деньги. Хорошо. Ну, не будет. Хотя они уже есть. Так ведь обходились же…
– В общем, предложение у меня такое, – сказал Николай Степанович. – Сейчас вы идете в ресторан. Надираетесь. Берете ящик шампанского с собой. Снимаете девок. Возвращаетесь шумно и весело. С песнями, с плясками, с бубнами звонкими. Дежурную в номер тащите. Там, наверное, уже паника. Если же нет…
Короче, постарайтесь так сделать, чтобы на люкс приоткрытый она внимание обратила. А потом – скандальте, съезжайте, требуйте чего-нибудь несусветного.
И тут вдруг Вовчик забился, тонко подвывая. Не сразу стало понятно. что он зашелся в хохоте.
– Ты чего? – спросил Тигран.
– Менты… менты над ящером стоят: я как представил… и героин у него в брюхе… о-ой, счас опять уссусь:
– Вылезь, отлей, – посоветовал Тигран.
Вовчик выпал из машины и, скривясь на бок, шагнул к темным кустам. Гусар приподнялся с сиденья и посмотрел ему вслед.
– Что там? – спросил Николай Степанович.
Гусар мотнул головой и снова лег.
– Показалось, – понял Тигран.
– Вам надо расслабиться, – сказал Николай Степанович.
– А вам, командир?
– Боюсь, что нельзя. Тем более, нас не должны сегодня видеть вместе. Хотя все это, конечно, чушь, но гусей дразнить не стоит.
– Таких гусей не то что дразнить, командир – знать о них не хочется. Вам понятно было, о чем он говорил?
– Да. Сравнительно.
– Он кто? Из космоса?
– Нет. Коренной землянин. Кореннее нас. Для него мы пришельцы незванные…
– Гады, – искренне сказал Тигран.
Гусар опять тревожно заворчал.
– Да что там Вовка копается, сколько в нем воды: – Тигран пригнул спинку переднего сиденья, полез наружу. – Вовка!
Николай Степанович вышел тоже, вытянул из-под приборной доски «узи».
Гусар молча пошел в темноту.
Вовчик стоял в пяти шагах, за кустами, привалившись лицом к забору.
– Эй, боец, – тряхнул его за плечо Николай Степанович.
– Да, – слабым голосом отозвался Вовчик.
– Что с тобой?
– Нормально… уже все… Уже прошло.
– Что было, Вовка? – рядом возник Тигран.
– Нет… это… Сковало меня, ребята… жуть какая-то. Как будто… не знаю. Не могу объяснить. Пойдемте отсюда…
Они сели в машину и поехали куда глаза глядят. Минут через двадцать Николай Степанович высадил бойцов у ресторана «Приют Ермака». Последний приют Ермака, продумал он, глядя в спины бойцов, исключительно рыбные блюда…
– Ты их побереги, – сказал он Гусару. – Близко не подходи, а так, со стороны…
Гусар белой тенью ушел во мрак.
Вернулся пес под утро. Глухой стук в дверь совпал с телефонным звонком.
Николай Степанович открыл, прижимая трубку головой к плечу.
– Явился, бродяга, – сказал он. – Извините, я не вам… Тихонов слушает.
– Начальник уголовного розыска полковник Шапшелевич.
– Здравствуй, Олег Наумович. Что, опять нумизматика?
– Да нет, Николай Степанович, дело куда серьезнее…
Так. подумал Николай Степанович. Или ребята влипли, или я влип. Н-ну…
– По телефону даже как-то и не объяснить… Ты же у нас специалист по всякой нечисти?
– Я? По нечисти? Я, скорее, по древним культам.
– Я не в том смысле. Настоящая нечисть, в натуре. Я же твоего проглота помню…
– И… что? Он у меня как сидел, так и сидит. Срок мотает.
– Машинку я к тебе подошлю. Тут есть на что посмотреть.
– Да у меня своя у подъезда стоит. Скажи, куда ехать.
– Гостиница «Октябрьская». Там тебя встретят…
– Понял. Сейчас чай проглочу да собаке корму задам, всю ночь пробегал…
С начальником городского уголовного розыска Олегом Наумовичем Шапшелевичем у Николая Степановича в свое время возникло небольшое недоразумение, в результате которого они чуть не поубивали друг друга, но потом во всем разобрались и время от времени обменивались взаимными услугами. Шапшелевич раз и навсегда уяснил, что гражданин Тихонов никакого отношения к уголовному миру не имеет, а больше ему ничего и не нужно было.
Мало ли какие люди водятся на свете?
Выносили тело Ящера Абдухакимовича человек шесть. Четверо еле волокли носилки за ручки, и еще двое, продев под носилками скрученное покрывало, пытались облегчить участь товарищей. Рядом уже крутились ребята с видеокамерами, под нос Шапшелевичу совали микрофоны и требовали немедленных, по горячим следам, комментариев. Олег Наумович вяло отбивался. Тут по причине узости дверного проема, не рассчитанного на вынос усопших ящеров, простыня предательски сползла, и толстый зеленый хвост бухнул шипами по паркету.
– Убрать камеры! – сорвавшимся голосом закричал Шапшелевич, но было уже поздно. – Пленку засвечу!..
Николай Степанович приобнял разошедшегося полковника.
– Зря ты, Олег Наумович, – сказал он негромко. – Во-первых, магнитная пленка не засвечивается. А во-вторых, если делать все по уму, ты на этой твари верхом в Москву въедешь…
Золотая дверь. (Поповка, 1897, лето)Глаза чудовища были круглые и отливали тусклым серебром. Морщинистые веки медленно опускались. Дракон делал вид, что не обращает на меня никакого внимания. Он поднял лапу, поискал, куда ее поставить. Поставил. С неуклюжим изяществом переволок белое брюхо через ствол секвойи, преграждавший ему путь. Сделал два быстрых шага и приподнял тупую морду. Я возблагодарил Создателя, что дракон не может подняться на задние лапы, подобно тиранозаурусу рекс: лапы были не длиннее и не мощнее передних. Это был ползающий дракон. Кожа его отливала перламутром. Чешуйки были настолько мелки, что сливались. Поэтому многие недалекие драконоведы, не покидавшие своих пыльных кабинетов, называли его иногда «голым драконом». Но нам-то, настоящим охотникам в джунглях, хорошо известно, что пронзить эту шкуру возможно лишь клинком из Голконды, закаленным в теле молодого мускулистого раба-нубийца.
Я попятился. Дракон обогнул ствол каинова дерева и приник к земле. Возможно, он почуял меня и приготовился к атаке. Но у меня в руках было кое-что получше голкондского клинка…
Невидимая сеть обрушилась с неба на джунгли, с треском сминая мохнатые пальмовые стволы. Дракон ринулся вперед, но было поздно. Ударившись о незримую преграду, он пометался недолго и вдруг смирился, поняв, что против его древней воли встала другая, еще более древняя сила…
– Коля, кончай жуколиц ловить! – раздалось за спиной. – Минги уже окопались на острове!
Я быстро перевернул банку. Банка была высокая, поэтому тритон не мог ее покинуть без отпускного билета.
– Иду! – крикнул я.
Митя держал в поводу наших лошадей. Остальные воины племени ангирасов уже сидели верхами и проверяли луки и аркебузы.
Я поставил банку в траву, а чтобы не потерять ее, воткнул рядом сухой прут, на который сверху повесил свою соломенную шляпу. Атака началась на рассвете. Солнце стояло уже в самом зените, но атаку в любом случае положено начинать на рассвете. Гром пушек оглушил нас, и белый дым английского пороха поплыл над гладью залива. Визжала картечь. Кони грудью таранили волны.
– Заходи слева! – вскричал я. – Минги – трусливые змеи! Шелудивые собаки!
Воины мои ответили дружным ревом. Град стрел обрушился на нас. Одна пробила мне ухо, да так и осталась болтаться там до конца битвы. Боли я не чувствовал. Потом я велю мастерам племени позолотить стрелу и буду носить как украшение. Все раненые остались в строю, к величайшему неудовольствию противника. Минги вынуждены были покинуть мангровые заросли тальника, где коварно таились. и принять бой в чистом поле. Мы сошлись грудь в грудь. Моим противником оказался реалист Саша Быстроногий Удав. Голкондская сталь против тартесской, ловкость против силы, искусство против коварства. Его вороной жеребец грыз железо. Черные латы мрачно сверкали.
Первым же ударом меча я снес перья белого орла с его вампума. Он ответил прямым выпадом в грудь, я уклонился. Мы обменялись ударами. Искры летели от клинков, озаряя мрак ночи. Кони сцепились и кусали друг друга, обильно роняя на траву кровавую пену. Копыта вязли в песке. Император глядел на нас с крепостной стены в подзорную трубу, скрестив на груди руки, и размышлял, не послать ли нам на помощь Старую Гвардию. Но это было бы позором для нашего славного племени.
Мой противник хотел нанести мне неотразимый удар из-под конского брюха, но, видимо, в горячке боя забыл, что лошадь неоседлана. Он рухнул плашмя, и доспехи взгремели на павшем. Я рванул поводья на себя так сильно, что и сам едва не слетел. Голова Быстроногого Удава оказалась как раз между копытами Зорьки:
Тут чей-то аргамак толкнул Зорьку, и она рухнула на бок. Я успел соскользнуть.
Зорька вякнула и поднялась. Быстроногий Удав лежал неподвижно, раскинув руки.
Бой кончился. Мы все сгрудились вокруг Саши, не зная, что делать. Если бы он нахлебался воды из пруда, тогда дело ясное: перегнуть через колено и колотить по спине. А здесь… Кто-то побежал за водой.
– Что, гимназия, загробил парнишку?
Семинарист Меняйло шел на меня, расставив руки. Странно, что этот великовозрастный парень принимал самое деятельное участие в наших забавах.
Видно, в родной бурсе крепко ему доставалось, а тут он чувствовал себя набольшим.
– Ты полегче, – сказал Митя. – Тебе тут не бурса.
– Не надо, я сам…
Драться всерьез мне приходилось редко. В нашей гимназии это было не принято.
И только на улице, сталкиваясь с реалистами или «сизарями»…
Меняйло медведем шел на меня, я сделал шаг в сторону и наступил на быструю ногу Быстроногого. Он заорал и ожил.
Тут заорали все.
Так не суждено было реалисту Саше стать первым моим покойником…
Красные расстреляли его в Крыму. Стеклянную сеть я обнаружил перевернутой. Дракон ушел, и следов коварной твари я не смог различить в наступающих сумерках, потому что на берега озера Виктория-Ньяса ночь приходит рано и сразу.
Шестое чувство. (Москва, 1934, август)Такой наглой, трудоемкой и бессмысленной акции «Пятый Рим» еще не проводил.
Причем скажу не без гордости, что сам был ее инициатором.
Все это напоминало то, что на фронте именовалось «тухта»: ничего не решающая, но эффектная и заведомо успешная операция для поднятия духа войск…
Готовиться я начал еще в марте, когда сумел убедить Софрония в желательности и целесообразности присутствия нашего человека (в скобках: меня) на грядущем Съезде писателей. Будь здесь Брюс, я мог бы распинаться до второго пришествия; Софроний же был человеком сомневающимся, но при том и рисковым.
– Что же, – решил он, наконец, – пожалуй: нехорошо без пригляда оставлять…
Наверное, теми же словами мотивировал и Сталин необходимость создания единого Союза Писателей.
Весь апрель и половину мая я проходил курс омоложения. Это настолько неприятный процесс, что стоит о нем поговорить особо. Я стал гораздо лучше понимать Ашоку…
Сорок дней следовало соблюдать пост, утоляя жажду исключительно майской росой, собранной с ростков пшеницы, а голод – единственным куском хлеба. На семнадцатый день полагалось кровопускание, и только после этого начинался прием раствора ксериона в малых дозах, постепенно нарастающих вплоть до тридцать второго дня. Потом опять кровопускание, укладывающее вас при такой диете на целую неделю в постель. Мало того, постель приходилось постоянно менять, потому что человек впадал в некое подобие комы и за деятельность организма не отвечал. Потом начиналось кормление легкими блюдами и прием того же снадобья, но уже в гранулах – то есть в настоящих дозах. Постепенно во сне у человека выпадали волосы, зубы, ногти, отслаивалась и сползала кожа. На тридцать девятый день все это безобразие завершалось приемом десяти капель эликсира Ахарата в двух ложках красного вина. Наступал день сороковой, и вы могли считать себя обновленным. Правда, еще две недели было невыносимо тяжело: страшно чесалось все тело и резались новые зубы…
С тех пор я стал гораздо терпимее относиться к вопящим младенцам.
Покуда я мучился, мне выправили новые документы. Теперь я был белым кыргызом, представителем исчезающе малой народности, ютящейся в хакасских степях, жертвы царского самодержавия и помещиков-эксплуататоров (откуда в Сибири взялись помещики, мне неведомо), поэтом-двуязычником и переводчиком народных эпосов. Так что мое включение в состав делегатов от Восточно-Сибирской области выглядело вполне естественным. Имя мое стало Алан Кюбетей, и лет мне от роду было двадцать четыре. Национальный костюм я придумал сам, да такой, что в нем не стыдно было предстать перед самим абиссинским негусом. Когда-то мы с ним расстались друзьями…
Номер в «Национале» мы делили с Ваней Молчановым, который, подобно Суворову, присовокупил к своей фамилии топонимический довесок: «Сибирский».
Дабы не путали его с тем, другим Молчановым, попавшим под кинжальный огонь критики бедного Маяковского. Человек он был не без способностей, в другое время и при других обстоятельствах я бы охотно с ним позанимался, но здесь приходилось ломать комедию. Так, скажем, номер наш был снабжен биде, в котором я незамедлительно омыл уставшие ноги, чем привел Ивана в несказанный восторг. Это могло бы послужить началом цикла легенд, если бы Иван не оказался достаточно тактичен, и если бы подавляющее большинство делегатов не столкнулись бы с этим чудом цивилизации впервые в жизни.
Я предполагал, что господа «красные маги» порезвятся здесь на славу. Ведь, по моей же версии, вся затея эта – со Съездом и формированием единого писательского союза – была ни чем иным, как сооружением огромной астральной пушки, этакой «Большой Берты» ментального пространства, долженствующей обеспечить стратегическое преимущество. Однако, к моему изумлению, Колонный зал освобожден был от кабиров марксизма и украшен портретами Шекспира, Льва Толстого, Мольера, Гоголя, Сервантеса, Гейне, Пушкина и других гениев, которые не то что не могли мне повредить, но даже и прибавляли силы. Оркестр был, на мой вкус, слишком громок; хорошо хоть, пиесу они исполняли достаточно короткую: туш – правда, чересчур часто.
Делегаты расселись и стали шумно ждать. Наконец, грянули аплодисменты. На трибуне воздвиглась сутулая фигура писателя-буревестника. Того самого, чья спасительная для меня телеграмма так и не поспела вовремя… Буревестник был болен. Хуже того: Буревестник был сломан…
– Уважаемые товарищи! Прежде, чем открыть первый за всю многовековую историю литературы съезд литераторов советских социалистических республик, я – по праву председателя оргкомитета союза писателей – разрешаю себе сказать несколько слов о смысле и значении нашего съезда. Значение это – в том, что прежде распыленная литература всех наших народностей выступает как единое целое перед лицом революционного пролетариата всех стран и перед лицом дружественных нам революционных литераторов. Мы выступаем, демонстрируя, разумеется, не только географическое наше единение, но демонстрируя единство нашей цели, которая, конечно, не стесняет разнообразия наших творческих приемов и стремлений…
Вступительное слово мэтра оказалось, по счастью, кратким и достаточно бессодержательным. Потом долго и нудно выбирали президиум, в состав которого вошли немало знакомых мне фигур, в частности – Мариэтта Шагинян.
Вот бы подойти к ней и потребовать вернуть данные ей взаймы в двадцать первом, незадолго до моего ареста, пятьдесят тысяч: так ведь сделает вид, что слуховой аппарат испортился…
Тем временем очередной шквал аплодисментов выплеснул на трибуну секретаря ЦК ВКП(б) товарища Жданова. Так я его увидел в первый раз…
Товарищ Жданов олицетворял собой здоровье и полнокровие партийной жизни. Он развернулся на трибуне во всю ширь и рассказал, сверкая небольшими очами, о непревзойденном гениальном анализе наших побед, сделанном товарищем Сталиным на последнем съезде партии. Постепенно он как-то добрался и до писательских дел.
– Нет и не может быть в буржуазной стране литературы, которая бы последовательно разбивала всякое мракобесие, всякую мистику, всякую поповщину и чертовщину, как это делает наша литература. Для упадка и загнивания буржуазной культуры характерны разгул мистицизма, поповщины, увлечение порнографией. «Знатными людьми» буржуазной литературы, той буржуазной литературы, которая продала свое перо капиталу, являются сейчас воры, сыщики, проститутки и хулиганы. Так обстоит дело в капиталистических странах… – аплодисменты. – Не то у нас. – Аплодисменты. – Наш советский писатель черпает материал для своих художественных произведений, тематику, образы, художественное слово и речь из жизни и опыта людей Днепростороя и Магнитостроя…
Особенно слово и речь, подумал я и сделал вид, что уснул. Молчанов немедленно разбудил меня локтем в бок.
– …Будьте на передовых позициях бойцов за бесклассовое социалистическое общество! – закончил Жданов и снова с удовольствием погрузился в море аплодисментов.
Тут оказалось, что Буревестник сказал далеко не все. Это к лучшему, подумал я, поскольку Алексея Максимовича знал весьма неплохо и ожидал, что он непременно проговорится о подлинных целях съезда.
Зашел Алексей Максимович очень издалека. Со времен превращения вертикального животного в человека.
– Трудно представить Иммануила Канта, – говорил Алексей Максимович, – в звериной шкуре и босого, размышляющем о «вещи в себе»…
Счастливый Буревестник. Мне так вообще трудно представить себе Иммануила Канта хоть в шкуре, хоть и без оной.
– Не сомневаюсь в том, что древние сказки, мифы, легенды известны вам, но очень хотелось бы, чтобы основной их смысл был понят более глубоко…
Я насторожился. Вот сейчас-то он и проговорится насчет здорового пролетарского оккультизма, социалистической эзотерики, передовой коммунистической магии…
– Смысл этот сводится к стремлению древних рабочих людей облегчить свой труд, усилить его продуктивность, вооружиться против четвероногих и двуногих врагов, а также силою слова, приемов «заговоров», заклинаний повлиять на стихийные, враждебные людям явления природы. Последнее особенно важно, ибо знаменует, как глубоко люди верили в силу своего слова, а вера эта объясняется явной и вполне реальной пользой речи, организующей социальные взаимоотношения и трудовые процессы людей.
Знал бы Алексей Максимович, что «древние рабочие люди» могли шутя поднять все это здание со всеми делегатами и перенести его куда-нибудь в Замоскворечье, чтобы не портило архитектурный ансамбль. Так что мимо, дорогой друг. Я облегченно вздохнул.
Далее Буревестник поминал зачем-то епископа Беркли, Христа, Микулу Селяниновича, Арсена Люпена, Тиля Уленшпигеля, Ивана Дурака, Ивана же Грозного, Нестора Кукольника, Пирпонта Моргана… Эрудиция у него была чудовищная. Потом он обрушился на Достоевского и объявил, что Федор Михайлович нашел свою истину в зверином, животном начале человека, а под конец своей бесконечной речи потребовал немедленного написания «Истории фабрик и заводов», причем в качестве положительного примера привел Марию Шкапскую. Бедная Маша, подумал я и толкнул локтем в бок соседа: «Однако, не спи, Иван. Неприлично…»
Доклад длился три часа, а показалось – десять. В перерыве был а-ля-фуршет.
Иван побежал к каким-то московским знакомцам, а я, наполнив свою тарелку всякой всячиной, нашел место за дальним столиком и принялся разглядывать присутствующих. Членов президиума ждать здесь, разумеется, не приходилось: бесклассовое общество никак не могло построиться. А мне так хотелось поближе разглядеть Алешу Толстого… В президиуме он сидел с преувеличенной уверенностью, как безбилетник, проникший в приличный театр. Мариэтта была мне неинтересна во всех смыслах, равно как и Чуковский, а вот с Эренбургом, скажем, хотелось бы обменяться некоторыми соображениями относительно белокыргызской поэзии. Или подстеречь его в Париже?..
Совершенно седая Ольга Дмитриевна Форш, проходя мимо, посмотрела на меня очень внимательно, покачала головой и что-то сказала своему спутнику.
Наверное, она нехорошо подумала о Гумилеве. Я подчеркнуто светски поклонился и даже стукнул несуществующими каблуками мягких ичигов, отчего Ольга Дмитриевна покачнулась и повлекла своего спутника дальше. Уж не знаю, что ей почудилось…
Странное дело: покойником здесь был я, но именно я-то и смотрел на них на всех, как на мертвецов. И, пожалуй, впервые почувствовал, что запах разлагающегося Слова – отнюдь не метафора.